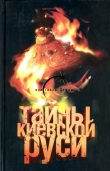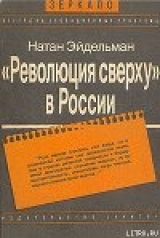
Текст книги "«Революция сверху» в России"
Автор книги: Натан Эйдельман
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
Принцип, противоположный старинному не только в практическом смысле, но прежде и более всего – в нравственном…
В XX веке необходимость известного просвещения была ясна даже консервативным верхам; в какой-то степени оно поощрялось, но в то же время пресекалось из-за боязни, что темные люди начнут слишком много понимать…
Нет ли тут, увы, современных аналогий? Просвещение, образование, конечно, необходимы, но «консервативные верхи», большей частью инстинктивно, а порою и сознательно, всегда опасаются истинного просвещения, которое ведет к самостоятельности, живой инициативе…
Сходные события происходили с 1860-х годов в сфере печати.
Старая, жесткая предварительная цензура заменяется с 1865 года новыми правилами; по-прежнему цензоры читают перед выходом издания сравнительно массовые, для народного чтения, а также наиболее распространяемую периодику; значительная же часть книг, периодических изданий (таких, например, как журналы «Русская старина», «Русский архив») подвергается отныне цензурированию лишь после выхода («карательная цензура»). В этих случаях порою перехватывается часть уже готового тиража, делаются предупреждения, которые, накопившись, позволяют начальству запретить издание.
После 1905 года практически вся цензура действует «вдогонку» опубликованным книгам, журналам, газетам.
Послабление не абсолютное, однако немалое.
И снова, как в просвещении и других сферах, наблюдается известный парадокс.
Власть чувствует определенную выгоду новой печати, возможность на нее опереться и в то же время опасается чрезмерной свободы, время от времени прижимает не только левые, но даже весьма умеренные и консервативные издания.
Повторим, что известный уровень свободы используется отнюдь не только «левыми» но и «правыми», иногда и в большей степени: вспомним споры о дворянском участии в управлении в связи с реформой 1861 года…
Дореформенная власть (в частности, Николай I) была удовлетворена своей узкой социально-политической опорой и не видела в периодической печати серьезного способа расширить свое влияние. Конечно, издания булгаринского типа считались полезными, поощрялись, однако даже таких литераторов Николай I презирал и в лучшем случае «терпел», не говоря уже о более глубокой и высокой литературе.
Любопытно, что после 1855 года российской прессе много лет запрещалось, к примеру, не только критиковать, но даже и называть имя Герцена: власть нуждалась в контркритике, «Антиколоколе», однако никак не решалась доверить эту роль сколько-нибудь независимому печатному подцензурному изданию.
Решилась она на это в 1860-х годах. И тогда, одновременно с выходом, например, декабристских и пушкинских материалов, прежде цензурно невозможных, одновременно с выходом книг и изданий русских классиков, Некрасова, Тургенева, Толстого, Достоевского, Щедрина (что свидетельствовало о значительном расширении писательских и читательских свобод), вчерашний либерал, один из «тузов прессы» Михаил Катков начинает резко, злобно нападать на Вольную печать Герцена…
Приглядимся к «Русскому вестнику» и «Московским новостям» Каткова: они давно числятся по «реакционной части» – жестоко, шовинистически атакуют поляков и других «инородцев», напускаются на либералов, на земские и судебные свободы, нападают на демократию похлеще, чем некогда Фаддей Булгарин.
И все же это совсем не Булгарин. Каткову куда больше можно, разрешено; он позволяет себе многое, прежде неслыханное. С одной стороны, печатает ряд сочинений, играющих заметнейшую роль в русской общественной и культурной жизни, – «Войну и мир», «Преступление и наказание», «Обрыв» (отнюдь не левые взгляды издателя, тем не менее достаточно широкие и многосторонние). При том Катков – за капитализм, за существенные экономические перемены, заводы, железные дороги, но без демократии, без всяких политических уступок. То, что это невозможно, что экономика «тянет» за собою политику, что, ратуя за железные дороги, Катков, даже против своей воли, объективно призывает к обновлению России, об этом пока не думали, этого не замечали. Меж тем влияние «Русского вестника», и особенно «Русских ведомостей», было таково, что, случалось, критика Каткова вела к опале и даже отставке того или иного министра, а это было совершенно немыслимо до реформы! Когда же министры жаловались царям (Александру II и особенно Александру III), те разводили руками и давали понять, что не могут, не собираются ограничивать Каткова (впрочем, иногда даже власть не выдерживала – штрафовала консерватора Каткова или закрывала на время его издания!).
Так, не доверяя и колеблясь, самодержавие и радовалось новой печати, и негодовало; использовало ее для расширения своей основы и в то же время очень боялось, как бы этот процесс не вышел за рамки.
Позже всех была законодательно оформлена военная реформа 1874 года. Замена многолетней рекрутчины всеобщей воинской повинностью, краткими сроками службы была, несомненно, прогрессивным, европеизирующим явлением.
Постоянно отыскивая параллели того и нашего века, усматривая закономерное повторение витков исторической спирали, мы обращаем внимание на некоторые внешние второстепенные стороны военной реформы, которые представляются сегодня особенно актуальными.
Менялся стиль. В военно-учебных заведениях, управлениях – все больше людей интеллигентных, «милютинцев» (в честь проводившего военную реформу министра Дмитрия Милютина). Наука, преподавание, гуманность, знания, все то, что поганой метлой изгонялось из николаевской армии, теперь возвращалось. Разумеется, возвращалось с относительным успехом, с сохранением немалого числа офицеров, представленных позже в купринском «Поединке». И все же общее направление, репутация новой армии соответствовали тому, что происходило в судах, земстве, просвещении. В частности, заметной чертой милютинской политики было бережное отношение к интеллигентной молодежи, стремление не столько перевоспитать армейской лямкой «университетских умников», сколько и у них поучиться…
Итоги
Россия стала другой. Был сделан пусть первый, но заметный шаг по пути превращения страны в буржуазную монархию. Можно сказать, что тип российской жизни определился на несколько десятилетий, по меньшей мере до 1905 года. Это в три-четыре раза меньший срок, чем время действия реформ Петра, однако надо учитывать и значительное ускорение исторического процесса.
Когда мы говорим, что реформ хватило на 40–50 лет, мы отнюдь не предлагаем идиллическую картину гражданского благоденствия. В известном смысле, наоборот, преобразования как раз стимулировали гражданскую активность, и мы частенько путаем резкие выступления против недостаточности реформ и определенные возможности для таких выступлений, которые этими самыми реформами даны!
Да, огромное помещичье землевладение осталось, но крестьяне освобождены с землею и, худо-бедно, до начала XX века серьезных аграрных беспорядков в стране нет.
Самодержавие тоже налицо, но все же – с земствами, судами, с печатью, куда более свободной, чем прежде, с новой армией.
Часто и постоянно пишут, что реформы могли быть много лучше, могли быть «доведены до конца». Позволим себе с этим и согласиться, и поспорить.
Реформы могли быть много хуже – это мы видели, разбирая каждую из них. Осмелимся заметить, что за краткий срок было все же сделано немало: так оценивать велит принцип историзма, меряющий события по законам той эпохи, а не по критериям более поздним.
Дело было не в том, что мало дали, – в исторической негибкости тех, кто давал.
«Революция сверху», с одной стороны, весьма эффективна, ибо осуществляется самой могучей силой в стране – неограниченным государством, с другой – этот «плюс» быстро становится «минусом», как только дело доходит до продолжения, внедрения преобразований.
Начатые сверху перемены могут быть закреплены, усвоены, продолжены только при активном участии, содействии общества.
Вспомним: так было с дворянским обществом, которое весь XVIII век «переваривало» революцию Петра; при этом оно продолжило начатое государством дело, а затем все преобразовало в своем духе (например, потребовало и получило незапланированный Петром закон о вольности дворянской).
Петровские реформы успешно продолжались, потому что дворянское общество и государство длительное время были в целом заодно…
То многое, что было сделано в 1855–1874 годах, также требовало «общественного продолжения», общественного соучастия, но тут-то как раз нашла коса на камень…
Борис Николаевич Чичерин, весьма умеренный либерал из правого крыла профессуры, известный историк и юрист, был избран московским городским головой (что само по себе свидетельствовало о большом доверии к нему властей, так как московские генерал-губернаторы очень сильно вмешивались в подобные выборы). Во время посещения царем Александром III второй столицы Чичерин, как полагалось, произнес речь, где позволил себе крохотные намеки насчет того, что умеренные «солидные» силы купечества, интеллигенции сочувствуют монархии в ее борьбе против «смутьянов», однако, к сожалению, «одно правительство, очевидно, не в состоянии справиться […] Нужно содействие общества. Возможность этого содействия существует; начало ему положено в великих преобразованиях прошедшего царствования. По всей русской земле созданы самостоятельные центры жизни и деятельности. Эти учреждения нам дороги; мы видим в них будущность России… Старая Россия была крепостная, и все материалы здания были страдательными орудиями в руках мастера; нынешняя Россия свободная, а от свободных людей требуется собственная инициатива и самодеятельность. Без общественной самодеятельности все преобразования прошедшего царствования не имеют смысла. Мы по собственному почину должны сомкнуть свои ряды против врагов общественного порядка».
В ответ на такую вполне лояльную декларацию последовало предписание министра внутренних дел, запрещающее публиковать речь московского городского головы, «в которой он требовал конституции». Чичерин побеседовал с несколькими сановниками – никто «конституции» в его речи не заметил; однако вскоре последовало распоряжение свыше: «Государь император, находя образ действий доктора прав Чичерина несоответствующим занимаемому им месту, соизволил выразить желание, чтобы он оставил должность московского городского головы».
В своих мемуарах Чичерин записал: «Великие преобразования Александра Второго были рассчитаны на то, чтобы дать русскому обществу возможность стоять на своих ногах; но и он, и еще более его преемник делали все, что могли, чтобы унизить это освобожденное общество и не дать созреть посеянным плодам. Ныне Россия управляется отребьем русского народа, теми, которых раболепство все превозмогло и в которых окончательно заглохло даже то, что в них было порядочного смолоду».
Заметим, это пишет отнюдь не революционер, человек весьма и весьма умеренных, монархических взглядов. Человек умный, идейный…
Пример другого, а в сущности, этого же рода: талантливейший консерватор В. В. Розанов (впрочем, талант всегда сильнее узкого убеждения, и поэтому Розанов много шире своих установок) – этот публицист порицал власти за их многолетнюю расправу над Чернышевским; объяснял, что тем самым они поощряют революционную мысль, усиливая авторитет осужденного. Розанов утверждал, что Чернышевского следовало бы привлечь к управлению, использовать его способности и честолюбие. Не принимая этого тезиса буквально, глубоко сомневаясь, что Чернышевский пошел бы служить режиму при каких бы то ни было обстоятельствах, отметим «рациональное зерно» в розановских рассуждениях: умение власти отторгнуть, оттолкнуть полезных людей.
Наконец, третий пример, нарочито взятый все из той же сферы крайне консервативной публицистики. Предчувствуя крах режима, Константин Леонтьев всячески подчеркивал, что ему все равно, будет ли заменено самодержавие «мещанской» или коллективно-социалистической системой: в обоих случаях этот публицист видел грядущий триумф толпы, «стада» и, ратуя за сохранение благородного, дворянско-аристократического неравенства, указывал, что только царская власть могла бы возглавить новый рыцарский орден, который спас бы Россию от «грядущего хама».
Однако именно своей, любезной самодержавной власти Леонтьев отказывал в понимании ситуации, не верил, что она найдет энергичных, способных людей, на которых могла бы опереться, выиграет соревнование с другими историческими альтернативами…
Власть не заметила, не смогла заметить тех «козырей», что были у нее в руках после 1861 года.
После длительного перерыва, после николаевского 30-летия, произошло определенное сближение тех, кто сверху проводил реформы, и тех, кто их реализовывал, ими воспользовался. Либеральная интеллигенция, разночинная демократия, большое число молодых людей, и не только молодых, – тех, кто пошел в земства, новые суды, новую армию, в мировые посредники, осуществлявшие на местах крестьянскую реформу: это была значительная, образованная, энергичная масса выходцев из дворянства, духовенства, мещанства, крестьянства. Конечно, они были очень скептически настроены, не доверяли власти, с которой общество «развелось» еще с декабристских времен. Однако были ведь даже моменты, пусть недолгие, когда и Чернышевский включался в процесс, как казалось, мирного обновления; были месяцы и годы, когда Герцен и Огарев из Лондона писали царю Александру II: «Ты победил, Галилеянин», когда Герцен повторял: «Мы с тем, кто освобождает, пока он освобождает».
Наконец, кумир нескольких поколений Дмитрий Иванович Писарев советовал молодежи «дело делать», Россию преобразовывать «химией»…
Если бы «верхам» удалось вступить с этой массой хотя бы приблизительно в те же отношения, в каких дворянская империя XVIII века была с десятками тысяч активных, просвещающихся дворян, тогда…
Тогда многое можно было бы сделать. Тогда обновленное государство получило бы, можно сказать, могучую многомиллионную армию «внутренних сторонников».
Однако века самовластия, крепостничества, отсутствия демократии делали свое дело. Временно, под давлением тяжелейших поражений – и притом с неохотой, опаской – власть подключает общество к своим преобразованиям. И тут же исчерпывает свой порыв; не только не использует огромную умственную и практическую энергию, созданную реформами, но буквально с первых лет начинает ей противодействовать.
Молодые люди стараются сеять «разумное, доброе, вечное» – идут в земства, лечить, учить, просвещать; власть им не доверяет – выслеживает, притесняет, вызывает сопротивление и довольно быстро превращает в революционеров – тысячи базаровых.
Точно так же заподозрены, в лучшем случае допущены к деятельности под недоверчивым надзором, и те, кто стремится к развитию производительных сил, капитализма. У нас традиционно принято восторгаться революционным делом; куда реже мы задумываемся над тем, что большинство конспираторов изначально хотело заниматься другим – непосредственной созидательной деятельностью; что Софья Перовская вовсе не собиралась идти в террористки, а до того долго учительствовала и врачевала по деревням. Суть дела хорошо понял Максим Горький: познакомившись с необыкновенной революционной биографией Германа Лопатина, с его бурной деятельностью в подполье, дерзкими побегами, многолетним заключением в крепости, писатель заметил, что «в стране культурно дисциплинированной такой даровитый человек сделал бы карьеру ученого, художника, путешественника…».
Для того чтобы привлечь или, по крайней мере, не противопоставить себе подобных людей, консервативному Дворянству, власти нужно было еще уступить, дать хотя бы элементарную конституцию, и главное – проявить гибкость; усовершенствовать, развивать, а не урезывать то, что было дано в 1850–1860 годах.
Иначе говоря, преобразования сверху даже в такой «государственной» стране, как Россия, обязательно требовали на следующих этапах нового подкрепления снизу. Иначе дом оставался без фундамента, точнее с недостаточным, «плохо рассчитанным» фундаментом, и такое здание могло легко рухнуть, если усилится давление снизу или сверху…
Справедливости ради заметим, что среди государственных деятелей были и такие, которые видели опасность, понимали необходимость укрепления, расширения основы у пореформенной монархии. Таков был брат Александра II великий князь Константин Николаевич; необходимость продолжения, усовершенствования реформ в той или иной степени понимали также братья Милютины, Валуев, позже – Лорис-Меликов, Игнатьев, Витте, Столыпин; близкий к Константину Николаевичу министр просвещения 1860-х годов А. В. Головнин пророчил: «За последние сорок лет правительство много брало у народа и дало ему очень мало. Это несправедливо. А так как каждая несправедливость всегда наказывается, то я уверен, что наказание это не заставит себя ждать. Оно настанет, когда крестьянские дети, которые теперь грудные младенцы, вырастут и поймут все то, о чем я только что говорил. Это может случиться в царствование внука настоящего государя».
Внуком Александра II был Николай II…
Эпилог I
«Если в стране сильны традиции военщины и бюрократизма в смысле невыборности судей и чиновников…»
В. И. Ленин
Практика революционеров 1860-х годов (вспомним прокламацию Чернышевского «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон»), опыт народничества показали, что хождение в народ, попытка побыстрее зажечь революцию снизу не получается (Бакунин и некоторые другие теоретики ошибались, видя в народе «коллективного Стеньку Разина» и полагая, что нужно лишь «громко свистнуть в два пальца», – поднимутся!).
Тогда-то, в новых условиях и по-новому, происходит как бы возвращение (в известном, конечно, смысле) к декабристской тактике: революция не народная, но силами сравнительно небольшой группы, «сверху», которая в случае успеха заменит собою существующую верховную власть.
Исключительная централизация, многовековое преобладание движений сверху над течениями снизу – все это определяло характер новой революционной попытки, ее силу и в то же время узость, зависимость от случая.
1880–1881 годы. Все происходит по формуле, предсказанной в пророческом письме Серно-Соловьевича: власть уступает только под давлением силы; террор народовольцев заставляет дать ряд льгот крестьянам, обратиться к либеральному обществу, наконец, решиться на созыв Всероссийского земства, то есть, по сути дела, на конституцию…
Однако в тот самый день, когда Александр II подписывает документ об этом созыве, а Лорис-Меликов, выходя из кабинета царя, мечтает, чтобы Александр II обязательно дожил до 8 марта (через неделю правительственное сообщение должно быть опубликовано), Александр II гибнет именно в этот день от бомбы Гриневицкого.
Оценив двойственность, коварность политики репрессий и уступок, проводившейся властями в 1880–1881 годах, не раз уже нами упомянутый выдающийся знаток внутренней политики России П. А. Зайончковский в то же время заметил: «Народовольцы игнорировали те уступки, на которые пошло правительство под непосредственным влиянием их же революционной борьбы…
Тот факт, что «Народная воля» в условиях отсутствия массовой революционной борьбы не внесла никаких изменений в свою тактику в связи с реформаторской деятельностью Лорис-Меликова, свидетельствует о недооценке ею изменившихся условий.
Решение задач привлечения народных масс к революционной борьбе с правительством […] проходило и в дальнейшем могло бы проходить более успешно в условиях лорис-меликовского режима, явившегося порождением их героической борьбы.
Проект государственных реформ, разработанный министром внутренних дел, в отличие от предшествующих его докладов, содержал довольно широкую программу не только административных преобразований, но и экономических мероприятий. Намерение привлечь цензовую общественность к участию в подготовке реформ означало стремление правительства расширить свою социальную базу».
Случившееся в марте 1881 года определило смысл многих последующих событий.
1880–1890 годы. Контрреволюция сверху Александра III: ряд контрреформ, урезывающих дарованные в прошлом царствовании экономические и политические свободы – расширение произвола властей над освобожденными крестьянами, уменьшение земских, городских, университетских, цензурных «допусков».
Однако инстинкт наиболее дальновидных деятелей власти и теперь подсказывает необходимость поисков новой основы, «укрепления фундамента».
Не обращаясь к разночинной молодежи, земским, судебным и городским деятелям, власти дают определенный простор капитализму: огромный промышленный подъем 1890-х годов, строительство железных дорог, С Донбасса, Кривого Рога, ввоз иностранных капиталов. Впрочем, обновляющаяся экономика, в отличие даже от 1860-х годов, почти никак не дополняется политикой.
Логично было бы параллельно расширить права и свободы наконец-то «повзрослевшей» российской буржуазии; однако мы помним, как Александр III разговаривал с московским городским головой Чичериным; тем же буржуазным деятелям, которые теперь испытывали сильную потребность организоваться политически, – будущим кадетам и октябристам, – приходилось собираться в подполье или за границей. Почти одновременно, в первые годы XX века, образуются партии социал-демократов, эсеров, а также «Союз освобождения» (завтрашние кадеты). Образуются нелегально, ибо никакой легальной конституционной основы не было.
Контрреволюция сверху лишь усиливает противодействие снизу, которое в конце концов выливается в грандиозную революцию 1905–1907 годов.
Революция не опрокинула самодержавие в результате отчаянных правительственных действий – как карательных, так и уступающих.
Мы столь громко и сильно констатируем разгром первой русской революции, что, случается, забываем: зарплата рабочих и служащих после того серьезно увеличилась, они получили право на профсоюзы, кооперации и другие объединения; значительно увеличились права прессы, земства и судов.
Наконец, возникновение Государственной думы, парламента: через 95 лет после Сперанского, через 44 года после освобождения крестьян.
Снова власть отступала, не возглавляя; ненавидела, но не умнела. Частным, но поразительно характерным эпизодом явился вопрос о земельной реформе осенью 1905 года: испуганное правительство Николая II, чтобы уцелеть, в какой-то момент было готово «кинуть» крестьянам примерно 25 миллионов десятин, в том числе немалую часть помещичьих земель, и главноуправляющий землеустройством и земледелием Н. Н. Кутлер составляет соответствующий проект. Меж тем выясняется, что апогей революции позади, натиск ее несколько ослабел, и тут же злобная месть Николая II и реакционного дворянства обрушивается на министра – «как он посмел'«. Попытки Витте повести дело прилично и пересадить Кутлера сначала в Государственный совет, потом в сенат оканчиваются ничем – самодержавие рвет и мечет, знать не хочет того, в ком только что видело спасителя.
В результате обиженный Кутлер уходит в Государственную думу, к кадетам, ясно видя безнадежность царского дела, выбрасывающего вон «своих людей», а в будущем перейдет на службу революции.
На первых советских червонцах 1920-х годов стоит подпись одного из руководителей Госбанка Н. Н. Кутлера…
1905–1907 годы. Аграрный и другие вопросы не решены, история же предлагает три пути: 1) продолжение революции снизу, что представляется весьма реальным; 2) контрреволюция сверху: в какой-то степени она осуществляется; переворот 3 июня 1907 года – разгон 2-й Государственной думы – довольно отчетливый пример.
Однако большего правители себе позволить не могли. Кроме нового избирательного закона (увеличившего представительство в думе крупных землевладельцев и буржуа) никаких серьезных контрреформ не последовало. Совсем ликвидировать думу, отнять ряд отвоеванных свобод – об этом мечтали лишь самые безумные черносотенцы и оголтелые члены Союза объединенного дворянства.
При угрозе новой революции снизу и скромных успехах контрреволюции сверху делается попытка третьего пути – еще одной революции сверху…
Понятно, мы говорим о Столыпине и его реформах, которые Ленин определил как второй шаг России по пути к буржуазной монархии.
План Столыпина известен, хотя наша литература не (всегда представляет его с должной исторической объективностью. Идея внешне проста: вместо того, чтобы наделить крестьян помещичьей землей, предлагается обогатить одних крестьян за счет других, а для того – распустить общину, облегчить переход того, что принадлежало беднякам, в собственность зажиточных мужиков; остальных должен принять, во-первых, город, его фабрики и заводы, а во-вторых, окраины, куда организуется массовое переселение.
Дворянство очень косо отнеслось к поощрению «чумазых лендлордов»; перед первой мировой войной, как известно, из общины вышло около четверти крестьян – торжеству фермерства с разных сторон препятствовал консерватизм как помещичьего, так и мелкокрестьянского хозяйства. И тем не менее нужно с вниманием отнестись к знаменитой формуле Столыпина: «Дайте мне 20 лет, и я преобразую Россию!»
То была серьезная, последняя альтернатива старого мира, попытка избавиться от взрыва снизу путем «революции сверху» и создания новой массовой опоры режиму. По мнению Ленина, столыпинское аграрное законодательство, хотя обеспечивает лишь «самое медленное, самое узкое, наиболее отягченное следами крепостничества капиталистическое развитие», тем не менее «прогрессивно в научно-экономическом смысле», ибо Россия страдает и от капитализма и от недостатка капитализма.
Действительно, если бы Столыпин имел 20 лет, то эти перемены, возможно, оказались бы серьезнейшим явлением; теоретически возможность длительной столыпинщины допускали, между прочим, и большевики.
Столыпинский путь был страшен, жесток – «по-турецки, по-старокитайски» (Ленин); однако это путь буржуазного прогресса, с сохранением помещиков и самодержавия, с Государственной думой.
Серьезность альтернативы доказывается и той жесточайшей борьбой, которую повели против Столыпина политически совершенно противоположные лагери. С одной стороны, новый премьер и его политика подвергались разнообразным революционным ударам. Большевики рассматривали борьбу со Столыпиным как проблему классовую, эсеры же, анархисты в немалой степени сражались с личностью самого Стольшина, вели террор и против членов его семьи. В 1911 году Столыпин, как известно, погиб от пули террориста Богрова. Поражающим российским парадоксом было то обстоятельство, что пропуск для убийцы (подпольщика, связанного с охранкой), саму возможность этого покушения, фактически обеспечили крайнему революционеру крайне правые противники Столыпина, в частности начальник царской охраны генерал Курлов.
Правое дворянство и весьма прислушивающийся к нему Николай II видели в Столыпине «нарушителя вековых основ», передававшего исконную дворянскую власть – буржуазии.
Когда (1912) меньшевистский публицист Гушка (Ерманский) писал об усилении общественной роли крупного капитала в России, Ленин резонно возражал, что для буржуазии «проигрышная позиция – лес, железные дороги, земство и парламент. […] становится еще глубже противоречие между сохранением 99/100 политической власти в руках абсолютизма и помещиков, с одной стороны, и экономическим усилением буржуазии, с другой» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 21. С. 296, 297).
Напомним, что после Сперанского до февраля 1917 года не было, кажется, ни одного русского министра, родившегося у родителей-»разночинцев». Недовольные насаждением в деревне опорного слоя богатых крестьян, реакционные дворяне были особенно взбешены, когда Столыпин попытался создать политический эквивалент своей экономической реформе. Речь шла на этот раз о проекте бессословного земства, иначе говоря, – об усилении роли недворянского элемента в местном управлении.
Малейшую уступку политической власти верхи воспринимали как совершенно невозможную, и в этих-то кризисных условиях и обстоятельствах вспомнили о старинном методе, «удавке», обращенной, впрочем, не к монарху, но к первому министру.
Ослепленные своими узкоэгоистическими интересами, эти люди не чувствовали, что история отпустила им всего 6 лет. Препятствуя столыпинскому перевороту сверху, они существенно ускоряли взрыв снизу – 1917 год.