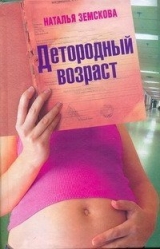
Текст книги "Детородный возраст"
Автор книги: Наталья Земскова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– Ужас.
– Да нет, теперь дружат семьями, и кто-то из них обеих женщин называет мамой. Не помню кто. Это из-за того, что в деревне. Жили бы в мегаполисе, разъехались бы по разным районам и забыли. Русская рассказывала, что ее сразу насторожили черные как уголь глаза ребенка, но она успокаивала себя тем, что у нее черноглазый и черноволосый брат. А Язиля призналась, что всегда мечтала иметь ребенка с голубыми глазами.
– Ну, вот тебе, сработала программа. Хотя, конечно, странная подмена: ребеночку ведь сразу надевают на ручку бирочку с фамилией матери.
– Ой, я же говорю, акушерка оказалась пьяная. Один мой коллега снял об этом документальный фильм, который сразу собрал на фестивалях тучу призов.
– Ну вот, а ты говоришь «журналистика факта». Факт уложился бы в абзац, а тут и фильм, и очерк. Чем сидеть и фантазировать про эльфов и воинов света с волшебными мечами, уж лучше рассказывать то, что было с реальными людьми и как они из этого выпутывались.
– О! Вспомнила еще один сюжет. Этот я сама нашла… Кто-то из знакомых упомянул в разговоре, что его соседка по даче, певица, удочерила девочку-подростка, при каких-то странных обстоятельствах. Отправилась в театр, нашла певицу – ее Людмила Николаевна зовут. Оказывается, эта девочка – дочка другой актрисы, с которой она даже не дружила. Они жили в одном доме, и вот однажды поднимается она к себе по лестнице, а на площадке эта девочка. Два часа назад «скорая» увезла ее мать, и она не хочет идти домой. Отец был пьющий, а на тот момент и вовсе куда-то исчез. Людмила забрала ребенка домой и оставила на время, пока мать не поправится.
– А мать умерла.
– Да, в тот же вечер. И Людмила Николаевна мне рассказала: «Вот представьте, мне ехать на гастроли в Данию, контракт подписан, и такая ситуация… Поломала голову, устроила на два месяца ее в лагерь – благо дело было летом. Моя мама ездила, навещала. А вернулась и вижу: домой Дина не хочет. Спрашиваю: „Поживешь у меня?“ – „Поживу…“ Так всё и решилось. Оформила опекунство, отец не возражал. Только как-то мне ее мать приснилась. Стоит посреди комнаты и спрашивает: „Зачем тебе моя дочь?“ Я растерялась, а потом отвечаю: „Это не она мне, это я ей нужна“. – „Ну что ж, коли так, бери“. Проснулась в холодном поту».
– А теперь?
– Дине что-то около двадцати сейчас, она учится, всё хорошо. Зовет Людмилу мамой и скрывает от новых подруг, что она неродная. Нет, ну представь, споткнуться о чужого ребенка на лестнице и взять его себе! Не так давно мы виделись, и Людмила Николаевна вся сияет: у нее взрослый сын, а теперь вот и дочь подросла.
– Но ведь она могла всё это тебе не рассказывать?
– Могла. Но это тоже часть профессии – сделать так, чтобы тебе рассказали. Часто люди говорить говорят, но «только вы об этом не пишите». А мне всегда казалось, вот об этом как раз и нужно писать…
От этих разговоров с Зоей я, кажется, не устаю.
У нее тоже пока ничего не понятно. Чувствует себя вполне прилично, но Реутова с каждым ее анализом мрачнеет и назначает новые. Анализы анализами, но есть нечто еще, тончайшее и сложнейшее. Понять и изучить это нечто мы сегодня не можем, но можем действовать на уровне интуиции. Нужно быть собранным и не делать неверных движений. Только непонятно, какие верные, какие – нет. Это как в любви в начале отношений, когда всё неустойчиво и зыбко, и любое неосторожное движение или слово может всё разрушить.
Время от времени нас развлекает ящик.
По телевизору мы смотрим всё что угодно, только не новости. Всё самое важное происходит здесь и сейчас, а остальное мозг отказывается воспринимать и анализировать. Ну очередной теракт – и что? В сравнении с тем, что Оля Старцева может погибнуть при родах, а Громкую Зою, скорее всего, простимулируют на шести месяцах, это мелочи бытия.
Ночью, когда я опять вставала и, как привидение, бродила по коридору, оттого что затекла поясница, меня позвала Оля и попросила:
– Маша, дай слово, что ты напишешь об этом роман. Я уж и название тебе присмотрела.
– Какое название?
– «Детородный возраст».
– Ну какой же это роман в отсутствие действия? Все герои – по больничным койкам…
– Зато название хорошее. Ведь жалко, если пропадет.
– Название – хорошее.
– Мне что хотелось сказать… Ты так долго лежишь – и всё время с печальным лицом. Конечно, трудно, в одной и той же позе. Но подумай, когда еще получится просто так полежать, побалбесничать? И сколько раз в жизни ты об этом мечтала? Просто так лежать – и всё! Ну вспомни! Вот теперь и отлежишь и за прошлое, и впрок.
Оля права. Один из способов что-то преодолеть – не сопротивляться, а поддаться. Принять. Пока сопротивляешься, придаешь врагу силы и, как ни странно, отдаляешься от цели. Как же я сама-то до этого не додумалась, любительница парапсихологической макулатуры?..
Глава IV
26–28 недель (1)
Я лежу и смотрю в потолок. Сегодня он праздничный, весь в голубых и розовых воздушных шарах. Вчера у Тихой Зои был день рождения, и ее муж затолкал в палату уйму гелиевых шаров, которые немедленно прилипли к потолку, покрыв едва ли не всю его поверхность.
Реутова, печальная и строгая вопреки этой легкомысленной обстановке, вдоль и поперек измеряет мой живот. Живот всё еще небольшой, особенно когда лежишь, но, если матка напрягается сильно, сразу становятся видны его размеры: раз – и вся поверхность стала гладко-тугой и упругой, как прорезиненная доска, которая стоит колом или асимметричной горкой в зависимости от ее прихоти. Она заметно выросла, раздалась, набрала силу, и если раньше я эти сокращения отслеживала по ощущению, то сейчас их видно воочию. Особенно пугаются дежурные врачи при вечернем обходе:
– У вас что, схватки?!
Привыкнуть к такому зрелищу нельзя, и я стараюсь не смотреть.
– Маргарита Вениаминовна, а это не вредно?
– Что именно?
– Хочу спросить: не вреден ли гинепрал?
– Это самый современный препарат. Возьмите на посту инструкцию, прочтите.
– Читала. Там написано, химия, он же синтетический.
Реутова сделалась еще печальнее:
– Так и написано?
– Но ведь химия…
– Да его «вред» ничто в сравнении с тем, что получит ребенок при преждевременных родах. Аппарат искусственной вентиляции, препараты жизнеобеспечения, антибиотики… Мало того что он испытывает огромный стресс, так еще и не может сосать. Зонд, через который кормят, тоже травмирует, да еще опасность инфекции… Радуйтесь, что изобрели гинепрал, несколько лет назад такого счастья у нас не было, и выбросьте из головы всю «вредность». Сколько дней капают?
– Три. И всякий раз ребенок так бурно двигается, что мне страшно. Он крутится, как маленькая турбина, почти без пауз. Может, ему плохо? А когда капельницу убирают, сразу успокаивается, не буйствует.
– В первые дни такое бывает. Мария Федоровна, мы всё делаем правильно. Я знаю, тяжело и страшно, но это же не на всю жизнь, Помогите мне вам помочь, потерпите, не истязайте так себя.
«И меня», – словно недоговаривает она.
Я лежу, смотрю на пустую Зоину кровать, Реутова перехватывает мой взгляд и отвечает на немой вопрос без выражения:
– Пока всё так же. На стимуляцию не соглашается, но в любой момент это могут сделать по показаниям. Всё, отдыхайте.
– Маша, да не мучай ты ее. – Тихая Зоя, укутавшись в три одеяла и устроившись в полулежачем положении, посылает мне из своего угла шар ярко-розового цвета, наблюдая, как точно он опускается прямо в руки.
Зое запретили ходить домой на выходные (да и почти всем теперь запретили), так что день рождения пришлось отмечать здесь. Муж притащил гигантскую корзину винограда, слив и нектаринов и велел нам есть под музыку Первого концерта Чайковского, объясняя, что это благотворно воздействует на наших детей. Притащил и Чайковского, и я в который раз поразилась, как уместна эта музыка в любых декорациях, даже в больничных.
А может быть, именно в больничных.
Если бы я была президентом, то в приказном порядке заставила бы транслировать Чайковского по всем радиостанциям и музыкальным каналам. Как образец гармонии. Чтобы он звучал специально для масс из всех динамиков в качестве музыкальной терапии, особенно в транспорте и на городских рынках.
Как это всегда бывает, положительный момент с Чайковским немедленно был уравновешен отрицательным: ночью в больнице лопнули трубы, температура упала до десяти градусов, все съежились и забились в щели.
– Ой, какую мне занятную книжечку подруга прислала. Маша, посмотри. – Зоя отправляет мне еще один шар, а за ним ладный самолетик из цветной бумаги, подаренный ей семилетним племянником. – Нет, лучше послушай. Тест на «вшивость»: способны ли вы выиграть миллион долларов? Десять вопросов. Маша, ты готова? Первый… Хотя зря стараюсь: тебе всё равно не дадут.
– Почему?
– Ну… Выйти замуж за образованного, интеллигентного, порядочного молодого мужчину, который имеет недвижимость, зарабатывает, происходит из приличной семьи, не имеет романа с алкоголем (так, ничего не забыла?) и бывших жен – всё равно что выиграть миллион долларов. Так что свой миллион ты уже получила.
– Забыла добавить: красавца.
– А вот это как раз относится к недостаткам.
– Лучше сказать, к налогам. Ну, любой выигрыш всегда ведь облагается налогом, что, собственно, не умаляет его ценности. И вообще, к этому привыкаешь на третий день.
– Слушай, а давно ты вышла замуж?
– Чуть больше года, хотя теперь мне кажется – сто лет назад.
– И платье было?
– Было. Красное. Ужасно хотелось длинное красное платье.
– Удивительно: где ты его взяла?
– Платье?
– Да жениха, при чем здесь платье?
– Друзья позвали на очередной сплав. Слово «байдарка» для меня пароль: я собралась за пять минут, но сказала, чтобы второго человека в лодку они искали сами, у меня в окружении не было никого…
– Как просто всё. На внешнем плане.
Вот именно – на внешнем. И всё было совсем не так. Не совсем так.
Олег улетел в Штаты, а за неделю до этого я ушла от него прямо среди ночи. Будущего у нас не было, и меня так измучили мелкие частые размолвки, что я не желала терпеть даже эти несколько дней. Он что-то опять сказал или, напротив, не сказал, и я, удивляясь тому, как легко несут меня ноги, бегом скатилась с его десятого этажа, выскочила из подъезда и летела до самого дома, словно у меня выросли крылья. И было совсем не страшно нестись по пустынной дороге с мигающими светофорами, где, кроме меня, кажется, не было ни одного человека. Конечно, это был не лучший, но и далеко не худший выход – так извести себя зависшими в одной плоскости отношениями, чтобы разрыв показался избавлением.
А может, я всего лишь торопилась уйти первой?
На то время, что еще оставалось до его отъезда, я уговорила редактора дать мне фантастически длительную – шесть дней – командировку и уехала на север области, писать об отце, который выкрал у бывшей жены собственного ребенка, так как та не давала им видеться. И, оказалось, ехала не зря. Правда, дело там было совсем не в ребенке, а в битве двух мужчин, двух самцов – зятя и тестя, каждый из которых не желал уступать другому «свою» женщину. Одному из них она приходилась дочерью, другому – женой. И никакой тебе интимофобии. Мобильные телефоны у нас тогда практически не водились, и я была счастлива от одной мысли, что дозвониться до меня невозможно. Собрав материал этой местной санта-барбары и дождавшись того момента, когда, по моим подсчетам, самолет Олега взмыл в небо, я всё с теми же крыльями за спиной вернулась в город и как ни в чем не бывало села отписываться. А в город явилась золотая осень, и так мне было в этой осени легко и свободно, что я с Анькой чуть не ежедневно отправлялась бродить в Летний или Александровский сад – праздновать эту свою свободу. С тех пор я знаю: каждое решение, пусть даже самое болезненное, должно быть вызревшим, сформировавшимся. Зрело-зрело – и отвалилось само: не нужно ничего ни рвать, ни резать, ни тащить, как репку. Пользуясь этим состоянием, я даже сходила в его квартиру – у меня оставались ключи – забрать свои вещи и проститься с этим периодом жизни.
Эйфория длилась месяц-другой. После трех лет жизни на два дома я поражалась тому, что жить, оказывается, можно просто так, не кромсая себя на куски и не подгоняя под ситуацию, как перекроенную одежду. Напоминая себе вернувшегося в семью после загула мужа, я день и ночь занималась ребенком, пытаясь возместить ущерб, причиненный моим отсутствием, чем изрядно ее смешила и озадачивала.
Ломка началась позже, когда я поняла, что мне трудно бывать там, где мы бывали вместе. Близились очередные выходные, Аньку забирал отец, а я не знала, куда мне лучше отправиться – в бассейн, театр или любимый Павловский парк. Несмотря ни на что Олег был отличный товарищ, везде и всюду мы ходили вместе. И главное – байдарка. Вместе с нашим разрывом обрывались и байдарочные походы, квинтэссенция всего лучшего и волшебного, что было в наших отношениях. Однажды, убирая квартиру, я наткнулась на фотографии со сплава и, сколько ни сдерживалась, разрыдалась так, как рыдают по тому, что уходит безвозвратно и навсегда. В кавалеры в это время ко мне набивались одни необразованные хамы или вежливые недоумки, и мне уже начинало казаться, что всё мужское население страны, кроме Олега, не отличает Гоголя от Гегеля, а Маркса от Маркеса. Я поняла, что бессознательно ищу ему срочную замену, и жизнь, как водится, посылает мне обратное. Слава богу, друзья у нас все-таки были разные. Я достала из нафталина всех забытых подруг и приятелей.
Больше всех мне помог Димочка, наш завотделом рекламы. Димочкой все его звали за бесконфликтность, коммуникабельность, молодость и улыбчивость. Когда он заявился к нам сразу после института, элегантный, как князь Болконский на первом бале Наташи Ростовой, девицы, пребывающие на рынке невест, сделали стойку, но быстро и в растерянности отступили. Он не реагировал на женщин никак, всем видам общения предпочитая компьютер. Меня от роли кандидатки в невесты защищала десятилетняя разница в возрасте, я, как и Димочка, была не питерская, а приезжая и, как он, обожала длительные прогулки. Мы подружились. Дружба заключалась в том, что по пятницам мы тащились пешком с Фонтанки до Васильевского острова, а после ехали – каждый к себе. В выходные опять где-нибудь бродили, но уже в пригороде. Димочка рассказывал про родителей, про брата, про свой городок, объяснял, что мы, журналисты, ни фига не смыслим в его любимой рекламе, что скоро все газеты будут выходить в электронном виде – я улыбалась и в нужных местах говорила: «Да ну?» Несколько раз он даже был у нас в гостях, мы вместе готовили, обедали, а после опять отправлялись ходить и ходить. Я выхаживала, латала черную дыру, оставшуюся после Олега. Иногда мне казалось, что и Димочка «выхаживает» что-то подобное. Так до сих пор и не знаю что.
А потом я от всего устала и однажды утром проснулась со зверской решимостью сделать ремонт. И не просто ремонт, а реконструкцию всей квартиры. Всё сломать и перестроить заново. Еле дождалась лета, отправила Аню к бабушкам, нашла шабашников и заставила их сломать всё что можно и выбросить на помойку. Я двигала стены, прорубала арки и сдирала всё – от кафеля до подоконников. Когда всё старое пространство было ободрано и вынесено прочь, выяснилось: чтобы реализовать всё, что я напланировала, требуется сумма, раза в три большая имевшейся в наличии. Приложив тьму усилий, я получила ссуду и отправилась по магазинам стройматериалов. Впервые в жизни я делала ремонт сама, по ходу пьесы убеждаясь, что это лучшее средство от постразводного синдрома. Разговоры о том, какой обойный клей лучше и экологически чище, а какой линолеум ляжет ровнее всего и притом не будет вонять три месяца, отлично затягивают раны и загружают голову. И, как это ни странно, действительно меняют жизнь. Хотите поменять жизнь сверху донизу – бросьте всё и делайте ремонт, по возможности самый навороченный и энергоемкий. Гулять, как, впрочем, и спать, мне теперь было некогда. Димочка слегка обиделся, но я вновь ощутила вкус жизни и, колдуя над своим жизненным пространством, почти забыла и про Олега, и про свою депрессию.
Постепенно наша трехкомнатная панелька превратилась в небольшой дворец золотисто-зеленых и серебристо-розовых тонов, я с восторгом поджидала дочкиного возвращения, сделать оставалось всего ничего, и тут позвонили друзья и позвали на сплав. На байдарке. Друзей было двое – муж и жена Новгородцевы, оба компьютерщики, я дружила сначала с ним, затем с обоими, но в последнее время мы как-то потерялись, хотя регулярно созванивались.
– Я что-то не слышу вашего радостного вопля, мадам, – заметил Володя.
А я просто потеряла дар речи: это правда, в моей жизни опять будут скалы и будет байдарка? Байдарка, с которой я уже простилась навеки?
– У меня голова в цементе и краске.
– Ну, в общем, собирайся, выезжаем через неделю, – взяла параллельную трубку Наташа. – Вторую лодку мы нашли. Она не новая, зато бывалая и целая.
– Только второго в лодку тоже ищите сами, – ответила я в полном смятении. – Мне неважно кто, лишь бы греб.
Так я познакомилась с Алешей.
* * *
Ребята выбрали речку Вишеру на севере Предуралья, и мы ехали туда сначала тридцать часов поездом, затем двенадцать часов автобусом, а после еще двенадцать и вовсе лесовозом – по бездорожью, через какие-то речки и пропасти, над которыми были проложены бревна вместо мостов. В кабине лесовоза отсутствовало лобовое стекло, водитель был вдребезги пьян, но, когда я ему попеняла на это, он всей душой изумился:
– Дык… Трезвым-то туда не доедешь!
И точно, земля у нас проваливалась под колесами, раза три мы чуть не опрокинулись в карьер, бревна ломались и трещали, и, когда к вечеру мы прибыли на место, всем уже было не до красот и вообще ни до чего.
Не помню, как я влюбилась в Алешу. Быстро.
Он оказался отличным гребцом, и мы всё время отрывались от Новгородцевых, а после дожидались их где-нибудь под скалой. Мне грести не пришлось вообще.
А потом мы ходили в деревню за рыбой, и я почувствовала внутри эту тяжесть возникшего чувства: оно разрасталось, распирало, мешало дышать. После, где-то спустя год, прочитала у Цветаевой: «Точно гору несла в подоле – всего тела боль. Я любовь узнаю по боли всего тела вдоль. Точно нору во мне прорыли…» Всё хорошо, и на сотни километров никого нет вокруг, мы молоды и счастливы, но тяжесть такая, что мне трудно даже говорить и следить за нитью разговора. Не помню, о чем спорили и над чем всё время смеялись, не помню ни одной шутки и ни одной паузы, а вот тяжесть эту – будто было вчера.
Маркса от Маркеса и Гоголя от Гегеля он, разумеется, отличал. И даже более чем. Он был один из самых начитанных из тех, с кем мне довелось встречаться. Он прекрасно ориентировался не только в литературе, но и в театре, кино, архитектуре, истории. После сплава я с изумлением обнаружила у него дома и Маркеса, и Сартра, и Ричарда Баха, и даже всего Кастанеду. Алеша был невероятно приветлив и открыт, он непрерывно радовался какой-нибудь причудливой коряге на берегу и восхищался чистотой реки. В сущности, недостаток у него был один-единственный: выглядел мой новый знакомый неприлично молодо, гораздо моложе своих тридцати пяти. А я-то всегда мысленно видела себя рядом с мужчиной постарше, короче, подсознательно искала себе «папочку», мне не хватало рано ушедшего отца. Да и внешне это был совершенно не мой тип: утонченный и слишком красивый для мужчины, ни одной жесткой и сколько-нибудь грубой линии. Сама не знаю почему, я прозвала его «лейтенантом сорок пятого года». Словом, картинка явно не совпадала. Но сомневалась и торговалась я с собой недолго. «В конце концов, – сказала я себе, – может быть у тебя хоть раз в жизни легкий, ни к чему не обязывающий роман? Хотя бы один раз? Чтобы встречаться просто так, без этих железобетонных планов на будущее, которые только всё портят, мешая радоваться текущему моменту. Если любовь – это болезнь, то ведь можно перенести ее в виде насморка, необязательно доводить до крупозной пневмонии!» Что касается декораций и условий, которые предлагались для романа, то они были идеальными: никакой посторонней публики – коллег, родственников и знакомых, никаких тебе глупых дел, никакой работы. Теперь мне кажется, что тогда я напрочь всё забыла – и недоделанный ремонт, и Олега с его Америкой, и даже родную дочь. Наташа и Володя были единственными людьми, с кем мы общались. А они или не замечали того, что с нами происходит, или тактично делали вид, что не замечают. Зная, что бесконечно так длиться не может – маятник непременно качнется в другую сторону, – я относилась к этому как к подарку, радуясь каждой минутке и каждому новому повороту реки. Кроме того, нам всем четверым было рядом так хорошо и легко, что мы просто расслабились и балбесничали. Володя оказался мастером лимериков. Это такие забавные пятистишия с заданной первой строчкой и парадоксально-забавной последней. Он был напичкан ими до отказа – своими и чужими. Дома он зависал на сайте, где их дружно сочиняют, так что недостатка в этого рода поэзии мы не испытывали. Многим сначала трудно поймать кайф от лимерика, но его прелесть именно во вздорности и внезапности хода мысли. Некоторые засели в голове и торчат там до сих пор.
Говорят, что у нас на Урале
Деревянный компьютер собрали.
Без гвоздей, топором —
Винт, модем, CD-ROM…
Мышь живую в сарае поймали.
Или:
Окопавшись под взорванным танком,
Я болтаю с приятелем-панком,
Как еще до войны
Протирали штаны:
Он – в СИЗО, я – директором банка.
При чем здесь взорванный танк и деревянный компьютер? В том-то и дело, что совершенно ни при чем. Никаким боком. А – смешно.
Иногда над какой-нибудь глупостью мы могли хохотать весь день или всю ночь, и это состояние вечного недосыпа и патологической смешливости преследовало нас весь сплав.
Вишера – это вам не Чусовая с оборудованными стоянками и движением, словно на Невском. За семь дней пути мы никого не встретили. Прошли несколько деревень с одиночными рыбаками, а туристов – ни одного. Зато на импровизированной стоянке обнаружили еще теплый след медведя. Вздрогнули, но остались: надвигалась ночь, дальше двигаться было бессмысленно. Полночи просидели у костра, а когда забрезжил рассвет, расслабились и уснули. И страшно не было.
В один из первых дней увидели бобра: прямо у самой лодки высунулась мокрая коричневая морда с вытаращенными глазами, поозиралась и скрылась под водой.
Два дня подряд лил дождь, но останавливаться мы не могли, так как торопились к автобусу, который должен был нас забрать в строго определенное время. Дождевики уже не спасали, в байдарках плескалась вода, но шли мы довольно резво благодаря собственноручно изготовленному из водки, специй и сгущенки ликеру, который принимали прямо за рулем, то есть за веслом. Возле одной из заброшенных деревень решили пристать и даже прогулялись по избам, там и сям натыкаясь на старинные прялки, ткацкие станки и даже на деревянных идолов. Как известно, в этих краях христианство было принято поздно – лишь в XVIII веке. А раньше здесь жили язычники и молились своим богам. Когда пришли миссионеры и рассказали им про Христа, наивные доверчивые аборигены и христианского бога стали изображать в виде деревянных фигур, тоже своего рода идолов. В XX веке этих истуканов отыскали, отреставрировали и объявили мировым шедевром. Шедевр это или нет, но взгляд от деревянных богов оторвать невозможно.
От дождей развелась пропасть грибов, и мы их жарили вечерами на костре – Наталья умудрилась прихватить сковородку.
О том, что будет, когда вернемся в город, не было сказано ни слова. Как и о чувствах. Они сквозили в интонациях, движениях, взглядах. Я не могла поверить, что Алеша живет один, хотя знала, что это так, не задавала личных вопросов и ничего не рассказывала о себе. Я боялась увязнуть, мне хотелось свободы и значительного личного пространства. Но мы уже втягивались друг в друга, как, должно быть, втягиваются галактики, и остановить этот процесс было нельзя.
У Новгородцевых была одна крошечная суперсовременная палатка на двоих, у нас, вернее, у Алеши – огромная, древняя. Каждую ночь мы забирались туда в надежде поспать, но вместо этого дурачились, целовались, искали пропавшие вещи, и все попытки вести себя прилично и хотя бы тихо разбивались в прах. День ото дня мы ставили палатку всё дальше и дальше, чтобы не мешать нормальным людям отдыхать ночью, но это помогало мало.
– Ни с одной женщиной я не жил столько дней подряд под одной крышей, – озадаченно подумал вслух Алеша.
– Вернемся – и тебе будет меня не хватать, – ответила я.
Вернулись, и я уехала к маме, отсыпаться и отъедаться. Почему-то эти романы всегда начисто отбивали у меня аппетит, а с Вишеры я вообще вернулась набором костей.
В Шарье время течет медленно, в Шарье живет моя школьная подруга Марча, которая всегда начинает разговаривать так, словно мы расстались вчера. Шарья – это всегда передышка, пауза, возможность осмотреться и оглядеться. В самые сложные периоды жизни я всегда сбегала в Шарью, и после этого ситуация, как правило, разрешалась. Но сейчас я отправилась туда еще и затем, чтобы продлить-протянуть свое байдарочно-счастливое состояние, зависнуть в нем. Ходила по улицам и к подругам, говорила о пустяках, и ни разу, даже на полчаса мне не удалось выключить эту пластинку – я даже устала.
Алеша позвонил через три дня и велел возвращаться, я выторговала у него еще три, и вскоре он уже встречал меня на вокзале, всё с той же открытой миру улыбкой и несколько смущенным взглядом.
– Заедем ко мне, бросим вещи, через два часа Новгородцевы нас ждут на «самоваре».
«Самовар» – это когда туристы встречаются после сплава, делясь фотографиями и «охотничьими рассказами» про то, как всё было классно, и, обещая, что еще пойдем.
– А почему к тебе?
– Потому что ближе, а времени мало.
И месяца три всё шло как по маслу. До того, как мы поссорились – практически на ровном месте. Куда-то собирались, но в последний момент он позвонил и сказал, что не может. Не объясняя причин. Повисла колючая пауза, после которой я неожиданно для себя самой услышала собственную фразу:
– Ну, если у тебя нет на меня времени, так ты и занимайся своими делами, а я уж как-нибудь сама.
Ход, разумеется, подростковый, но я ничего не могла с собой поделать. Сказала – и даже не пожалела.
На другом конце провода вспыхнуло молчание, и связь прервалась.
Прошла неделя, вторая – он не звонил. Я впала в жуткую тоску, такую глухую и непроходимую, что еле передвигала ноги, чтобы как-нибудь дотащиться до работы. Значимость человека в вашей жизни определяется не по его присутствию, а по отсутствию – это известно. И вот это отсутствие разрушило, переехало меня вдоль и поперек. Сто лет назад я пережила тяжелейший развод, я долго восстанавливалась после разрыва с Олегом, но такой пустоты, когда физически понимаешь значение фразы «вынули душу», кажется, еще не было никогда. У меня отобрали меня, и я ходила из угла в угол как потерянная, ничего не ела, всё время спала, на работе писала одни идиотские информашки и механически правила чужие тексты. Жизнь остановилась. Съездила к Володьке Новгородцеву – он не знал, как помочь, позвонил Алеше на работу, но там сказали: уехал в Москву на какую-то учебу. Я уже подумывала, не начать ли новый ремонт – да вот хоть бы у Димочки, – и вдруг через несколько дней прямо в метро на соседнем эскалаторе увидела Алешу: он стоял в компании двух девушек и улыбался точно такой же улыбкой, какой улыбался мне…
* * *
– Ну что ты хочешь, курортный роман, – сказала я себе вечером, отрыдав часа три, выпила полбутылки сухого красного вина и вышла на улицу. Даже не девушки меня убили. Вернее, не столько девушки, сколько его обычный приветливый вид, будто Земля и не соскакивала с оси, и не было никакой катастрофы в виде разрыва со мной. Прошатавшись бог весть сколько по городу, закоченев и протрезвев, я вернулась домой, проспала полсуток кряду и встала практически здоровой. По крайней мере вменяемой. Со следующего дня начала работать как оглашенная – главное-то ведь, чтобы мозги были заняты. Вот и занимала их круглые сутки, на радость редактору. И когда те же Новгородцевы позвали меня за город встречать Новый год (внезапно обнаружилось, что через три дня Новый год) в какую-то большую компанию, я согласилась и отправилась за подарками. Нехотя, но пошла, размышляя, как некстати все эти праздники на фоне личных жизненных катастроф.
Мишура и атрибутика главного праздника планеты ранила еще больше, подчеркивая, что елка не для меня и нечего делать вид, что я здесь своя. Не своя, чужая, ненужная. Но Аньке подарок купить надо, и маме надо, и подругам. Побродила-побродила – надоело, забрела на Дворцовую, постояла под елкой, пожалела, что Эрмитаж закрывается рано и вечером туда не пойдешь, потопала к Мойке. Отчего-то мне ужас как захотелось к Пушкину, какая-то невнятная мысль брезжила, не давала покоя. И только подойдя к его последнему дому, я поняла, в чем дело. Пушкин, он вообще от любви умер. И не Дантес его застрелил, и не царь извел. А убило его то, что женщина, которую он любил, его не любила. И за границу бедного Пушкина так и не выпустили. Ни любви тебе, ни заграницы. Так что уж говорить про нас, убогих…
От этой параллели мне сделалось не легче, но свободнее, что ли, я окончательно успокоилась и бросила обо всем этом думать.
Тут-то Алеша и объявился. Я была вежлива, холодна и быстро закончила разговор. Он позвонил снова – объяснила, что занята. Он попытался встретить меня с работы, но я заметила его издалека и вышла черным ходом. Что-то во мне сломалось, и я уже не хотела ни говорить, ни молчать. Тридцатого декабря, забрав дочку, я уехала за город, планируя вернуться домой не раньше десятого января. А там, за городом, белый лес, лыжня, горки. Пройдешь эдак километров двадцать – двадцать пять, потом упадешь на диван перед горячей печкой – и всё тебе фиолетово.
В том лесу меня поджидала прелюбопытная встреча. Ушла я как-то поздновато и бродила долго, а возвращалась – уже смеркалось. Навстречу два типа, старый и молодой, в видавших виды советских голубых спортивных костюмах с белыми лампасами – где и взяли такие? – но на суперсовременных лыжах. Вот, думаю, зарежут и фамилии не спросят.
Про фамилию они и в самом деле не спросили – спросили, где работаю. Ответ их явно устроил, и они тут же стали объяснять, что через месяц едут в Прагу на чемпионат мира по какому-то рогейну, и я тоже еду с ними. Как журналист.
– А вы что, всех туда приглашаете? – только и смогла выдавить я.
– Ну да, кого здесь встретим. Тут чужих-то ведь нет, одни наши люди. А пресса нам сильно нужна.








