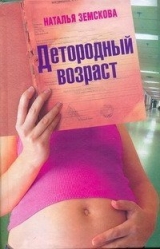
Текст книги "Детородный возраст"
Автор книги: Наталья Земскова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
«Вот так, пришел незваный, нежданный, непрошеный… – подумала она, ощущая давно забытый холодок внутри. – Бывает же так!» Ну конечно, только так и бывает. Только так, и никак иначе. Господи, никогда, никогда ее квартиру не взбаламутит своим присутствием маленький человечек! Внезапно она почувствовала себя такой несправедливо обделенной и обиженной, как бывало только в детстве. Даже страшно сделалось. Нет, она не завидовала, совсем не завидовала, но эта внезапная картинка ранила ее так сильно, что ей захотелось немедленно оказаться в спасительном, привычном мире своего дома, укрыться там, где миллионы лет всё стоит-лежит по своим местам.
Она присела на подвернувшийся детский стульчик, растерла пальцами виски и попыталась вернуть себя в обычное состояние. Ей казалось, что боль и растерянность написаны на ее лице и видны каждому.
* * *
Странно, ведь ничего подобного она никогда не чувствовала на работе. Больница и всё, что там происходило, не связывались с ее личной проблемой и шли параллельной, другой жизнью. Каждого выношенного ребенка она считала личной удачей и радовалась всем спасенным крохам так же искренне, как их мамы. Профессия словно бы компенсировала отсутствие собственных детей, и Реутова всячески культивировала у себя это ощущение.
«Господи! Я и поговорить-то, пореветь-то об этом ни с кем не могу…» – думала она, возвращаясь от Эльзы домой и делая усилие, чтобы не расплакаться прямо в машине. С Валерой эта проблема уже не обсуждалась, да и что, собственно, обсуждать? Всё давным-давно переговорено, упрятано с глаз подальше. Подруги свои утешительные доводы исчерпали еще тогда, когда, как ей казалось, еще можно было что-то изменить. Тогда, лет восемь назад, ей даже пришлось пройти курс психологической помощи, и душевное равновесие было восстановлено, но сейчас словно всё вернулось снова, и она опять растерялась, не зная, за что уцепиться. Приступы депрессии этого рода она помнила наизусть. Сначала острая боль обделенности, затем хождение по замкнутому кругу («Почему это мне? Почему именно я?») и как результат – состояние оцепенения. Третьей стадии Маргарита боялась больше всего, потому что знала, чем это грозит. Тогда удалось обойтись без антидепрессантов, правда, на восстановление ушло почти полгода. Неужели всё повторится опять?
В тягостно-подавленном настроении она отработала следующий день, пока ее, наконец, не осенило: а ведь можно поехать к Ингриде!
– Господи, ну конечно, к Ингриде! – прошептала она, выходя из палаты, и, услышав в трубке знакомый прокуренный бас, едва не расплакалась.
– …Купи оливки, сыр рокфор, какой-нибудь травы, а выпить у меня найдется. Ты в винах ни хрена не смыслишь, так что не старайся. А голос-то, голос – как у дохлой кошки. Жду, перестань оправдываться.
Ингрида Озембловская была давней приятельницей ее родителей, дамой экзотической во всех отношениях – от манеры одеваться до привычки курить сигары. Сейчас ей было семьдесят четыре, но и выглядела, и жила она далеко не в своем возрасте. Прославилась Ингрида тремя вещами – во-первых, тем, что танцевала в «Мулен Руж», во-вторых, тем, что шесть раз выходила замуж, причем преимущественно за дипломатов, и, втретьих, тем, что могла предсказывать будущее, что делала, впрочем, крайне неохотно.
Ингрида родилась в Париже в семье русских эмигрантов, бежавших из России последним поездом, оставив заводы в Петрограде и Литве плюс небольшой золотой прииск в Сибири. Они и за границей не очень бедствовали, так как часть капиталов сохранили в швейцарских банках. Это позволило им жить достойно, растить детей и даже помогать другим. Обрусевший поляк Озембловский, женившийся на русской Кате Волковой, водил дружбу или приятельствовал со многими представителями русской художественной культуры. В результате Ингрида и ее сестра Руфа с детства впитали прелесть этой культуры и любовь ко всему русскому, равно как ненависть к Советской России. Сестры говорили на нескольких языках, брали уроки танца у Брониславы Нижинской, какое-то время танцевали в театре-кабаре «Мулен Руж», много путешествовали, выходили замуж и разводились. И вдруг, внезапно, Ингрида вернулась в Россию, о чем семья мечтала все годы эмиграции. Она смогла навестить свою старую тетку, похоронить ее и унаследовала пятикомнатную квартиру на Гороховой. Тетка, правда, занимала, всего две комнаты, но других жильцов Озембловская щедро расселила, восстановила по рассказам матери (отец к тому времени уже умер) интерьеры квартиры, оборудовала ее по собственным эскизам и неожиданно для всех решила жить здесь, приняв двойное гражданство. Дипломатические связи трех мужей позволили это сделать бескровно, и теперь Ингрида жила в Питере сколько ей вздумается.
Казалось бы, со своим уровнем культуры и барскими замашками, Ингрида не выдержала бы в «совке» и года, но ее многое здесь забавляло, и неожиданно она прижилась. Из-за рубежа к ней приезжало столько знакомых мужчин, и жили они так подолгу, что всегда было непонятно, что у Ингриды с мужьями и в каком она статусе. Любопытно, что Валеру она невзлюбила сразу, считала его деспотом и «хамом» и никогда не звала в гости. Тот платил ей тем же, говорил, что она генерал КГБ, и боялся ее, как боятся всего непонятного и нестандартного.
Квартиру Озембловской все называли «Эрмитажем». Сверху донизу она была украшена лепниной и барельефами, уставлена скульптурами и статуэтками, увешана живописью и графикой. В эти роскошные апартаменты Реутова наведывалась нечасто: в основном, когда об этом просила хозяйка или когда ей самой хотелось выговориться. Возле Ингриды можно было расслабиться и передохнуть. Вся взрослость Маргариты Вениаминовны, вся ее профессиональная умудренность вместе с отчеством оставалась за стенами этого дома.
Едва взглянув на Маргариту в огромной прихожей с амурами, Озембловская раскурила сигару и без выражения спросила:
– Ну, что он еще тебе сделал, этот мерзавец?
Маргарита неожиданно для себя рассмеялась, вдруг поняв, кого ей напоминает Ингрида. Раневскую, ну конечно, как она прежде не догадалась! Только Раневская была так грандиозна и нестандартна.
– Что смешного я сказала?
– Ничего, но я поняла, на кого ты похожа, – на Фаину Раневскую.
Ингрида мгновенно обиделась:
– Нет ничего хорошего в том, что я на кого-то похожа. Я – это я, и сравнения неуместны.
– Ты, конечно, гораздо красивей. Я имела в виду масштаб личности.
Даже сейчас, на восьмом десятке, Озембловская выглядела статной и моложавой. Прямой вызывающий взгляд, блестящие глаза, чуть приподнятые брови, точеный профиль с юности определили в ней сценическую героиню, и этому амплуа она следовала. У Ингриды и морщин словно бы не было, хотя все знали, как бурно она ненавидела операции по омоложению. Она мастерски пользовалась косметикой, и тут Маргарита чувствовала себя рядом с ней девочкой из деревни на приеме у императрицы.
– Ты специально приехала, чтобы сообщить мне это, или есть новости поважнее?
– В том-то и дело, что нет новостей, – несколько раз повторила Маргарита, проходя по длинному коридору на кухню и распаковывая сумки.
Ингрида не любила, когда здесь хозяйничали (для этого существовала прислуга), так что гостья быстро вернулась в гостиную и опустилась на один из кокетливых диванчиков барокко, унаследованных хозяйкой от родителей и недавно перетянутых реставраторами Русского музея.
– Нет-нет, мы посидим в будуаре, – проворчала Озембловская, а это значило, что она уловила настроение Маргариты и разговор будет не светский.
Будуар был под стать прихожей – тоже с амурчиками, весь в светильниках и занавесях, с небольшим эркером и совсем крохотным камином. Свою огромную голубую гостиную Ингрида не то что не любила, а вроде как избегала, предпочитая принимать гостей в будуаре или кабинете – в зависимости от цели визита. Кроме кабинета и спальни, в ее апартаментах наличествовали комната для гостей, столовая и небольшая зимняя оранжерея. До революции здесь была комната для прислуги, Ингрида первым делом превратила ее в зимний сад, куда друзья, зная эту слабость хозяйки, натащили самых диковинных, в основном австралийских растений. Что самое странное, эти растения круглый год цвели и благоухали, но все попытки взять отросток с целью завести что-то подобное в другом месте были обречены. Кажется, Ингрида с этим садом не очень и возилась, но неизменно здесь читала, рисовала или просто болтала по телефону, поэтому все ее знакомые были уверены, что цветы питаются бешеной энергией хозяйки, ее причудливыми фантазиями и настроениями. Лучше всех прочих здесь чувствовали себя орхидеи, и Маргарита иногда получала их в подарок, если Озембловская была в хорошем настроении.
Сегодня про настроение сказать определенно было ничего нельзя. Правда, Реутову несколько удивил пристальный, как она выражалась сквозной, взгляд хозяйки.
– Давай чего-нибудь съешь, – сказала она, когда горничная, накрыв небольшой столик на колесиках, вышла. Обычно в этом качестве подрабатывали студентки, так как Ингрида терпеть не могла приживалок и компаньонок, и Маргариту всегда забавляло ее умение устроиться в жизни адекватно своим претензиям и желаниям.
– Да что-то не хочется, знаешь…
– Последний раз ты ела вчера, а разговаривать с голодной бабой мне неинтересно.
– Ну да, вчера. – Маргарита давно не удивлялась этой ее способности видеть в человеке всё и сразу, и временами она соглашалась с Валерой насчет КГБ. Она медленно начала есть и вдруг, под взглядом Ингриды, почувствовала резкий голод, даже выпила два бокала вина и блаженно расслабилась, откинувшись на спинку кресла.
– Ну? – скомандовала Озембловская. – Теперь я слушаю.
Из опыта прежнего общения Маргарита знала, что Ингриде нужны не заключения, а факты и события последних дней: выводы она делала сама. Поэтому начала отвечать на ее вопросы. Рассказала о том, что почувствовала вчера у Эльзы: острую боль при виде комнаты, в которой поселился маленький Андрюшка, бессознательную тяжесть и стремительно надвигавшуюся депрессию. Потом про последние события на работе, отношения с мужем и некоторые мелочи, которым не придавала значения. Вопросы, как казалось, совсем не были связаны с тем, из-за чего она, собственно, сюда пришла. Ингрида переходила от одной темы к другой, снова возвращалась к первой, подолгу молчала, наконец, закурила и спросила:
– Ты действительно хочешь знать, что тебя мучит, или тебе нужны психологические поглаживания?
Маргарита растерялась. За те полтора часа, что длился «допрос с пристрастием», она немного устала, но одновременно и значительно успокоилась, как всегда здесь бывало:
– Конечно первое, иначе зачем бы я пришла?
– Так вот, если нужны примочки, то я скажу, что у тебя есть всё, о чем большинство женщин только мечтает: приличный состоявшийся муж, профессия, в которой ты специалист, устроенный быт, моря и заграницы и всё такое прочее. Большинству такое и не снилось. Мужик либо отсутствует, либо такой, что его заворачивают в половик и укладывают под кровать, денег нет, дети – оболтусы…
– Как это в половик?
– Да прочитала в каком-то романе: муж у героини был таков, что при визите приличных гостей его заворачивали в половик и укладывали под кровать.
Маргарита умоляюще на нее посмотрела.
– Ну а на самом деле, дорогая, ты увязла. И увязла серьезно. Но дело не в детях, совсем не в детях… Девяносто процентов женщин в нашей стране (Ингрида обожала называть Россию «нашей», хотя было понятно, что она здесь такая же наша, как негр из Камеруна) заводят детей от пустоты и никчемности собственной жизни. Чтобы сделать ее осмысленной, нужны талант, сила, наглость. А так родил ребенка – и ты при деле лет на двадцать. Не на козла же своего смотреть все эти годы!
Маргарита слабо улыбнулась.
– У тебя всё банально: кризис среднего возраста. Как врач, ты знаешь это лучше меня. Постылый муж, постылая работа, друзья превратились в приятелей.
– Про мужа я бы так не говорила.
– Ну, ты у нас воспитанная дама, всем известно. Но вы давно живете параллельно, а если не наставили еще рога друг другу, так только из-за идиотских рамок и дурацких правил. Он торчит сутками в своей мастерской, хотя понятно, лучше «мишек в сосновом бору» вряд ли что-нибудь выдумает, ты живешь машинально, как-нибудь, по стереотипу.
– Неправда, у него есть интересные работы, а в последнее время…
– Ну хорошо, хорошо, оставим его в покое.
– Вот мне что делать…
– Не знаю. Менять жизнь, взрывать ее, бросить всё, уехать путешествовать. Самое простое, на мой взгляд, завести качественного любовника, но ведь ты всё обставишь такими сложностями, что даже не знаю, стоит ли браться.
– У тебя всегда один рецепт.
– Проверенный потому что. Ну, сыграй в игру «Открой свой бизнес» – тоже развлекает. Нет, почему ни один мужик на свете не цепляется за возможность произвести ребенка как за способ решения всех проблем, почему?
– Они устроены иначе.
– Ну, родила бы ты в молодости, был бы у тебя сейчас восемнадцатилетний балбес – что, жизнь показалась бы краше?
– Не знаю.
– Вот, уже не знаешь. А я уверена, что нет. А с другой стороны, дорогая, твоя проблема в том, что у тебя всё настолько благополучно-статично, что от этого просто завыть хочется. Знаешь, в чем заключалась гениальность Сергея Павловича? – обратилась Озембловская к своему излюбленному примеру, Сергею Павловичу Дягилеву.
– Знаю. У него был тончайший нюх на таланты, и эти таланты он по своему усмотрению комбинировал в одном проекте, где их звучание усиливалось.
– Это правда, конечно, но это то, что лежит на поверхности и чему учат в школе. Гениальность Дягилева в том, что он интуитивно избегал повторений, тиража, ведущего к масскульту. Он безжалостно изгонял своих балетмейстеров и художников, как только они начинали повторяться. Штампа, воспроизводства даже великой комбинации боялся больше всего на свете. Поэтому «Русские сезоны» продержались так долго. Везде, где только мог, он нарушал стереотипы, искал новые имена и новые ходы.
– Почему ты заговорила о Дягилеве?
– Потому что вся твоя жизнь – многолетний штамп, который ты воспроизводишь и воспроизводишь, прости, как курица! Потому что Дягилев – лучшее, что дал миру двадцатый век. У него, кстати, не было детей, – проговорила она после паузы.
Обе женщины устало замолчали.
– А ты сама… Неужели у тебя не было этой проблемы?
– Проблемы штампа или проблемы ребенка?
– Обеих.
– Конечно, были. Но согласись, что я хорошо выкрутилась, когда в пятьдесят поменяла жизнь, страну – всё. Вы только начинали выезжать, когда я приехала сюда, в эти пампасы. Я бросила враз мужа и любовника, чтобы освоить новое пространство. Конечно, это не решило всех моих проблем, но года четыре я кайфовала. Пока не осознала, что смена декораций, пусть и радикальная, увы, не панацея. Но свои результаты она дала.
– Ты ехала «от» или «в»?
– Трудно сказать однозначно. Родители очень переживали, что лишили нас родины, в основном родины в Логосе, где «белых яблонь дым», «у лукоморья дуб зеленый», князь Мышкин и «темные аллеи». Всю жизнь я жила с ощущением, что эта Россия где-то есть, но нам туда нельзя. Понимая, что это мираж, я сделала всё, чтобы приехать сюда и не жалеть потом всю жизнь, что не сделала этого… Была, правда, еще одна причина. В тех кругах, где я вращалась, ощущался какой-то «кризис жанра», какая-то избыточность: друзья один за другим погибали от наркотиков и пустоты, было очевидно, что нужно искать выход.
– И ты нашла то, что искала?
Озембловская помедлила с ответом.
– Россия в Логосе, разумеется, существует, и существует только здесь, но утеряно очень многое, без чего нельзя, невозможно. Когда я приехала, здесь было неизвестно даже имя Дягилева…
– Оно лежит за пределами Логоса.
– К счастью, и поэтому стало достоянием мировой культуры. Сергей Павлович, например, совсем не интересовался драмой, полагая, что балет есть высшее проявление театра. То есть я хочу сказать, мы в эмиграции в чем-то были более русскими, чем те, кто жил здесь… Но я отвлеклась, ты спрашивала про ребенка. Ребенка быть не могло: в молодости был неудачный аборт, болела, почти не лечилась – вот и всё. Наверное, я не очень-то самка.
Маргарита улыбнулась:
– С тобой легко, ты называешь вещи своими именами.
– Да, я стараюсь.
– Странно, что твои мужья не писатели, не художники, не музыканты.
– Первый как раз был танцовщик, но мы продержались недолго – два года. Кстати, после развода он быстро очутился в Америке, попал в труппу Баланчина и долго был солистом. А мне танцевать надоело довольно скоро. Думаю, тело мало было для этого приспособлено – уставало, болело, ленилось. Как раз нарисовался фабрикант, которому, как и тебе, оказались нужны семейные обеды, пятеро детей и жизнь по расписанию. От меня он, естественно, пришел в ужас, и я сбежала к английскому дипломату, сотруднику посольства в Париже. Из озорства – через окно и среди ночи. Пол почти во всем разделял мои взгляды на жизнь, но очень скоро я поняла, что нужна ему не как «я», а как представительская особа, со мной было удобно. Как и мне с ним. Из всех прочих этот брак казался наиболее логичным, но Пола через пять лет отозвали, а ехать в Англию я не хотела.
– Почему же?
– Она не была такой «русской», как Франция. Вскоре я вышла за сотрудника германского посольства. Там показалась бешеная любовь на всю жизнь, чтение Гейне и Ремарка, концертные залы. Эрих был меня моложе, с ним мы прожили долго, лет семь. Он научил меня плавать, кататься на роликах, ездить верхом и… играть в казино. Боже, сколько же мы проиграли! Но ни разу, ни одного разу нас это не расстроило, клянусь. Он даже радовался, когда мы проигрывали, искренне веря, что «повезет в любви» и мы никогда не расстанемся. Бедный…
– И что же?
– Как обычно, со временем сделалось скучно, Эрих стал выпивать, я – уезжать при всякой возможности. У него не ладилось с карьерой, как у многих мальчиков, долго подающих надежды, которые так и остаются надеждами. Им нужно было заниматься, а мне уже не хотелось. На одном из курортов встретила Майкла и недолго думая уехала в Штаты, которые, впрочем, всю жизнь терпеть не могла, работала у него переводчиком, но он занимал в посольстве высокий пост, и с ним всё время надо было где-то существовать декорацией. Обожаемая мною свобода с этим мужем никак не монтировалась, а вскоре Майкл серьезно сел на иглу (меня это не увлекло), и я сбежала в Россию. Видишь, всё можно рассказать в двух-трех словах. Если, конечно, не вдаваться в параллельные интриги.
– Я насчитала всего пять. Пять мужей.
– Шестой нарисовался здесь, писал диссертацию о «Мире искусства», пришел сюда за консультацией и со временем остался.
– Он тоже был моложе?
– Немного, лет на пять.
– И что?
– Альфонс и неудачник. Но он очень помог мне ассимилироваться в России, а так я едва не увязла. Не умела заплатить за квартиру, вызвать водопроводчика, нахамить в магазине. По дорогам нашим ездить – и то не могла. Не понимала ваш сленг и на всё таращила глаза. Он называл меня барыней и очень смеялся, когда я пыталась готовить. После него желание выходить замуж пропало, здесь это создает дополнительные сложности. Ты станешь смеяться, но я до сих пор плачу ему алименты и покупаю рубашки.
Маргарита подошла к Ингриде, молча ее обняла:
– Хорошо у тебя. Уходить не хочется. Но поздно, пора. – Направилась в прихожую к амурам и вдруг резко вздрогнула от слов хозяйки:
– Подожди, мы еще кофе не пили.
Кофе здесь был совершенно ни при чем. Предложение выпить кофе означало, что хозяйка собирается погадать. Но это был интимный ритуал, о нем нельзя было просить – изредка, крайне редко, Ингрида предлагала его сама, когда считала, что это необходимо. В ее гадании отсутствовали жесткие неизбежности, и было то, что всегда есть в русских сказках: пойдешь налево – коня потеряешь, пойдешь прямо – погибнешь сам, пойдешь направо – получишь корону и что-то там еще. Вообще к традиционному гаданию она относилась резко отрицательно, объясняя, что часто оно является программой, которую человеку потом неосознанно приходится отрабатывать. Вариантов же дальнейшего развития событий – тридцать – сорок, так что не факт, что вас сориентируют на самый продуктивный.
– Даже я, – обычно добавляла Ингрида, – их вижу восемь-семь, не больше, так что уж говорить об этих шарлатанах.
Как-то она обмолвилась, что обучалась своему искусству в специальных частных школах в Чехии, Японии и Китае, но было очевидно, что Озембловская обладает парапсихологическим даром, а он – учись не учись – либо есть, либо нет.
– Пошли на кухню, – приказала она сухо.
За всё время их знакомства Маргарита была удостоена этой чести раза два, не больше. Она знала, что нужно самой поджарить зерна, помолоть их и сварить кофе, не спеша его выпить, и по тому, что останется на дне, Ингрида очертит ее будущее.
После того как ритуал был в точности соблюден, хозяйка зажгла свечи, взяла чашку, долго крутила ее и, наконец, сказала:
– Можешь меня пристрелить на месте, но ребенок уже стучится в твою жизнь, вот только впустишь ты его или нет, я не знаю. И ты тоже не знаешь. Пока. Если решишься впустить, придется очень многим пожертвовать.
– Я что, его усыновлю?
– Возможно, не знаю. Тебе придется выбирать. Мне это сразу показалось, как только ты вошла, сейчас я только проверила.
– Не знаю, о чем ты говоришь.
– Как писала Ахматова, «будущее задолго отбрасывает свои длинные тени перед тем, как войти». Вот эти тени я и вижу. Хотя все мы можем ошибаться, сто лет не гадала, забыла…
Казалось, Озембловская и сама поражена тем, что увидела, она в который раз за вечер закурила и принялась что-то обдумывать, затем села и быстро обернулась к своей гостье:
– Слушай, Рита, я на днях уеду – возьми ключи. У Руфы там какие-то проблемы – возможно, мне придется задержаться. Но как надолго, я не знаю, может, месяца на четыре. Квартира на сигнализации и под охраной, так что не бойся. Девица станет убирать, поливать цветы. Но если тебе понадобится какое-то время где-то пожить, живи здесь, в дальней комнате, ты знаешь. Консьержке я скажу. И если что, звони.
– Ингрида, ты меня пугаешь.
– Я предложила так, на всякий случай. Сама же говоришь: здесь хорошо. И мне будет спокойнее. Без людей жилье тускнеет, жухнет. Ну, полно! Что стоишь, как истукан! Давай беги, и поживем – увидим.
Дальняя комната была комнатой для гостей, в ней всё время останавливался кто-то из приезжих, но Маргарите это никогда не предлагалось, да и с чего бы? Она помедлила, молча, не благодаря (Озембловская это запрещала), взяла ключи и попрощалась. Ингрида хотела было сказать что-то еще, но вдруг передумала и махнула рукой: иди, мол.
Реутова кивнула и вышла. Она не ожидала, что просидит так долго, и, садясь в такси, удивилась позднему часу.
Поразительно, но тяжесть с души упала, вновь захотелось жить, двигаться, работать. После вечеров у Ингриды так бывало всегда. «Подмешивает она что-то в вино, что ли?» – усмехнулась Маргарита, запретив себе думать о гадании и оставаться под его впечатлением. В конце концов, Озембловская могла и ошибиться.
* * *
Вечером зашла старшая медсестра и предупредила, что завтра мы, дородовое отделение номер два, должны сдать зачет по гражданской обороне. А я-то думала, что занятия по ГО для меня закончились в университете лет двадцать назад. И вот, начинаются снова!
– После завтрака по команде вы должны покинуть помещение за семь минут. Приедут из военкомата, будут засекать.
– А лежачие?
– Вставать и выходить. Без разницы.
Весть о том, что в мире помимо больниц и родильных домов существуют еще и военкоматы, надо признаться, привела меня в замешательство. За четыре недели я так привыкла к местному пейзажу и его населению, что мне кажется, женщины на свете бывают только беременные (а если не беременные, то это ненормально), мужчин не бывает совсем, тем более военных. Толстобров и мужья пациенток не в счет.
Мужья, тем не менее, презабавные: все как один напуганные, скукоженные, с пакетами в руках и растерянностью в глазах.
Мне, конечно, повезло, что Аня уже выросла. А если бы дома оставалась детсадовская крошка!
Алеша приходит и смеется:
– Анька смотрит за мной, я – за ней. Не волнуйся.
Чтобы его не обидеть, я, изображая волнение, задаю несколько наводящих вопросов – он отвечает. Через полчаса устаю и начинаю его выпроваживать. Одной, самой с собой мне легче. Но этого никому не объяснишь, да и не нужно. Однако, похоже, это только со мной. Начиная с четырех часов дня в отделении толпы посетителей, которые снуют везде и исчезают лишь к ночи. Таких, как я, лежачих насмерть, здесь немного – даже опытом обменяться не с кем. «Вы должны двигаться хотя бы немного». «Хотя бы немного» – это сколько? Так и живу с утра до вечера на ощупь да на нюх.
Стало рано и резко темнеть, и мне отчего-то кажется, это к лучшему. Осенью, я заметила, всё в жизни более или менее консервируется, становится упорядоченным и стабильным: настроение, отношения, силы. Неправильно, что год заканчивается зимой. Он должен заканчиваться и начинаться в апреле, когда всё расползается, становится зыбким и неустойчивым, нужно что-то заново строить, предпринимать и удерживать. Вот весной не удерживается ничего, напротив, скачет и несется, а ты едва успеваешь это отслеживать. Дожить бы до ноября – там уж точно ничего не случится. Выпадет снег, мороз скует всё что можно, и во мне всё укрепится, затвердеет.
Раньше я не любила осень. Казалось, вместе с летом заканчивается очередная жизнь, которую ты опять не использовал так, как нужно, и начинается ожидание другого лета. Теперь – наоборот. Лето кончилось, вместе с ним словно бы замедлилась и сумасшедшая гонка, и можно, наконец, вздохнуть и заняться делами. Осенью и лежать-то вроде логичнее. Надо будет поинтересоваться статистикой вынашиваемости в разное время года.
А еще, когда лежишь, жизнь будто сворачивается и вся втискивается в то пространство, где ты находишься. Мелочи разрастаются до событий, а время, как ни странно, летит. Только-только был обход, а вот уже обед, полдник, и наползает вечер, который тянется чуть дольше, но всё равно заканчивается ночью.
На балконе теперь холодно, но я всё равно добредаю до него хотя бы раз в сутки. Отсюда видно небо и даже иногда звезды. Когда они есть, я поднимаю голову и прошу Бога дать мне выносить этого ребенка и, если нужно, забрать что-нибудь взамен. Сегодня меня осенило, что можно предложить, например, работу, которая мне дорога. Или поклонников и внимание, которые у меня всегда были. Кроме интересной работы и внимания, мне предложить нечего, и я после некоторого колебания предложила еще Алешину любовь ко мне. Это, конечно, в самом крайнем случае. Но если понадобится, я согласна.
Зоя права: так можно сойти с ума. И что-то подобное, видимо, происходит: во всяком случае, реальность я стала воспринимать совсем иначе, обострились все чувства, и я всё время напоминаю себе сапера, который ползет по минному полю, не в силах расслабиться. Местами и мин вроде нет, а он всё шарит и всё всматривается в темноту, не доверяя ни одному сантиметру неизвестной земли. Банальность номер один – это сравнение с сапером, но ничего не поделать.
Я не верю в предопределение и знаю, что многое зависит от меня, потому и страшно ошибиться. Когда-то очень просто мне это объяснил один священник.
– Если бы существовало предопределение, – говорил он, – то Бог отвечал бы за всё, что с нами происходит. А так отвечаем мы. Поэтому нам и даны большие возможности. И у нас всегда есть выбор.
– Тогда Богу должно быть известно всё? – спросила я.
– Да, конечно, но судьбу каждого человека он знает по предвидению, а не по предопределению.
Я не хочу ничего знать заранее, раньше срока. Должно быть, страсть к гаданиям и предсказаниям проходит вместе с молодостью. Не хочу и даже опасаюсь, потому что мое подсознание может выдать во сне то, что может случиться в ближайшем будущем. Причем отнюдь не иносказательно, а вполне конкретно – устами какого-нибудь необычного персонажа. В первый раз это была таксистка среднего возраста. Во второй – маленький старичок с размытым лицом. В третий – давно умерший дедушка, который на глазах превратился в юношу. Именно они предсказали несколько крупных и важных для меня событий: развод, переезд из города в город и разрыв с человеком, за которого я собиралась замуж. Причем в то время, когда в здравом уме и трезвой памяти я и предположить не могла о таком развитии сюжета. В первый раз – не поверила, удивилась. Во второй – задумалась. В третий – просто испугалась и растерялась. А не надо вопрошать о будущем, вот и сны будут сниться нормальные!
Чтобы застраховаться от ненормальных вопросов, связанных с будущим, я не задаю себе никаких, разговоры предпочитаю вести на бытовые и приземленные темы вроде сломанного чайника и холода в палате и жить текущим днем. Получается плохо, потому что мы с Зоей всё время сворачиваем на скользкую дорожку причинно-следственных отношений отдельно взятой человеческой судьбы с переносом, естественно, на себя.
– Слушай, а ты о чем в своей газете пишешь?
– Ну, считалось, что лучше всего у меня получаются «человеческие» истории, и довольно долго я на них сидела.
– Не политика.
– Нет, конечно.
– Была история на нашу тему. Редактор ездил в область по делам, и ему кто-то рассказал, что в двух соседних селах живут две женщины – русская и татарка, которые лет двадцать назад одновременно рожали в местном роддоме, и пьяная акушерка перепутала детей. Русского вырастила татарка, а татарчонка – русская.
– Бразильский сериал какой-то.
– Все так и отнеслись. Но я поехала, конечно.
– И что?
– Оказалось, правда. Причем эта правда всплыла совсем недавно, может, года три назад. К татарке Язиле стали подходить знакомые и говорить, что есть мальчик в соседнем селе – вылитый ее муж, Мансур. Видишь, даже имена помню… Она их выгоняла, давала себе слово ничего не выяснять, а потом вдруг собралась и поехала. К русской. Приехала, расплакалась – та сразу всё и поняла.
– И что?
– Ну, что… Думали, что теперь делать, говорить или не говорить детям и родственникам.
– А экспертиза?
– Да не понадобилась никакая экспертиза. Язиля достала фотографии мужа в молодости, а другая мать – свои. Дамир, который вырос у татар, один в один походил на русскую мать. А Андрей оказался точной копией Мансура…
– Так неужели за столько лет никто не догадался?
– В том-то и дело, что слухи ходили давно, но обе женщины от них отмахивались, боясь, что отберут ребенка. И каждая потом говорила, что готова была забрать родного, но ни в коем случае не отдавать того, которого растила и считала родным. Думали-думали – решили, что лучше сказать так, как есть. Андрей очень переживал, но в основном из-за того, что его в детстве дразнили татарчонком, и он из-за этого дрался. Дамир воспринял с юмором. Там в семье еще двое детей, так он стал подтрунивать над младшими: что, я вам теперь не брат?








