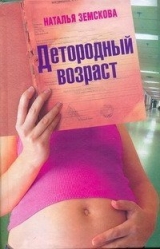
Текст книги "Детородный возраст"
Автор книги: Наталья Земскова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
– А чего, у тебя, что ли, жених в Перми был?
– Да какой жених, Вика? Соврала и глазом не моргнула. Как-то само собой вылетело. Уехала в два дня…
Зоя сделала паузу, пощипала свой виноград, пригладила волосы, насторожилась:
– А вы чего так смотрите?
– Мы слушаем…
– А интересно?
– Очень!
Зоя рассмеялась, походила по палате, наслаждаясь чуткой тишиной, и продолжала:
– Приехала в эту Пермь. Не шедевр, конечно, но в принципе город понравился – и город, и люди. Выделила мне подруга комнату, ну и, естественно, жизнь не сложилась: сидела с их ребенком, была чем-то между нянькой и бедной родственницей. Провела так месяца три, и атмосфера накалилась до того, что перед Новым годом мы поссорились, мне пришлось уйти фактически на улицу. От детского сада, куда я устроилась, дали место в общежитии, перетащила туда свои пожитки, а комната – без слез не взглянешь: кровати, тумбочки облезлые. На четверых. Как добралась до лета, девочки, не помню. Сплошное серое пятно. Соседки мои работали на заводе, – как они говорили, в заводе, – такие же, как и я, старые девы. Всем вокруг к тридцати. Это сейчас замуж никто особенно не торопится, а тогда до двадцати пяти не вышла – всё, привет… И вот в субботу кто-то говорит: «Так, надоело – идем в ресторан». Ну, идем так идем. Пришли в «Центральный» – он до двенадцати работал, – а там одни мужики сидят, и рядом с нами целая компания. А когда заведение закрывалось, мы вышли вместе, и ко мне прицепился какой-то… ну совершенно пьяный. Я на шпильках еле ноги передвигаю, да еще он повис и висит. И все отправились на Каму. По ходу пьесы выяснилось, что он, этот «перепимший», праздновал в ресторане свое тридцатилетие, все остальные – его гости. Вроде где-то он долго работал и вернулся в город буквально на днях. Подруги с кавалерами ушли куда-то вперед, мы плетемся, и я ему говорю: «Слушай, ведь тебе домой надо, жена, наверное, ждет. А ты не торопишься». «Я не женат», – говорит и достает паспорт, показывает.
– А что, Зой, он тебе совсем не понравился, да? – Вика забыла и про виноград, и про свою беду.
– Да ты понимаешь, он на ногах не стоял, я особо и не смотрела. Вижу, взрослый мужик – значит, женатый… Я, когда мы гуляли, даже присела и покурила: не жених ведь, чего стесняться. Мы тогда стеснялись на людях курить, если и покуривали, то втихаря… Потом он позвонил, позвал меня в театр, потом… В общем, роман закрутился и быстро закончился свадьбой. Самое интересное! Знаете, кем он оказался? Инженером-нефтяником – семь лет сидел на буровой.
Зоя насладилась немой сценой, немного помолчала, вздохнула:
– Да, вот так. И мне всё казалось, что это справедливо, ну, то, что мы встретились, и всё так хорошо, что я это заслужила своими несчастьями. И только сейчас понимаю, что мы могли бы и не встретиться: ведь ни до, ни после того я в рестораны не ходила. А если бы не смерть Саши, не мое отчаяние и метание по городам, может быть, я и не оценила бы нашу встречу и уж точно не относилась бы к ней так бережно, как отношусь сейчас.
– И сколько вы там жили, в Перми?
– Пять лет. А потом ему предложили работу в Сестрорецке, и мы уехали.
– Постой-постой, так у вас же дочке девятнадцать, как это может быть, если вы встретились в тридцать?
– Вот думаю: кто первый спросит? Оля – его дочка от первого брака. Он рано женился, быстро развелся, пока девочка была маленькая, жила с матерью, но та вышла замуж, и лет восемь назад Оля переехала к нам. А общий ребенок у нас один, Митя. Я, Вика, что хочу сказать… Иногда жизнь, конечно, дает всё и сразу, но это редко, уж поверь. Обычно всё частями и в разное время. Дали тебе детей – порадуйся, получишь и другое.
– Я тоже теперь буду говорить налево-направо, что выхожу замуж за инженера-нефтяника.
– Да, в этом что-то есть. Митька у нас, когда был маленький, однажды соврал учительнице: мол, зуб болит, отпустите с уроков. А дня через два у него, бедняги, зуб на самом деле так разболелся, что потом лечили целый месяц.
– Ага, значит, надо говорить не специально, а как бы так, между прочим.
– Похоже, да. В общем, забудь ты про Степана, не задерживайся на этом участке, а принимайся обустраивать жизнь. Для начала брось курить и перестань реветь. Главное сейчас – родить нормально, и твоя женская программа будет, в принципе, выполнена. Лет через восемь дети подрастут, сможешь заняться собой. Бабушка какая-никакая есть, справишься… Оксана, эй, ты что? Вот на тебе, одна рыдала, теперь другая…
Все обернулись на плачущую Оксану, которая, не сводя глаз с Зои, качала головой и всхлипывала:
– Да история твоя, Зоя. Вся с виду из себя благополучная, а вот оно на самом деле как. А если бы вы с ним не встретились?
– Была бы старая дева с котенком. Но это худший вариант, конечно. На самом деле вариантов тьма. Видишь, пятнадцать лет назад не было Интернета и всего прочего, что есть сейчас. Я не могла, скажем, уехать за границу и там попытаться как-то устроить свою жизнь. Не могла не поехать в этот Гаврилов Ям. Да что там говорить, сейчас всё проще.
– Да, дамочки слегка за тридцать сегодня самый ходовой товар на рынке. С детьми и без детей. – Тихая Зоя, которая до сих пор лишь присутствовала, вдруг оживилась и приподнялась на кровати. – В смысле, на рынке невест. Хотя одна моя подруга и в сорок нашла по Интернету себе приличного канадского мужика и укатила туда с семнадцатилетней дочерью.
– Вот как-то же находят…
– О, там целая система. Как она говорила, это тот же сэконд-хенд: роешься и роешься, но не факт, что отыщешь. Во-первых, поиск надо вести всё время: методично, изо дня в день писать и отвечать на письма. Вот пришла ты с работы, поела – и вперед. Во-вторых, прилично знать хотя бы английский. И главное – не иметь никаких связей здесь, это жутко мешает. Ну, словом, устройством личной жизни нельзя заниматься как попало. Это примерно как дом построить: сначала фундамент, который, кстати, целый год выдерживают, дальше стены, отделка, крыша – всё методично, не спеша.
– И как она, эта твоя… строила свой дом?
– Ну, они переписывались год-полтора и еще столько же встречались.
– А встречались-то где?
– Сначала вроде он в Москву приехал, потом она к нему в Канаду, потом отдыхали в каких-то экзотических странах. Мужчина не спешил, а ее это злило. В конце концов она предложила что-то решить. Со скрипом, но женились, а живут прекрасно. На всё про всё ушло лет пять.
– Немало.
– Вот именно. Непросто всё, небыстро. Но она не спешила, рожать больше не собиралась, поэтому могла себе позволить потянуть.
– А почему речь о «дамочках слегка за тридцать»?
– Ну, до тридцати там все учатся, делают карьеру и уже потом семью. Они понимают, что после тридцати всё более стабильно: сложнее переигрывать судьбу. А в двадцать что? Женились – разженились… Дочка моей соседки вон уехала по Интернету в Англию сразу после института, а через год вернулась: «Больше не хочу». Оказалось, что? Муж приходил с работы, нырял в компьютер – и до ночи. Ну не принято у них общаться с женой на интеллектуальные темы. А девочка – выпускница английской школы, прекрасно знает язык, у нее интересы. Просидела она год, как в клетке, – и домой, больше, говорит, никаких иностранных мужей. Недавно нашла русского оболтуса – и счастлива безмерно.
– Почему оболтуса?
– Музыкант какой-то, на голове бандана, сам лысый.
– Зато с ней разговаривает.
– Ну, наверное…
– Не хочу я английского мужа, – проговорила Вика. – Язык мне всё равно не выучить, да, если даже выучу, всё равно не хочу. Тут со своим-то, по-русски, договориться не можешь, а там совсем завал. Эх, были бы деньги, никакого мужика не надо, так ведь? Ну, иметь так парочку для развлечения: взял, попользовался и положил обратно. И чтобы не влюбляться… Девочки, поздно-то как, надо спать…
* * *
Так привыкла лежать на спине, что меня это совсем не утомляет. Правда, последнюю неделю встаю ночью, чтобы размяться. Просыпаюсь от того, что немеет поясница: нужно подняться и минут пятнадцать походить.
Иногда вместе со мной ночами выходит Оля. Решила, что у нее бессонница, но оказалось другое. Оля – боится. Ночь длинная, и, чтобы убедиться, что она жива и всё в порядке, Оля просыпается, ставит галочку «нормально», немного походит и засыпает опять. Ей кажется, днем она себя контролирует и, если что, может себе помочь, а ночью – нет, так как спит. На самом деле это бред и чушь: как ни прислушивайся, ни днем ни ночью мы контролировать себя не можем. Как будет, так и будет.
Обычно я выхожу в коридор, бреду до балкона, смотрю на небо и медленно ползу назад. Этого вполне хватает, чтобы дожить до утра.
Поразительно, но я так устаю за этот больничный день, что проваливаюсь в сон мгновенно. За ночь моя бедная голова отключается настолько, что утром требуется усилие для возвращения в реальность. Всё время снятся сны, в которых я легко передвигаюсь – танцую, плаваю, летаю. И всегда удивляюсь, как это легко.
Снится всё время какая-то ерунда, вот только сон с мамой меня поставил в тупик. Если все персонажи – это я, мое подсознательное «я», его отражения, значит, оставляю одну часть себя, а другая часть уезжает и просит остановить автобус. Бред какой-то. Ладно, попробуем озаглавить так: «Опоздание». Не лучше… Остается на всякий случай приделать счастливый финал – водитель тормозит, и мама успевает – прокрутить несколько раз и выбросить из головы.
Ночью больница мне нравится гораздо больше: она менее холодная, казенная и унылая. Иногда я представляю ее старинным замком с разными потайными дверями и комнатами. Выхожу из палаты и всегда боюсь увидеть что-нибудь неожиданное, какую-нибудь параллельную реальность. Ну, например, бал, толпа людей в старинных одеждах и масках. Я их вижу, они меня – нет. Дамы с высокими прическами, у мужчин шпаги… Они о чем-то переговариваются, но так тихо, что я не могу разобрать ни слова. Они спешат и скрываются за дверью под лестницей. Гулкий смех, где-то играет музыка и позвякивает посуда…
Но нет, всякий раз одна картина: сестринский пост, горящая лампа и поскрипывание сверчка. Правда, вчера на балконе действительно кто-то стоял. Когда я стала приближаться, оттуда вышли двое и быстро исчезли в конце коридора. Очень явственно проступил и растаял горьковатый запах свежих хризантем. Вокруг царил сумрак, но я узнала Реутову, которая вчера дежурила, а вот кто был второй? Мужчина, кажется. Худощавый такой и длинный.
Впрочем, Реутова вскоре вернулась:
– А! Мария Федоровна! Днем лежите, а по ночам гуляете?
– Спина устает, приходится вставать.
– Да-да, конечно, походите. Я тоже выходила подышать. И, представьте, летучая мышь… Не простудитесь только на балконе.
«Не простудитесь…» – а в глазах вопрос: не увидела ли я чего лишнего? Из-за этого и вернулась и вроде бы вздохнула с облегчением: ведь мне ни до кого, кроме себя, нет дела.
Вика говорила про какого-то парня, который ждал ее у машины, – скорее всего, он. Худой, высокий. Как неудобно, что я помешала. Посмотрим, сколько на часах. Четыре… Предрассветный час. Хотя, наверное, нет, сейчас светает позже. Балкон выходит во внутренний дворик и сад. Должно быть, он пришел отсюда, этаж-то первый: раз – и перелез. Ну вот, спугнула чужое свидание, а людям, может, нужно было поговорить. Ужасно неудобно.
Постою минуты три и поползу обратно. Жаль, не могу сидеть – вон кресло есть. Экий чудный балкончик. Чей-то ведь был особняк – гуляли, пили кофий. Балкон длиннющий и широкий, уходящий за угол. А может, здесь сидели музыканты. Нет, лучше кофий, музыканты в зале.
Всё, поплелась назад… Ну вот, отлично: иду – и ни одного сокращения. Ночью всегда так. День – он и есть день: грохочет, трясется, пронизан сетью отношений и настроений. А ночью всё спадает, можно жить.
Не люблю ходить мимо приемного покоя. Кого-то привезли, переложили на каталку. Да, что-то срочное – и Реутова уже тут. Опять какая-то бедняга… «Срочно кровь… Анестезиолог… Вызывайте Толстоброва…» Мимо, мимо, не вижу, не слышу, не хочу, хочу спать. И зачем я это увидела? Всё, в постель. Гуляла пятнадцать минут, это много.
Утром тетя Лида (мы почти все новости узнаем от нее) рассказала, что женщина, которую под утро привезли с кровотечением, оказывается, из соседней палаты. Убежала домой на ночь, чтобы вернуться к обходу. Реутова не отпускала, но она упросила, а дома началось кровотечение, еле довезли… Срок двадцать четыре недели.
– Всё вам домой, домой! Главный уже два раза Маргариту Вениаминовну вызывал, влепил выговор и так кричал, что даже в хирургии слышно было.
– И где она теперь?
– Кто?
– Женщина. Такая светленькая, маленькая, да?
– Не знаю я, какая. Известно где – в реанимации. Выскребли, вливали кровь. Ой, горюшко… Почти шесть месяцев. Вам говоришь: лежи, лежи – нет, всё бежать, скакать.
– Так, может, у нее и здесь бы началось кровотечение.
– Если бы здесь, то Маргариту Вениаминовну бы никто не упрекал, угрозы жизни не было бы. А так скандал на весь горздрав. А если б не спасли? Не довезли? Вам что, а нас теперь проверками замучают. Да ладно, пусть проверками… Маргарита Вениаминовна каждый выкидыш так переживает – к ней подойти-то страшно. Вам всё скакать!
* * *
Маргарита Вениаминовна Реутова уважала себя за три вещи – профессионализм, работоспособность и умение затыкать черную дыру под названием «смысл жизни» подручными средствами. Особенно за последнее. Все-таки не без ее помощи часть людей явилась в мир, и это держало, укореняло, придавало устойчивость. Она никогда не смогла бы работать, ну, скажем, в сфере обслуживания или в торговле. Или в рекламе. А вот дворником – пожалуйста. Но, даже если бы вдруг ей пришлось стать домохозяйкой, она и тут бы отыскала смысл, в крайнем случае, изобрела. Смысл жизни, пусть даже придуманный, привносит в ее жизнь кураж. И вот этот самый кураж взял и враз куда-то подевался. Без всяких видимых причин. А тут еще ЧП в отделении. Из-за ее жалости больная потеряла ребенка и сама чуть не умерла на пороге приемного покоя. За восемнадцать лет работы первый случай. Главный, который всегда относился к ней с уважением, вышел из берегов и устроил публичную казнь… Нет, это не главный вышел из берегов – это жизнь предупреждает ее: пора возвращать себе смысл жизни, не то последуют серьезные меры.
Рабочий день давно закончился, но Маргарита Вениаминовна сидела в ординаторской, пытаясь заполнять истории болезни. Она твердо решила ликвидировать все хвосты сегодня, а вместо этого прокручивала в голове последнюю встречу с Кирилловым, который не нашел ничего лучшего, как заявиться к ней прямо на дежурство, да еще посреди ночи. Он намеренно застает ее врасплох, и ему это отлично удается. Она чуть не вскрикнула, когда он возник на больничном балконе из влажной темноты.
– Как черт из табакерки. Я вас напугал?
Он легко перекинул себя через широкие перила и встал прямо перед ней, мгновенно восстановив равновесие. Встал и несколько длинных секунд молча и пристально смотрел на нее так, что ей пришлось отвести взгляд:
– Немного.
– Простите, не нарочно. Ей-богу, не нарочно. Шел мимо с работы – через больничный двор короче. И вижу: вы. У вас что-то случилось. Что?
– Так поздно? Или рано… А почему пешком?
– Хотел пройтись. Весь день без воздуха, без света.
– Ужасно.
– Поверили? А я соврал. Почти соврал.
– Соврали, что без света?
– Соврал, что шел случайно. Я нарочно. А что с работы, правда. Я знал, что вы дежурите. – Интерн вспрыгнул на перила и уселся, болтая одной ногой. Реутова осталась стоять, как стояла, и у нее сразу возникло чувство, что вот она, как школьница, растерянно отвечает на его вопросы, и ей это скорее нравится, чем нет.
Она одернула себя и, не улыбаясь, повторила как можно равнодушнее:
– Ужасно.
– Нет, вы рады. Ну, признайтесь, рады?
– Не знаю. Да! Спасибо за машину, я у вас в долгу. Мне, право, неудобно.
– Ага, в долгу, конечно. Но об этом после. Я повторяю свое приглашение на день рождения и уточняю время: в субботу, в три часа.
– Хорошо.
– Так, значит, вы придете?
– Ну, если не случится ничего страшного вроде землетрясения или наводнения, приду. – Реутова сказала это весело и с выражением, внимательно наблюдая за реакцией, но никакой внятной реакции не последовало, и после еле уловимой паузы Кириллов быстро проговорил:
– Прекрасно, я заеду, скажите адрес.
Немного подумав, она предложила:
– Встретимся у метро «Парк Победы».
– Отлично.
– Только, Сергей Леонидович, давайте договоримся сразу: я пробуду столько, сколько сочту нужным, и вы не станете меня удерживать, идет? Ни вы, ни ваши гости.
Кириллов рассмеялся:
– Вы сказали это как учительница.
– Я и гожусь вам в учительницы. Были же вы моим интерном.
Он рассмеялся снова.
– Еще неизвестно, кто кому во что годится… Ну, что касается гостей, то их не будет. И, разумеется, вы вольны встать и уйти в любое время.
– А почему гостей не будет?
– Да ну их, не хочу. Совсем забыл, – Кириллов легко спрыгнул в сад, вытащил спрятанный в кустах букет хризантем, перемахнул обратно и протянул его Маргарите Вениаминовне, – это вам.
– Где вы их взяли ночью?
– Купил, стащил… Неважно. Вам нравится?
– Какой тревожащий аромат. Всегда это подозревала, а поняла сейчас. Как странно.
– Я не разбираюсь. Так нравится?
– Конечно.
Немного помолчали. Цветы в руках словно обязывали к чему-то, и Реутова заговорила первой:
– В мае здесь так поют соловьи, что я нарочно беру дежурства, чтобы послушать. Они поют на заре, вечерней и утренней. Всегда немного – от силы час. В одиннадцать вечера и в половине пятого утра. И тогда все остальные птицы молчат. Сначала наступает тишина, как перед концертом, и они начинают. Потом снова пауза, соловьи замолкают, и тогда вступают все остальные. Май – начало июня – и всё, опять до следующего мая. Впечатление потрясающее, если слушать внимательно. После этого долго приходишь в себя. Идите, вы устали. Поздно…
– Рано. Дайте номер вашего мобильного.
– Не дам.
– Хорошо, не давайте. Завтра, то есть уже сегодня, четверг. В пятницу я позвоню в ординаторскую. Не скучайте. Ой, смотрите, смотрите – летучая мышь.
Реутова вгляделась и увидела на его левом плече довольно большую летучую мышь, которая замерла, как изваяние, вцепившись в рукав рубашки всеми лапками.
– Здесь пропасть летучих мышей. Однако как ухватилась…
Кириллов быстро снял рубашку, чтобы стряхнуть мышь, и Реутова, смутившись, отвернулась. Он заметил. Вот тут-то их Гончарова и застукала. Пришлось срочно выпроваживать его через черный ход. Интересно: поняла она или нет? Да если и поняла… в конце концов, он же врач, вот, зашел по делам. В четыре часа ночи? Кошмар – так влипнуть. И хризантемы…
Зазвонил телефон. Валера. Сейчас заедет, чтобы ее забрать, – сегодня пятница, пробки, и она без машины. Пусть заезжает: она всё закончила.
Ей нравилось, когда муж забирал ее с работы. Выходил из машины, шел через больничный сад, ждал у дверей, и потом они медленно брели назад. Они так ладно смотрелись вместе, что это всегда вызывало и зависть, и радостное любование. Рядом с Валерой она не чувствовала возраста и знала, что он ее видит не такой, какая она сейчас, а такой, какой увидел впервые. Увидел, создал в голове файл «Рита» и отныне воспринимал только так. Он ей об этом как-то говорил, да она и сама это чувствовала. Несмотря на то что они были ровесниками, Валера выглядел старше, как все поджарые мужчины, и смотрелись они всегда гармонично, будто пригнанные друг к другу. Не то что с Кирилловым: племянник и тетка.
В вазе стояли вчерашние хризантемы. Хотела забрать их с собой – она всегда забирала цветы, – но потом передумала: не надо нести отношения с Кирилловым в дом. Отношения… Значит, они уже существуют и заставляют с ними считаться.
Муж собрался в Москву – дня на два, как раз на выходные, что-то там нужно для выставки, предлагал ехать вместе, но она отказалась, сославшись на усталость. Так на усталость или на Кириллова?
На усталость, разумеется, на усталость – при чем здесь Кириллов? Ну сходит она, раз обещала, часок посидит и уйдет. Не ухаживает же он в самом деле? Так, озорство.
Она быстро спустилась по центральной лестнице и почти у самых дверей столкнулась с мужем.
– Привет. – Он бегло поцеловал, еле заметно улыбнувшись и скользнув по ней одобрительным взглядом: – Чего-то я не помню это платье…
– Прошлым летом покупала. Всё, надо отдыхать. Так невозможно.
– Ну, выставлюсь, тогда.
– А куда поедем?
– Не знаю, надо думать. Как дела?
Она помолчала, раздумывая, рассказать ли о том, что случилось. Прежде она такие вещи рассказывала с порога, но вот уже лет пять, как перестала: не стоит близких нагружать.
Раньше она и подругам о чем-то всё время рассказывала, теперь же – почти ничего. Жаловаться не хочется и неудобно, хвастаться – неприлично. Да дело даже не в этом. Раньше всё время хотелось делиться, вместе переживать свое и чужое. Сейчас – расхотелось, жалко сил и – бесполезно.
– Ты меня чем-то накормишь? Голодный как собака.
– Спрашиваешь так, будто я тебя кормлю раз в неделю. Заедем только зелени купить и фруктов. Как выставка?
– Ничего не готово. Сегодня весь день носился с каталогом – представь, они не успевают. Идиоты… Приедут из Голландии, из Швеции, приедет Генрих – каталога нет. На кой тогда и выставка.
– Отдай в другое издательство – сейчас их тьма.
– Тьма мелких типографий. А тех, кто соблюдает все ступени технологического процесса, единицы. Напечатают – свои работы не узнаешь.
– Пора заводить пресс-секретаря – не всё же самому-то бегать.
– Тогда я еще буду бегать и за пресс-секретарем. Уж лучше сам. Слушай, а может, ты пойдешь ко мне секретарем?
– По совместительству?
– Нет уж, голубушка, на ставку.
– И сколько ты положишь?
– Вот так всегда. До чего все бабы меркантильны!
– Это ты меня бабой назвал?
– Ну, извини…
– Я задала вопрос по существу: какой оклад? А ты грубишь.
– Да не грублю. На какой бы ты пошла?
– Надо подумать.
– Давай-давай, подумай. Да я серьезно, Рита. Сколько можно? Одни твои дежурства уносят полжизни.
Когда садились в машину, ей показалось, что возле ворот в больничный сад стоит Кириллов, она даже оглянулась еще раз, но там уже никого не было. Наверное, все-таки показалось.
Она порадовалась, что муж рядом, и оценила привычный душевный комфорт: не надо думать, что сказать и как сказать, что делать и чего не делать. Она не хочет ребусов, загадок, не хочет бродить в лабиринте отношений, предпочитая знакомый маршрут, где всё известно наизусть. А Кириллову подавай американские горки: ну что ты хочешь – возраст.
– А может, мы в ресторанчик сходим? Давно не ходили.
– Сходим, сходим… Только не сейчас. И не завтра. Я завтра уезжаю.
Муж ресторанов терпеть не мог, для таких походов нужна была причина. Иногда, после продолжительных уговоров, соглашался, они шли куда-нибудь посидеть, и он всегда удивлялся:
– А знаешь, здесь ничего, ничего… Ты довольна?
И потом опять долго-долго его невозможно было никуда вытащить.
– Выставка через два месяца. Значит, я уже могу искать путевки, да?
– Можешь, можешь.
– Будет холодно, а мы поедем в теплые края. Поедем?
– Поедем. Вот спихну всё это.
Маргарита Вениаминовна внимательно посмотрела на мужа и только сейчас заметила еле уловимую изможденность в его лице. Не усталость, а именно изможденность – бледность и сухость кожи, вдруг проступивший пигмент, набрякшие веки.
На отдых, на отдых, на отдых. Спать, дышать сосновым воздухом. А главное, переключиться.
Выставляться и продаваться муж начал относительно недавно. Долго работал театральным художником, но потом что-то щелкнуло, и он ушел на вольные хлеба.
– Сейчас или никогда, – сказал он жене, и та согласилась. – Надоело рисовать декорации.
Это были времена, когда они жили на одну ее зарплату и никуда, кроме старой дачи близ Комарово, не выезжали. Валера сутками не выходил из мастерской.
Никто не знал тогда, во что это выльется. Но после какой-то незначительной и сотой по счету коллективной выставки его заметил немецкий коллекционер Генрих Рубер и купил две работы по баснословной цене. Будь на его месте она, она бы купила совершенно другие – «Трех девушек в красном» или «Автопортрет после пожара». Но он купил то, что, на ее взгляд, относилось к побочной ветви Валериного творчества и что про себя она называла «интерьерной живописью». Купил и заказал другие. Валеру тоже мало интересовали купленные «интерьеры», но на эту сумму они свободно съездили в Европу, и еще осталось на кухонный гарнитур. Господин Рубер делал заказы регулярно, тактично намекая, что именно он хотел бы видеть в следующий раз.
Они тогда ощутили резко наступившее благополучие, и всё бы чудесно, окажись ее муж ремесленником с некоторыми способностями. Но он был настоящим художником, которому, чтобы докопаться до собственной сути, нужно было переплавить тонны руды. А он вместо того, чтобы «плавить», зарабатывал вместе с Рубером деньги. Рубер был коллекционером и одновременно посредником между художником и заказчиком. Валерины картины он поставлял в Европу, висели они обычно в холлах, столовых или хозяйственных помещениях роскошных домов. В собственную коллекцию он брал совсем другие – не Валерины. И Маргарита Вениаминовна чувствовала: вот-вот наступит время, когда муж скажет очередное «сейчас или никогда», порвет контракты с Генрихом и опять надолго запрется в мастерской. Что делать? Ничего. Это его жизнь, имеет полное право. На эту, грядущую выставку он очень рассчитывал, намереваясь показать Руберу десять новых работ, сделанных совершенно в ином направлении.
– Погляди… Набросал вчера, – сказал он неожиданно, когда они поднялись в квартиру. И пристроил на столе ее графический портрет.
Она немного отошла и вздрогнула. Лицо вполоборота, прижатые к вискам пальцы – всё это точно передавало ее настроение последних недель. Растерянность, вопрос, почти испуг, зрачки, «обращенные внутрь». И ожидание чего-то. Причем она была много моложе, чем в жизни. Моложе, красивее, интереснее.
– Спасибо, что ты меня так видишь.
– Как?
Чуткий художник, он давно уловил это ее состояние, но уловил интуитивно, без расшифровки и облечения в слова. Такое с ним случалось – реагировать на происходящее неожиданными работами, и эти работы оказывались лучше многого продуманного и выношенного. Тот «Автопортрет после пожара» он написал после реального пожара в Доме художника в Москве, когда у него, как и многих других, сгорела сразу серия лучших работ.
Давно он не писал ее портретов, и вот… У Маргариты Вениаминовны блеснули слезы, ей стало неудобно. Никто никогда к ней не будет относиться лучше, чем он. И видеть ее так, как видит он, тоже никто не будет.
– Ты знаешь, – сказала она неожиданно, – давай поедем завтра вместе.
– Куда?
– В Москву.
– Мммм… Лучше я один, наверное. Зайду к Евграфу – ты его не любишь.
– К Евграфу?
– Да, к Евграфу. Посидим немного.
– Понятно…
– Что понятно?
Значит, так и есть: разорвет контракты с Генрихом. С Евграфом – Мишей Евграфовым – они вместе учились в «Мухе» [1]1
Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная Академия имени А. Л. Штиглица, бывшее Художественное училище им. В. И. Мухиной.
[Закрыть]. И были невероятно похожи. Одно время тот очень активно делал вещи на заказ, а потом как отрезало: сказал, что такая работа убивает в нем всё, нет уже сил думать, мучает что-то внутри и так далее. Закрылся в мастерской, два года не выходит. Но Евграф – скульптор, а на скульптуру сейчас как раз большой спрос. «Зайду к Евграфу». Так и есть, едет советоваться, хотя и сам уже всё решил. Придется готовиться к скромности в запросах. Деньги почти все проездили. Ну и ладно, ну и ладно.
Лет десять назад она бы спросила:
– Но ведь можно одной рукой писать работы Генриху и жить нормально, а другой – пытаться что-то сделать «для вечности», нет?
Нет. Нельзя. Но, скажем, Булгаков, Олеша, Ильф с Петровым – кто еще? – служили в газетке под названием «Гудок», правили дурацкие заметки, а ночами творили. Вон сколько сотворили… Так только они были молоды, да и в «Гудке» строчили недолго, для разбегу. Рано или поздно приходиться выбирать.
Как говорит Светка, или в баню, или в турпоход. Как говорят чеховские герои, «мне сорок лет, а я ничтожество». А тут уже за сорок…
Но в то же время, как говорит он же, Евграф, ваяешь, ваяешь, мучаешься – на выходе опять баба с веслом! Тогда уж лучше продаваться. Но в том-то и дело: узнать, шедевр это или «баба с веслом», есть только один способ – сделать.
Реутова подошла к портрету, потрогала его руками и сказала:
– Если не хочешь работать на Генриха, не работай.
Он помолчал, скрипнул зубами:
– Я не знаю.
* * *
Подарок! Она чуть не забыла о подарке, раздумывая, что ей завтра надеть, как держаться, о чем говорить. Что, что? Что обычно. Держаться непринужденно, естественно, а говорит пусть он. Но подарок… Рубашки-шарфы-туалетную-воду нельзя – слишком интимно. Диски-книги – не пойдет, она не знает его вкусов. Бытовая техника? Например, электрический чайник… Она вдруг вспомнила, как Светке ее бойфренд сто лет назад подарил навороченный фен, и как та рыдала: «Он точно меня бросит!» И действительно, вскоре они расстались – правда, по ее инициативе. Так что техника – хорошо. Техника держит дистанцию. Только не чайник, не чайник… Надо что-нибудь смешное и ненужное. Что?
Можно пройтись по художественным салонам, они выручают.
…Реутова поймала себя на том, что вот уже два часа сидит в ординаторской перед телефоном, а он не звонит. В четыре она уходит, а там – как хотите. Как хочет. Свой мобильный она не дала, домашний ему неизвестен, так что… А может, он опять пошутил? Может быть. Так что, возможно, всё сорвется. Она уже настроилась на завтрашнее приключение и сердилась, что он не звонит, и, чтобы вытащить себя из этого состояния, резко встала и направилась в приемный покой. Не позвонит – и хорошо, даже лучше. Она займется уборкой, может быть, даже вымоет окна, устанет до последней степени и ляжет читать Москвину. Татьяна Москвина – самый талантливый и самый злобный театральный критик Санкт-Петербурга и всея Руси – состояла в отдаленном знакомстве с Валерой и как-то подарила ему свои книжки. Маргарита в них заглянула и влюбилась на всю жизнь: столько там было ума, тонкости, юмора и яда. На месте несчастных режиссеров и актеров, которых Москвина уничтожала одним словом, она бы ей приплачивала – за внимание к их персонам. Всякий раз после очередной статьи Маргарита Вениаминовна чувствовала острый вкус жизни, словно театральные рецензии придавали этой жизни смысл. Или его проявляли.
За это послевкусие она Москвину и любила, нуждалась в ней. Она даже начала чаще бывать в театре и вскоре обнаружила, что у нее прорезался театральный слух – способность отличать искусство от культмассовой поделки. И выяснилось невообразимое: в Питере на театральных сценах в восьмидесяти случаях из ста идут именно что поделки. Ужас. А что тогда в провинции?








