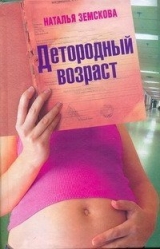
Текст книги "Детородный возраст"
Автор книги: Наталья Земскова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава III
24–26 недель
Я лежу, смотрю в тусклый потолок и думаю о Жанне из нашей бухгалтерии. Примерно на этом сроке у нее начались преждевременные роды, и мальчиков – оказалась двойня – спасти не смогли. Казалось бы, какая разница, пять или шесть месяцев, но разница гигантская. На пяти еще возможен поздний аборт. Шесть – уже преждевременные роды…
Шесть – это ближе к семи. Шесть – это ужас как страшно. Месяц я здесь отлежала, начинаю второй. Дня три как ничего не капают, и, по идее, Реутова вполне может отправить меня домой – до следующего острого состояния. Но перевозки, перевозки… Сказала, что никуда не поеду, готова платить за лечение. Она только рукой махнула и ушла в ординаторскую. Значит, пока не отправит.
Начались явные шевеления ребеночка, будто он крутится, как веретено: раз – и повернулся. А до этого были совсем слабые – движение волны, как будто рыбка проплыла и замерла. Совершенно новые для меня ощущения.
Страшно-то страшно, но есть и плюс: кончилось «межсезонье», то есть период от четырех до шести месяцев, когда беременность как будто бы совсем не проявляется. То ли есть она, то ли нет. Токсикоз давным-давно закончился, а шевелений еще нет, и как ты к себе ни прислушивайся, всё равно ничего не услышишь.
Тяжелее ходить, тяжелее лежать, невозможно сидеть. Сильно расширились вены и всё время болят. Надеваю супертугие чулки на резинке, что почти невозможно с моими способностями, и только тогда встаю. Вены мне еще пригодятся. Пока лежу, живота не видно: он расползается к бокам, и малышка уютно (так я думаю) располагается на мне. Но все попытки устроиться на боку обречены: разросшаяся матка сильно напрягается и становится твердой, как камень, плоскостью. Никогда бы не поверила, если бы не увидела своими глазами. Каждая такая ее реакция приводит меня в ужас, но всякий раз мне кажется, что надо пробовать еще. Не надо, лишний риск – и только.
На той неделе выписали Вику. Перед тем как уйти, она вымыла мне голову – совсем как в парикмахерской. Нагрела чайник воды, велела запрокинуть голову и вымыла над тазом. И так быстро и ловко у нее это вышло, что я не успела устать. Вымытая голова – самое счастливое событие последнего месяца. О большем мечтать не приходится. Душ здесь какой-то есть, но я, скорее всего, не вынесу такую процедуру.
Выписали Громкую Зою. Не выписали – перевели в перинатальный центр, в палату интенсивной терапии, и у нас пока две свободные койки. Оксана, как и я, лежит, у Тихой Зои – плохие анализы, Олю Старцеву наблюдают. В четыре Оля обычно уходит домой, и мы остаемся втроем, уставшие от разговоров и неизвестности, каждая по-своему проживая еще один день.
Чтобы подвести ему черту, я начала петь детские песни. Глажу руками живот и пою, чтобы малышка меня слышала. Во время пения пытаюсь радоваться, чтобы ей доставались положительные эмоции. И так мы с ней всё время в страхе…
Алеша мне принес фонендоскоп, и я слушаю сердцебиение маленькой. Ее сердечко стучит часто-часто – где-то сто шестьдесят ударов в минуту, и мне приходится делать усилие, чтобы сосчитать и не сбиться. Сто шестьдесят! Никогда бы не подумала, что так много.
Буквально на днях мы с ней наладили связь. И стоит мне подумать о ней или ее позвать, как она делает движение. Когда я начинаю с ней разговаривать или напевать песню, она перестает шевелиться и слушает. Правда, сегодня она меня напугала. Проснувшись утром, я, как обычно, «вышла на связь», но никакого шевеления не последовало. Я позвала еще и еще – тишина. Дрожащими руками достала фонендоскоп, послушала стук сердечка, немного успокоилась, поговорила с ней, попросила подвигаться. Некоторое время она не шевелилась, а потом вдруг последовали три внятных толчка, как будто она со мной играла.
Иногда она не шевелится и час, и два подряд – я ужасно пугаюсь. А потом может долго «играть» и «кувыркаться», зная, что меня это радует.
Уверена, мы понимаем друг друга. И чтобы ее не пугать, я изо всех сил скрываю свои страхи. Страхов у меня – некуда девать. Вот, например, бывает замирающая беременность, когда младенец в утробе матери вдруг перестает развиваться. Но я уговорила себя, что вероятность этого кошмара – один случай на миллион, и нечего заморачиваться. А сама всю дорогу тянусь к фонендоскопу.
– Маша, ты так сойдешь с ума, отдай фонендоскоп обратно, – просит Тихая Зоя.
– Не отдам. Пока я ее слышу и пою песни, с нами ничего не случится.
– Отвлекись, почитай, повяжи.
– Мне нельзя отвлекаться, пойми ты.
– Да кто тебе сказал?
– Никто. Не знаю… Но это точно. Отвлекаться нельзя. Я должна следить за маткой и время от времени слушать ребенка.
– Сойдешь с ума.
– От этого не сходят. Сидели же люди годами в тюрьмах, карцерах, одиночках – и ничего, переключались потом на обычный режим.
– И где они, те люди.
– Буковский, скажем, в Англии. Пятнадцать лет сидел за антисоветчину, если помнишь.
– Его на кого-то потом обменяли, да?
– На Луиса Корвалана.
– Подряд пятнадцать лет?
– Нет, с перерывами и сменой декораций: тюрьма, лагерь, лечебница для душевнобольных.
– А он что, душевнобольной?
– Ну, в какой-то степени да, если человек практически в одиночку пытался бороться с тоталитарным режимом и железным занавесом. В тюрьме он выучил английский, читая Диккенса в подлиннике.
– Обалдеть.
– Ага. И первую пресс-конференцию после депортации вел по-английски.
– И что же?
– Преподает там вроде в Оксфорде и пишет книги. А шел, между прочим, конец семидесятых – какая заграница?
– А он туда хотел?
– Не знаю. Скорей всего, не думал. Но они с ним замучились, не знали, что делать, вот и отправили куда подальше.
– А чего мы с тобой про Буковского заговорили? – Зоя уселась на кровать, положив под спину подушку и устроившись, будто в кресле.
– Да вспомнила его тюремные записки – что-то похожее я сейчас чувствую.
– Ну, Маш, ты и сравнила! Наша «тюрьма» хотя бы конечна по времени.
– Я не об этом. Буковский писал, что в тюрьме на тебя всей своей тяжестью наваливается чувство вины перед близкими. Сидишь в карцере, книг не дают, и память любезно подсовывает то, о чем ты очень хотел бы забыть. Что вот, скажем, когда-то, сто лет назад, твоя мама лежала в больнице, а ты, идиот, гонял в футбол и ходил к ней через раз, – ну и так далее. У каждого свое. Он, например, вспоминал про убитого зайца.
– Какого зайца?
– Обыкновенного, белого. Пишет, что возвращался как-то с друзьями с охоты, и вдруг на дорогу выскочил заяц. И они, те, кто были в машине, стали палить по нему изо всех сил. Заяц метался, но его, конечно, убили. Так вот, Буковский говорит, что и до этого, и после ему доводилось на охоте убивать зверей, в том числе зайцев, но такого чувства вины, как за этого, он не испытывал никогда. Пишет, мол, получилось, «за него я и сидел…». Пока живешь обычной жизнью, об этих «убитых зайцах» не помнишь. Но стоит выйти из ежедневной круговерти, как они прямо-таки воскресают из мертвых.
– Точно… – задумалась Зоя. – Но я думала, это только со мной. Слушай, а может, лучше, что эти «зайцы» иногда воскресают. Ведь в обычной жизни они всё равно сидят в подсознании. Как скелеты в шкафу.
– Сидят, конечно.
– А у тебя какие «зайцы»?
– У меня, Зоя, долги.
– Большие?
– Неоплатные.
– Понятно.
– Вот сейчас умирает моя бабушка.
– У тебя что, бабушка жива?
– Обе.
– Как здорово.
– Так вот, бабушка Нюра, Анна Павловна Голубева, со мной сидела до пяти лет. Когда мне было восемь месяцев, мама вышла на работу, а я оказалась несадовская. Бабушке было всего сорок пять. Почти как мне сейчас.
– Маша, тебе тридцать девять.
– Ну, где тридцать девять, там и сорок пять… И я была на бабушке всё время. А у нее хозяйство, дом, скотина.
– Так ты не из Питера, что ли?
– Я из Шарьи. Сюда в Герцена поступила, как Громкая Зоя, только она закончила Дефо [2]2
Дефо – от «дефектология». Факультет коррекционной педагогики.
[Закрыть], а я филфак. Нет, при мне скотины вроде не было – неважно. Дом, огород. И самой сорок пять, жизнь начинается. А вместо жизни я, прекрасная. И вот теперь бабушка умирает, мама, как всегда, работает, а я лежу и стараюсь об этом не думать. А еще она всю дорогу сидела с Аней, моей дочкой. Как, впрочем, и вторая бабушка.
– Так это, Маша, нормально. Все сидят.
– Не все. Или не так…
– Твоим бабушкам сейчас важнее всего, чтобы ты спокойно родила.
– Вот именно, Зоя, вот именно! И так было всегда: чтобы я не болела, чтобы я отдохнула, чтобы смогла доучиться, когда ребенок был маленький. Потом то же самое началось с Анькой.
– Это естественно. Вот доживешь до внуков, начнешь отдавать этот долг им.
– Я всегда думала: вот два главных события человеческой жизни – приход в мир и уход из него. Но какое разное отношение! При рождении все поют и пляшут, младенца встречают, как короля. А когда старый человек уходит, им только тяготятся. Если есть кому тяготиться, а то он и вовсе умирает один.
– Так человек всегда один. Вот ты сейчас?
– Одна. И больше чем когда-нибудь.
– А что, с бабушкой кто-то живет?
– Нет, только приходят. Дедушка умер, когда я училась. В детстве у меня были две бабушки, два дедушки. Учитывая то, что оба воевали, невероятно. Одного после ранения комиссовали в сорок втором. А другой воевал до конца, до Варшавы. Каждые выходные мы ходили к ним на пироги. То к одним, то к другим. И вот в детстве, знаешь, я хорошо понимала, что такое вечность. Вечность – это когда ты опять и опять пойдешь к бабушкам на пироги.
– Здорово.
– Они всё время смеялись, если собирались вместе – бабушка, ее сестра, мама и мамина сестра. А вот теперь я лежу и думаю: как она умудрилась сохранить эту способность смеяться, у нее же четвертый ребенок в возрасте шести лет погиб. Попал под машину. Когда Боря погиб, мама – самая старшая – училась в десятом. И вот она рассказывала, что всю ночь накануне похорон бабушка сидела за швейной машинкой и шила ему костюмчик. Жили бедно, и он донашивал вещи брата и сестер, ничего нового у него не было, и в гроб положить было не в чем. Тогда ему первый раз купили и новую обувь – сандалии, и от этого все плакали еще больше. А потом бабушка лежала и ничего не ела – хотела умереть. Соседка приходила, доила корову, ругалась. Но нужно было жить ради детей, и она выжила. А через девять лет после Бориной смерти появилась я и словно бы заняла его место.
– Боже мой, тогда машин-то на дорогах почти не было… – Зоя встала, подсела поближе и взяла меня за руку.
– Он хотел прокатиться, уцепился за борт, не удержался и упал прямо под колеса. Домой принесли еще живого.
– Тебе что говорят? Думать о хорошем.
– Вот я и думаю о бабушкином доме. Не то чтобы думаю, а просто я поняла: это всегда со мной. Понимаешь? Тридцать с лишним лет спустя я помню, сколько там ступенек.
– И сколько?
– Восемь. И сирень у входа, и высокая печь, в которой бабушка готовила, ухваты, чугунки…
– Это в городе?
– В городе. Там и сейчас полно таких домов. Магазин «на горушке»…
– Это как?
– На горке то есть. Я была счастлива, когда меня туда отправляли одну за какими-нибудь пустяками. Бабушка любила цветы, и весь огород был засажен цветами и ягодами. Как я теперь понимаю, он был совсем небольшой, а нам казалось – целое царство. Но вечность кончилась, домик снесли, построили какую-ту дребедень, бабушке дали квартиру, которую она не любит. А я, когда приезжаю домой, хожу на то место, где всё, кроме дома, сохранилось по-прежнему, и, как наркоман, втягиваю ноздрями те запахи, ловлю свои давние настроения… Знаешь, я так мечтала выбраться из Шарьи и жить в большом городе, что дала себе слово никогда туда не возвращаться. А сейчас, чем дальше, тем больше меня этот большой город приводит в ужас.
– Питер?
– Неважно. Мегаполис. Из-за машин, конечно. Шум, выхлопы, не видно горизонта… Хочется земли, сирени и чтобы в радиусе километра ни одной машины. Понимаешь, тоска по запахам: травы, дождя, цветений. Выхожу и, как собака, принюхиваюсь.
– Это из-за беременности.
– Да нет, уже лет пять… Сколько раз говорила себе, что надо сесть и по рассказам бабушек записать историю семьи. Двух прабабушек и прадедушку я и сама помню. Сагу потом писать можно. И вот – не успеваю. А сколько там всякого… Бабушка рассказывала, что в сорок первом, когда дед был ранен и его везли в госпиталь через Шарью, ему удалось подать ей весточку, и она в чем была прибежала на станцию, прыгнула к нему в вагон, и они с полчаса ехали вместе. Ехали и прощались, потому что дед понимал, что это будет за война. В последнее время она часто об этом вспоминала. Но он вернулся довольно быстро – из-за изуродованной правой руки. После войны работал начальником ОРСа, его весь город знал. Николай Федорович Голубев.
– А вторая бабушка?
– Ей восемьдесят восемь, живет с моим братом. Похоронила мужа, брата и сына. Дедушка умер в девяносто пятом. Сердце. Через два года – мой папа, ее единственный сын. Пять лет назад – брат, который, кстати, жил здесь, в Ленинграде… И вот я, бывало, приезжаю в Шарью, иду к одной бабушке, потом к другой… У второй, бабы Тони, до последней поры стоял мой детский уголок с игрушками. Сейчас приеду, и зайти будет некуда…
– А мама? А брат?
– Мама и брат – это дом. Это другое… Второй дед, Михаил Николаевич Звонарев, танкист, был очень жестким и властным. В тридцать восьмом его забрали в армию, а перед тем как ему демобилизоваться, начинается война… Мой папа родился уже без него, и, когда дед вернулся, папе было семь лет: три года армии плюс четыре – войны. Вернулся, а ребенок плачет, боится подойти: уходи, дядя! Баба Тоня всё это время жила у свекра и свекрови. Дед вернулся героем, и его тут же как кадрового офицера направили на Колыму, начальником лагеря, где сидели одни убийцы. Бабушка, естественно, поехала с ним, а сына, моего отца, пришлось оставить: там не было школы, одни лагеря. На целых семь лет… В интернате. Бабушка работала кассиром, и время от времени ей приходилось ходить за двадцать километров в ближайший населенный пункт получать деньги. В сопровождение ей обычно выделяли какого-нибудь заключенного, и всякий раз эти уголовники подходили к деду и говорили: «Не волнуйтесь, с вашей женой ничего не случится». Авторитет деда был очень высок, потому что он относился ко всем по-человечески. С этим дедом связано много баек, историй. Например, говорили, он не умел плакать. Не знал, что такое слезы. «Коммунисты не плачут», «Гвозди бы делать из этих людей…» – и всё в таком духе. Два ранения, горел в танке, хоронил однополчан – не плакал. Но один раз было. Когда у меня в три года обнаружился гнойный аппендицит, и пришлось экстренно оперировать. Тогда еще хлороформировали, я жутко испугалась надетой маски, естественно, орала и просила дедушку ее убрать. Тогда он и заплакал. Ему очень шла форма, и он до старости носил шинель и френч. И умер тоже как военный. Сел на кровати – он лежал в больнице, у мамы в отделении – сказал: «Товарищи, прощайте, умираю!» И закрыл глаза. Я как раз была дома, приехала в отпуск…
– Тебе сказали: думай о хорошем.
– Да, Зой, на Колыме бабушка с дедушкой заработали сорок девять тысяч – по тем временам, семь «Волг». Одна машина стоила семь тысяч. Состояние. И это состояние сгорело в девяносто втором.
– Ужасно. И что?
– Как у всех, ничего. Бабушка Тоня, образец мудрости и спокойствия, ко всему в жизни умеет относиться по принципу: Бог дал – Бог взял. То, чему я пытаюсь научиться по разным психологическим книжкам, у нее просто в крови. Ее очень подкосила смерть папы. Год после этого она приходила к маме, обнимала портрет отца и плакала. А потом как-то сказала: «Может быть, и лучше, что Федя умер: он болел, страдал. А так ему, по крайней мере, легче».
– Сколько ей, ты говоришь?
– Восемьдесят восемь. Так она в этом году весь огород убрала, с детьми сидит, сериалы смотрит. Только Никиту, своего правнука, всё время называет Федей. Он действительно очень похож на папу. На детских фотографиях – одно лицо… Ты понимаешь, Зоя, все эти люди столько мне отдали и продолжают отдавать, что я всерьез боюсь, что мне не расплатиться.
– Перестань. Сказала же, в старости будешь сидеть с внуками. Вот и баланс твоим долгам. Только ты уж сиди, не ленись.
– Ты знаешь, я ведь и прабабушку, и прадедушку помню… После революции, когда жить в деревне стало совсем невозможно, прадед уходил на заработки в Питер, с осени до лета там работал, потом являлся с чем уходил и стратегически вопрошал: «Деньги али молодца?» Прабабушка обычно выбирала «молодца», хотя и ела его поедом, а через год история повторялась. Их потом раскулачили – забрали шаль и самовар.
– Вот родишь, сядешь с ребенком в декрет и обо всем об этом напишешь. Ведь жалко, если пропадет.
– Боюсь даже думать о будущем.
– А ты и вправду подумай о книжке. Вот если, например, каждый день писать по одной страничке, то за год можно написать триста шестьдесят пять страниц – талмуд. Маша, всего за год.
– Действительно.
– Да я так диссертацию писала. Не авралом, в три месяца и лунными ночами, а с утра по чуть-чуть. Но – каждый день.
– И вышло?
– Вышло. Но нужна дисциплина. Хочу не хочу – сажусь за компьютер, и всё.
– А вдохновение?
– Так его не бывает, по-моему. Бывает усидчивость, крепкая попа… Ты журналист, должна бы знать.
– Журналистская поденщина – совсем другое дело. Газета – это производство. Производство, продукция – и всё… Мне еще повезло, потому что в начальниках пишущие журналисты, для которых первична журналистика слова, а не журналистика факта. Последние из могикан. Им на смену пришли бойкие мальчики-девочки, для которых журналистика – пиар. Пишут – как болванки точат.
– Так это нормально. Есть такой закон: каждые полгода информация в мире удваивается. Представляешь, Маша, в геометрической прогрессии! А переваривать ее не успевают. Отсюда журналистика факта: важно донести информацию. Поэтому нужны бодрые штамповщики, а не золотые перья. Утрирую, конечно. Но в целом так. Меняй профессию, если противны болванки. Или открывай свою газету шедевров.
– Да, ты права, права…
– У тебя муж богатый?
– Муж как муж. Обычный.
– Жалко. Сидела бы в замке, писала бы книжки, и гори он, этот пиар. Приходили бы брать интервью, а ты их в шею, в шею.
– А в шею-то зачем? Пожалуйста, берите… Да ерунда всё это – богатство и замок. Для писательства нужно одно – зрелость и отсутствие реальных забот.
– Слушай, у Розанова прочитала: никогда ничего не пишите, живите лучше полной жизнью. А то истратите всю жизнь на писание, а выйдет глупость или ненужное… На даче валялась брошюра, а я возьми и прочитай. Как раз перед диссертацией, зараза. И вся книжка в том же духе. На даты жизни посмотрела – он старый был, когда писал. Лучше б сожгла ее в печке.
– Да почему? Он прав. Только что бы было, если бы вдруг так решили Достоевский, Чехов, Толстой?.. Ну а диссертация?
– Плюнула на Розанова, села и стала писать. Как видишь, написала. Но это полдела. По моим наблюдениям, если защита переносится, то вряд ли она вообще состоится.
– Вот новости! Родишь и защитишься.
– Если это мне будет вообще интересно. В крайнем случае, оставлю внукам на память. Мы думаем, что ребенок появится и станет плюсом к нашей имеющейся жизни. Как же! Он перевернет ее вверх ногами и разлинует по-своему.
– Ты говоришь с такой уверенностью, как будто он уже родился.
– Так нужно говорить. Сначала программа – затем результат.
– А если сбой в программе?
– Ну, если программировать сбой, получишь сбой. Раньше меня штатовские фильмы жутко раздражали своими причитаниями «Всё будет хорошо» в разгар какой-нибудь катастрофы, а сейчас я сама всю дорогу это талдычу.
Вот и я талдычу…
* * *
Маргарита Вениаминовна уже закрывала ординаторскую, чтобы уйти домой, как вдруг раздался звонок телефона. «Кириллов!» – решила она сразу и кинулась открывать дверь. Ключ, естественно, заело, и, когда она, наконец, с ним справилась, в трубке уже были короткие гудки. Кириллов… Только его звонки имели такую окраску, будто телефон звучал резче, пронзительнее. Сегодня четверг, в Кронштадт они ездили в субботу, и всё это время он не звонил – да и с какой стати? Начиная с понедельника она была завалена делами, и если и вспоминала о нем, то редко. Да и история Эльзы отодвинула Интерна куда-то на задний план. Дня два Маргарита Вениаминовна только и думала, что об этом мальчике, сыне Вадима. Вадима она никогда серьезно не воспринимала: пришел-ушел-опять-в-командировке. Но сейчас она смотрела на него другими глазами: завел роман, потом ребенка, и вот привел его в дом, наплевав на общественное мнение. А они-то считали его подкаблучником.
Конечно, люди с возрастом меняются. В них, как в природе, что-то нарастает, кристаллизуется, образовывая новую породу, или наоборот, рушится, размывается, приводит к пустотам. В последние годы такую новую породу она чувствовала в Валере, ощущая почти физически, как он становится всё более самодостаточным и жестким, особенно если речь идет о работе. Он стал меньше нуждаться в друзьях, дружеских посиделках, даже как будто и в отдыхе, и всё больше – в одиночестве, лучше сказать в уединенности. Какие-то пять – семь лет назад ни один праздник не обходился без шумной компании, и всегда стихийно собирались у них, и сидели до утра, ничуть не тяготясь ни числом гостей, ни количеством сказанного и выпитого. Сейчас он всё время в мастерской, куда почти никого не приглашает, и даже она старается не заходить туда лишний раз, чтобы не нарушать границ его мира, обозначившихся совсем недавно. Наверное, и она изменилась, стала другой, только до этого никому нет дела, в том числе и мужу.
Телефон зазвонил снова и действительно заговорил голосом Кириллова:
– Хотел узнать, как у вас дела.
– Как всегда. А у вас?
– Рутина. А ваш подарок я повесил над диваном.
– Надеюсь, он вписался?
– Скорее нет, чем да. Но перевешивать не буду, лень. Чем вы занимались всё это время?
– Всем и ничем.
– Понятно. Как и я. Какое у вас настроение?
«Никакое», – хотела сказать Реутова, но вместо этого сказала:
– Для Петербурга осенью вполне приличное.
– Ну да, ну да…
Пробормотав две-три ни к чему не обязывающие фразы, он попрощался и повесил трубку, а она пожалела, что вернулась в кабинет, потому что теперь, после этого звонка вежливости, нависла необъяснимая тяжесть, и она почувствовала себя обманутой, будто ей что-то пообещали и не дали. Она даже села в кресло, посидела так, пытаясь разобраться в своем настроении. И как всегда, стала задавать себе вопросы и сама же на них отвечать.
«– Ты ждала его звонка?
– Не ждала. Почти не ждала…
– Тогда почему расстроилась?
– Я не расстроилась.
– Нет, ты расстроилась.
– Хорошо. Но совсем немного.
– Почему?
– Потому что надеялась, он продолжит за мной ухаживать, вот почему! А он: „Как дела?“ – и всё.
– Тебе нужны его ухаживания?
– Я не знаю.
– А честно?
– Я не знаю. Но мне приятно.
– Ну хорошо, допустим, они есть, и что?
– Не знаю.
– Ты готова завести роман со своим бывшим студентом?
– Ни в коем случае!
– А честно?
– Я не знаю. Скорее, нет. Но на теплоходе мне с ним было легко и приятно, и я подумала, что…
– Что?
– Ничего. Пустое. Пора домой».
Быстро шагая по больничному саду, Маргарита Вениаминовна уже почти радовалась этому звонку, словно поставившему всё на место. Как и большинство людей ее возраста, больше всего на свете она ценила психологический комфорт и стабильность. Делая всё, чтобы удержать это настроение, она приехала домой, предвкушая очередной уютный и милый семейный вечер.
И всё прошло соответственно давно утвержденному сценарию: круглый стол под красной скатертью, разговор междометиями, заменяющий диалоги, запеченная рыба с картошкой, салат и крохотные фруктовые пирожные, какие делают только в местной кондитерской за углом. И даже фильм какой-то веселый и умный показали по телевизору, после чего мир пришел в то сладкое равновесие, которое всегда так необходимо и от которого тотчас начинаешь убегать, едва оно наступит.
Реутова уже лежала и пробовала читать, когда в комнату вошел муж и протянул телефонную трубку:
– Там, кажется, Эльза.
– Извини, бога ради, Андрюша заболел. Вадик уехал к родителям в Тихвин, ребят нет, я одна. Не знаю, что делать.
– Ничего, я не сплю. Что с ним?
– Температура тридцать девять и кашляет нехорошо, всё время плачет.
– Постой, как кашляет?
– Будто что-то мешает, и дышит тяжело. Лающий кашель.
– Наверное, стеноз. Вызывай «скорую». Открой кран с горячей водой, напусти в ванную пару, пусть дышит теплым влажным воздухом. Кларитин дома есть? Супрастин?
– Нет.
– Тавегил?
– Вроде нет. И воды нет горячей…
– Ничего. Вскипяти чайник в ванной – будет то же самое. Сейчас приеду, привезу антигистаминное.
– Да ты что, ночью?
– Вот именно что ночью. Я этих стенозов детских как огня боюсь. Всё, скорей дышите паром.
Нашла у себя лекарства, велела мужу одеваться и заводить машину, а сама забежала в дежурную аптеку – купить лазерный ингалятор и на всякий случай ампулу преднизолона. Чтобы снять приступ, этого хватит, а там подоспеет «скорая».
Эльза встретила их с ребенком на руках. Маргарита Вениаминовна взглянула на мальчика и, переглянувшись с мужем, опустила глаза: так этот ребенок походил на Вадима. Мальчишка дышал с присвистом и призвуком, напрягаясь при каждом вдохе и выдохе, не плакал, ничего не говорил и только жался к Эльзе. Ну конечно, ужасный стеноз, он всегда случается внезапно и быстро…
– «Скорую» вызвала?
– Сразу… Чего-то не едут. Это опасно?
– Если всё делать быстро и правильно, то неопасно. Не выходи из ванной – я сейчас.
Отправив мужа в гостиную смотреть телевизор, Маргарита Вениаминовна побежала на кухню, размельчила кларитин и капнула преднизолона в ингалятор. Увидев незнакомый жужжащий предмет, ребенок стал плакать и отбиваться:
– Не надо, не буду! Кусается! Хочу вертолетик!
Вместе с ним расплакалась и Эльза:
– Ну разве кусается? Открой ротик, дыши, всё пройдет.
В тот же миг ингалятор полетел на пол.
Маргарита Вениаминовна его подняла, взяла орущего ребенка на руки и медленно проговорила:
– Сейчас ты откроешь рот и будешь дышать, а мама пойдет за вертолетиком, но вертолетик прилетит только тогда, когда ты подышишь. Уходи, Эльза, быстро к Валере! И не возвращайся, пока не позову. На уговоры нет времени.
Та еще пуще разрыдалась, прижалась к ребенку лицом, но, встретив жесткий взгляд подруги, направилась к двери. Увидев, что она выходит, мальчишка зашелся в крике, гулко закашлялся, но всё же стал дышать, стараясь не прикасаться губами к странному жужжащему прибору:
– Ну, вот видишь, ты молодец. Дыши, а я буду считать. Раз, два, три, четыре. Три-четыре, раз-два… Самолет гудит, он сейчас взлетит, шлем надел пилот, звать его енот… Наш щенок, щенок Дозор, охраняет дом и двор. Целый день до ночи темной ходит он с трубой подзорной…
Она читала все детские стихи, какие приходили в голову, удивляясь тому, что вообще их знает, и продолжала вспоминать еще и еще. Поддаваясь ритму, завороженный ее голосом, ребенок постепенно успокоился. Он даже взял ингалятор в рот, вверяясь ей окончательно, но всё же поглядывая на дверь, за которой исчезла Эльза. Устав сидеть на краешке ванны, Маргарита Вениаминовна сползла на мокрый коврик и устроилась прямо на полу, переходя от Чуковского к Барто, от Барто к Заходеру. Свист становился тише, дыхание – ровнее. Взглянув на ребенка, она поняла, что он спит, но ингалятор не выключила, стараясь направлять струю лекарства прямо в гортань. Вскоре мальчик закашлял – начала отходить слизь, отек спадал. Когда приехала-таки «скорая», его уже положили в кроватку, продолжая наполнять комнату теплым влажным паром. Шум при дыхании абсолютно исчез, и Эльза отказалась везти ребенка в больницу.
– Будешь давать кларитин два-три раза в день, и всё пройдет. Надо будет сделать анализ на аллергены, чтобы знать, что исключить, это ОРВИ плюс аллергическая реакция, – объяснила Реутова и после паузы спросила: – Вадик поехал докладывать родителям про ребенка?
– Ага, – кивнула Эльза. – Как услышал, что он меня назвал мамой, так и помчался. Спасибо тебе.
– Постой, но в воскресенье ты чувствовала себя по-другому…
– Ну да. Я тогда вернулась, а у них всё вверх дном. Ни уложить, ни накормить толком не смог. Сидят в разных углах, старшие, естественно, сбежали. Вхожу, а Андрюшка как увидел, что я появилась, кинулся ко мне: «Мама, мама приехала! Ты полежишь со мной в кроватке?» Обняла его, а он хохочет, целует. Вадим подошел: «А папу поцелуешь?» – «Не поцелую», – и отвернулся. Теперь спим вместе, так он даже во сне мою руку держит. Натерпелся ребенок, понятно. И вот как он крикнет: «Мама, мама!» – у меня слезы.
Из гостиной вышел Валерий Николаевич и показал жене на часы. Та кивнула и обняла Эльзу:
– Я ж тебе говорила. Всё хорошо, всё хорошо.
– Ребенка люблю, а этого – глаза бы мои не видели! Валер, а ты что скажешь?
– Да тут сразу и не сообразишь…
– Нет, ну представь, тебе жена домой ребенка принесла…
– Так то жена, а здесь мужик.
– Ты слышала, Рита, ты слышала? У них всегда две правды. Для них одна, для нас – другая.
– Да нет, – проговорила Реутова задумчиво, – наверное, «правд» очень много. Правда жены и правда мужа, правда начальника и правда подчиненного, правда детей и родителей. И у Вадика своя правда.
– А как же! – усмехнулась Эльза. – Он в своих глазах теперь герой и жертва: ну, погулял, с кем не бывает, а баба-стерва родила, не спросила, да еще и ребенка бросила, заставила его всю кашу расхлебывать.
– Ты знаешь, я почему-то уверена, что Андрюша необходим вашей семье, – улыбнулась Маргарита Вениаминовна. – Как цементирующий элемент. И появился вовремя. Старшие вот-вот оперятся. Должно же что-то уберечь вас от синдрома пустого гнезда.
– Ты точно так думаешь? Но теперь я стану бояться, что она его может отнять. Вот протрезвеет и поймет, что сделала. Ну, может, через пять лет, не сейчас. Мало ли что расписку дала…
– Дать ей денег, она еще подпишет, – встрепенулся Валера. – Ладно, устаканится как-то, через год, думаю, будет ясно, что делать. Когда трудно принять решение, нужно прожить с этим год, и оно явится само собой.
– Может, явится, а может быть, и нет. У меня никогда само собой ничего не является, – обреченно вздохнула Эльза.
– Ну, какие-то вещи станут очевидными, это точно. Мы пойдем, ага?
Прежде чем уйти, Маргарита Вениаминовна заглянула в спальню, которая, судя по всему, сама собой превратилась в детскую. Послушала дыхание Андрюши и только сейчас заметила, как изменилась вся квартира: из пространства для взрослых она превратилась в пространство для ребенка. И этот ребенок занял всё, не спрашивая, что за жизнь здесь идет и нужен ли он. На полу – книжки, игрушки, горшок, детали «Конструктора». На столе – детские лекарства, посуда, начатая и брошенная игра. Но главное, поменялось что-то невидимое, неуловимое и, может быть, самое важное, будто сам воздух дома изменил свой химический состав.








