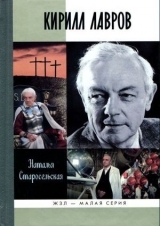
Текст книги "Кирилл Лавров"
Автор книги: Наталья Старосельская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
После спектакля «Сколько лет, сколько зим!», хотя критики и отнеслись к нему довольно прохладно, у Кирилла Лаврова появилось (просто не могло не появиться!) ощущение некоей новой профессиональной ступени. Он сыграл в спектакле по пьесе Веры Пановой роль для себя совершенно необычную, в которой мастерство его окрепло и развилось; роль очень сложную под внешней простотой рисунка, которая не могла не принести настоящего удовлетворения, потому что к этому моменту Лавров уже начинал чувствовать давление того «большого штампа», что довольно скоро заставит его играть исключительно положительных героев, не ведающих никаких сомнений и внутренних колебаний, не способных ни на предательство, ни на атрофию воли, ни на что, кроме жесткой выверенности каждого поступка и каждого жеста, кроме абсолютной, необсуждаемой правильности характера.
Но в 1966 году Георгий Александрович Товстоногов доверил Лаврову роль Нила в «Мещанах» М. Горького – казалось бы, отчетливо положительную, даже прогрессивную роль человека, призванного активно противостоять старому, отжившему свое миру Бессеменовых. Молодой рабочий с некоторой долей резонерства, он пытается взорвать старые устои. Но вряд ли это могло быть интересно для режиссера и артиста – гораздо заманчивее оказалось посмотреть на Нила как на человека нового с точки зрения его широты и свободы мироощущения. Революционное мировоззрение отходило на задний план – не было проку затевать бессмысленные споры со стариком Бессеменовым, куда важнее было вскрыть мещанскую суть царивших в доме устоев и порядков. Для себя Нил решил все просто и однозначно. «Я умею оттолкнуть от себя в сторону всю эту канитель», – говорит он Татьяне. И действительно, все, что происходит в доме, Нил отталкивает или просто отодвигает от себя – он не станет тратить ни свои нервы, ни свои эмоции, ни даже свои слова на «всю эту канитель». Эта внутренняя свобода, раскрепощенность позволяют ему быть таким, какой он есть: чуть нагловатым, развязным, ироничным, житейски-непринужденным. На слова Бессеменова: «Ты таким языком не смей со мной разговаривать!» – Нил спокойно отвечает: «А у меня один язык» и – с нахальным вызовом высовывает язык. Лозунговые афоризмы, которых достаточно в роли, Лавров произносит легко, словно вскользь, не заостряя на них внимания. Он с самого начала знает, что уйдет из этого дома, чего бы это ни стоило – уйдет от разросшегося буйным цветом мещанства, уйдет от канители, от бессеменовских бесконечных поучений, от унижений, которым здесь подвергаются не только Перчихин и Поля, но все без исключения обитатели дома. А стремление к этому уходу было обусловлено для Нила не только презрением к мещанству, но и скрытым страхом – ведь оно незаметно затягивает, словно болото, уводит в свои страшные глубины и губит. От этого надо не просто уходить, а бежать…
Нил Кирилла Лаврова был многозначен. В нем виделось не только хорошее, доброе, но и раздражающее, шокирующее: он вел себя с Бессеменовым и его детьми порой откровенно нагло, грубо, суждения его были безапелляционны, реплики были насыщены издевкой. Этот рабочий-мастеровой был совсем не так прост, как могло показаться в первом приближении…
В желании Нила «месить жизнь» скрывалось не только стремление разрыхлить ее для того, чтобы посеять потом в приготовленную почву цветы добра и справедливости, но и перемесить эту жизнь до внутреннего взрыва, до самоистребления. Насколько такой путь можно назвать созидательным? Режиссер и артист предлагали нам задуматься и об этом тоже.
К. Рудницкий отмечал в своей статье, что спектакль этот не по-товстоноговски скучен и томительно-длинен. Это не так. В 1971 году он был снят на пленку, многократно демонстрировался и продолжает демонстрироваться по телевидению, и у каждого из нас есть возможность взглянуть на эту историю и оценить ее с точки зрения не только великого спектакля и интереснейшей режиссерской и артистических работ, но и с дистанции времени, которое порой многое меняет в первоначальном замысле.
Виктор Гюго утверждал, что драматическое искусство достигает своего истинного назначения, «открывая зрителю двойной горизонт… сочетая в одной картине драму жизни и драму совести». Вот и в «Мещанах» открывается этот горизонт, представляя сегодня «драму жизни и драму совести» в некоей двойной оптике.
И еще одна ниточка памяти и ниточка моей судьбы, которую я выдергиваю из сурового полотна жизни.
В мае 1990 года, по случаю первой годовщины смерти Георгия Александровича Товстоногова, Большой драматический театр привез в Москву на один день спектакль «Мещане». Я уже описывала эту историю, но здесь она представляется мне настолько уместной, что не могу отказать себе в радости и волнении вспомнить ее еще раз.
В сад «Аквариум», где расположен Театр Моссовета, на сцене которого игрался спектакль, прорваться было невозможно. Меня, как и многих других, встречала Дина Морисовна Шварц, легендарный завлит театра – из-за решетки сада она махала мне, но пробраться не было никакой возможности. Представив себе на миг, что спектакль начнется, а я так и останусь в этой непроходимой толпе, я в отчаянии заработала локтями, коленями, направо и налево извинялась, проталкивалась, проползала ужом и – добралась до цели! Зажав в кулаке билет, я пробиралась в густой толпе по саду к входным дверям в театр, думая только о том, что через несколько минут свершится чудо – я вновь увижу спектакль, который не раз и не два видела; спектакль, специально восстановленный артистами к этому приезду, потому что в репертуаре его уже несколько лет не было.
Но предвидеть то ощущение, которое возникло в первые же минуты, было невозможно. Перед переполненным, боящимся дышать залом предстали артисты, ставшие на четверть века старше, но заметить этого было невозможно – как только они начинали говорить, словно причудливым поворотом машины времени все они возвращались туда, в те далекие годы, когда спектакль «Мещане» только еще родился. И снова Нилу было 25 лет, и снова Петр (Владимир Рецептер) и Татьяна (на этот раз вместо Эммы Поповой роль играла Лариса Малеванная) были на четверть века моложе… На пороге стояла совершенно иная эпоха, мы все стали старше, мудрее, в стране назревали огромные перемены, а пафос этого старого спектакля по-прежнему завораживал!.. Мертвая тишина царила в зрительном зале, люди внимали шедевру Товстоногова так, словно он был поставлен вчера, став своеобразным завещанием режиссера. И никому, никому не было дела до постаревших артистов – на них смотрели, как на молодых. Им верили, как молодым. Потому что все мы снова были на пороге нового времени и решали для себя насущные вопросы бытия. В частности, важнейший вопрос о том, что же есть мещанство.
А после спектакля, когда отгремели аплодисменты и уставшие, но счастливые артисты смогли, наконец, уйти за кулисы, чтобы разгримироваться и прийти в себя от невероятного напряжения, я выходила из сада «Аквариум» в густой и молчаливой толпе и оказалась почти притерта к группке совсем молодых людей. И внезапно один из них, в смешной кепочке, обронил своим, может быть, приятелям, а может быть, вовсе не знакомым людям: «Вот, оказывается, каким должен быть театр… Настоящий… Теперь и умирать не жалко. Я это видел…»
Что же он увидел? Что так ошеломило этого молодого парня? Может быть, ему открылась та мысль, о которой писал Георгий Александрович Товстоногов: «Мы слишком часто останавливаемся и придаем значение тому, что не стоит даже мимолетного внимания. Нас засасывает этот круговорот, и мы оказываемся в плену ничего не стоящих представлений и иллюзий, а порой и ложных идей.
Иногда мы получаем возможность как бы взглянуть на самих себя со стороны и тогда осознаем бессмысленность, иллюзорность целей, которых пытались достигнуть, но которые не стоят наших усилий, наших затрат. Эти проблемы волнуют сейчас многих драматургов мира, как волновали они в свое время Горького.
Как это ни покажется парадоксальным, толчок для новых размышлений по поводу „Мещан“ дал мне абсурдистский театр».
Слово «абсурд», разумеется, тогда никто, кроме самого Георгия Александровича, не произносил и не задумывался над ним, но эстетика абсурдистского театра в «Мещанах», несомненно, просвечивала. В спектакле 1990 года это стало абсолютно очевидно. Может быть, потому что мы к этому времени уже хорошо знали произведения драматургов-абсурдистов. А может быть, потому что слишком явственным стал абсурд нашей жизни…
Во всяком случае, спектакль «Мещане» воспринимался как современный, живой, наполненный нашими собственными мыслями, ощущениями, предчувствиями. Что уж тут говорить о его восприятии зрителями в 1966 году!.. Товстоногов и Лавров решительнейшим образом отказались от театрального утвердившегося штампа героического Нила, Нила-революционера. Он представал в спектакле абсолютно приземленным, в его хамоватости было многое от дня сегодняшнего, его афоризмы («Хозяин тот, кто трудится», «Права не дают, права берут» и т. д.) звучали как-то вскользь, не нуждаясь ни в доказательствах, ни в полемике.
Кирилл Лавров играл Нила крупно и резко. В естественной свободе и широте этого человека проступали не только положительные черты, но и эгоистичность, и отсутствие воспитания, и шокирующая порой нагловатость. Но это «работало» на тот образ, который был задуман режиссером и актером как развитие горьковской линии. Да, Нил Лаврова был озорным, отчаянным, хулиганистым, но порой он вызывал и некоторое смущение своим развязным поведением. Однозначно положительным героем Нила назвать было просто невозможно – и это происходило на фоне давно утвердившегося театрального штампа, когда Нила принято было трактовать как личность исключительно прогрессивную и светлую…
И только в финале обвинительный монолог Нила, брошенный в лицо старику Бессеменову, воспринимался как задача общественного характера. Он говорит о духовной тирании мещанина, о навязывании человеку жизни против его усмотрения. Он обвинял и отстаивал человеческое достоинство – не только и не столько свое, сколько близких ему людей. И вырастал в этом монологе до подлинного героя.
Юрий Рыбаков писал о работе Кирилла Лаврова в «Мещанах»: в той концепции, которую предлагал Товстоногов, «образ Нила терял значение единственного антагониста мира Бессеменовых, но приобретал убедительность человека нового мировоззрения, новой эпохи. Не идеальный герой, а реальный человек, выросший в этом старом доме, действовал на сцене. В художественной структуре спектакля образ Нила был подчинен общему закону наиреальнейшей правды и точности взаимоотношений. Естественно, что Нил товстоноговского спектакля не мог не вызвать возражений, ибо он особенно наглядно и резко демонстрировал расхождение режиссера с принятыми в театре и в литературоведении трактовками. Режиссер видел Нила человеком „здравого смысла“ и не боялся, что Нил может показаться грубоватым, резким, беспощадным к чувствам окружающих его людей».
Критики, много писавшие о Кирилле Лаврове в начале 1970-х годов, нередко задавались вопросом: что изменилось в актере в этот период? Более масштабными стали роли, которые он играл и в театре, и в кино. Явно углубился метод художественного исследования – человек и действительность, человек и современность получили в творчестве Кирилла Лаврова более заостренный характер взаимоотношений. Но, с другой стороны (и об этом не говорилось), это были роли более или менее одноплановые: Лицо от театра в спектакле «Правду! Ничего, кроме правды!..», Евгений Тулупов в «Трех мешках сорной пшеницы», Ленин в «Защитнике Ульянове», Башкирцев в фильме «Укрощение огня». Немного на обочине оказывалась роль Ивана Карамазова в картине «Братья Карамазовы»…
Да, та несомненная масштабность, что проявилась в работах Кирилла Лаврова, была двойственной. С одной стороны, она свидетельствовала о зрелости, глубине профессионализма. С другой же – становилась столь же отчетливым свидетельством того, что Кирилл Лавров подпал под воздействие «большого штампа»: он уже был вынуждениграть подобных героев, черты которых и зрители, и режиссеры, и критики полностью переносили на его личность, он уже не мог позволить себе гротеска, иронии; он былБашкирцевым, Владимиром Ильичом Лениным, Лицом от театра и т. д. Он потерял право выбора ролей, потерял право быть собою…
Впрочем, все эти черты были в его личности, в его характере изначально, поэтому не потребовали от артиста особенного насилия над собой, по крайней мере поначалу, в первые годы. Но Кирилла Лаврова тянуло и к другому, отныне ставшему для него практически невозможным.
И, конечно, играл в этом роль и возраст – Лавров не мог уже использовать в своей палитре те комедийные, гротесковые, острые почти до хулиганства краски, которые так высоко оценили зрители в его Борисе Прищепине и особенно – в Палладе.
Эмиль Яснец пишет в книге: «…Приближение актера к тому возрастному рубежу, который мы назовем полновластной человеческой зрелостью. К тому урожайному периоду жизни, когда человек уже многое знает, еще многое может. И эта печать духовной завершенности, хотя пределов духу, как известно, не существует, в значительной степени предопределяет глубину и основательность размышлений художника. Наконец, нельзя пройти мимо незримых, но прочных связей между изменениями в творчестве Лаврова и все более заметным сдвигом от романтического мироощущения конца пятидесятых к реализму миропонимания начала семидесятых годов (что находит свое отражение и в литературно-художественном процессе времени).
Особенно заметен этот сдвиг в мотиве соотнесенности современного человека и истории, приобретающем широко распространенный характер в нашем искусстве, какую-то новую притягательность для художников».
В этих верных по сути словах почти всё сегодня, с точки зрения нынешнего нашего взгляда на не слишком давнюю историю, приобретает характер полемический. В той оптике, которую получили наши глаза за прошедшие десятилетия, все предстает несколько иным. «Печать духовной завершенности», о которой пишет исследователь, была чисто внешней, видимой со стороны. С той самой стороны, которая и «нагружала» Кирилла Лаврова ролями исключительно одного плана. Он никогда, до самого конца, не ощущал в себе никакой духовной завершенности – был открыт всему новому, с нескрываемым удовольствием погружался в неизвестное. Лишь взгляды и идеалы, сформировавшиеся еще в юности, не претерпевали изменений – Кирилл Лавров как был цельной личностью в молодости, так и оставался ею до последнего дня. Он далеко не всегда открыто декларировал свои воззрения, но оставался им верен, никогда не пересматривал свои поступки и свою жизнь.
Что же касается отмеченного Э. Яснецом «сдвига от романтического мироощущения… к реализму миропонимания» – это был процесс, к сожалению, абсолютно естественный. «Оттепель» с ее надеждами и чаяниями сменилась достаточно жесткими временами, когда все противоречия между словом и делом становились особенно очевидными. Лавров, как и Товстоногов, понимал это очень хорошо. Но мириться не хотел, а пытался всеми силами противостоять утверждавшимся законам жизни. И в театре, и в действительности.
Именно этим обусловлен повышенный интерес к документальной литературе в 1960–1970-е годы. Людям хотелось получить наиболее достоверную информацию о тех или иных событиях и самостоятельно осмыслить ее, сделать собственные выводы. Документальная литература хлынула и на театральные подмостки, вызывая серьезный интерес. И, конечно, Георгий Александрович Товстоногов не мог остаться в стороне от этого сильного и, как казалось, плодотворного направления: он обратился к пьесе ленинградского историка и драматурга Д. Аля «Правду! Ничего, кроме правды!..», говорившего: «…Феномен документализма находится в прямой связи с резким повышением требований к точности и достоверности любой информации. Сама способность человека к восприятию информации изменилась и расширилась в небывалых пределах… Произведения документального жанра и есть отклик на новые эстетические и познавательные потребности людей».
Это был очень необычный спектакль – и для Товстоногова, и для современного театра. Поставленный к 50-летнему юбилею Великой Октябрьской революции, он не был ни парадным, ни торжественным. Он был размышляющим, призывающим к собственным выводам.
1919 год. Сенат Соединенных Штатов Америки устраивает суд над Октябрьской революцией, привлекая к ответственности тех американцев, кто не скрывал своих симпатий к революционной России. Ситуация сколь серьезная, столь и забавная. Но для театра самым главным оказывается диалог между сенаторами 1919 года и нашим современником, Лицом от театра – Кириллом Лавровым. Вчера и сегодня предстают в спектакле, отделенные световым занавесом, эпизодами-наплывами. Так возникает образ суда над судом, борьба идей и позиций.
Как известно, документальный театр – это в первую очередь отчетливо выраженное мировоззрение, позиция каждого (и в первую очередь – режиссера) в истолковании документа, личность художника и гражданина, ярко просвечивающая сквозь маску персонажа, являющегося альтер эгорежиссера. Ведь герои документального театра психологически лишены объема, в них куда важнее черты слегка набросанного портрета, некая заданная плакатность, а порой и шарж. А вот личность артиста должна быть психологически убедительна, видна отчетливо и крупно.
То, что роль Лица от театра была отдана Кириллу Лаврову, никаких вопросов ни у кого не вызвало. Лаврову доверяли как человеку. Лаврова высоко ценили как артиста. Уважали как общественного деятеля и верили его позиции. И потому его появление в партере со словами: «Я актер этого театра. Моя фамилия Лавров. Мне поручена сегодня самая трудная роль – не быть актером» уже заставляло внимательно вслушиваться и всматриваться. Место Лаврова в этом спектакле было не на сцене, а в партере, рядом со зрителями, бок о бок с ними, и его комментарии возникали как будто в самой зрительской массе, подобно высказанному вслух мнению многих. И должны были быть высказаны так, чтобы наэлектризовать, заразить зал, выработав в нем единодушное отношение к происходящему.
«…Роль Лаврова была трудна как раз отсутствием роли, – писал Э. Яснец. – Она предполагала в исполнителе прежде всего именно личность художника, способного отстаивать позицию театра, авторов спектакля, зрителей. Эту позицию он – человек из зрительного зала – являл жестко и агрессивно, с огромной мерой личной причастности». Всем этим и была роль Кирилла Лаврова и необычна, и трудна, и в каком-то смысле этапна для него – актер в зрительном зале, а не на сцене, в людской, зрительской массе, в которой он не имеет права затеряться или хотя бы в чем-то «снивелироваться»: такого не было еще в его «копилке». Да, пожалуй, не было и в актерском багаже подавляющего большинства мастеров сцены – Георгий Александрович Товстоногов твердо знал, кто сможет справиться с этой сложнейшей «ролью без роли», кто сможет своим человеческим, личностным обаянием, темпераментом, верностью своим позициям повести за собой зрителя, заставить поверить, довериться, убедить в несправедливости происходящего.
Лавров энергично вмешивался в ход действия, порой прерывая его то эмоционально, горячо, то почти бесстрастно, когда, например, зачитывал телеграмму Ленина о голоде в Питере, то горестно и тихо, когда приводил строчки из дневника ленинградской девочки, погибшей в блокаду. По верному наблюдению критика, он выступал здесь не только от своего имени, но и от имени многих своих героев, воевавших и погибавших за революцию. От артиста потребовались мобилизация всех сил личности, все его человеческое обаяние и предельное напряжение.
И еще от него потребовался опыт – тот самый человеческий опыт коммуниста с безупречной репутацией, общественного деятеля, депутата, который к тому времени был уже весьма и весьма солиден. Почему-то мы мало задумываемся о сочленении, сочетании подобных моментов – творческой и человеческой биографии. А они, как уже не раз говорилось, очень важны. По крайней мере, были очень важны для того поколения, к которому принадлежал Кирилл Юрьевич Лавров. Именно в этом, как уже не раз упоминалось на этих страницах, являла себя печальная двойственность: с одной стороны, почести и слава, с другой – ограниченность в изобразительных средствах и самих воплощаемых образах. Ну не могли зрители воспринимать Кирилла Лаврова иначе чем абсолютно и беспрекословно положительного героя «со всеми вытекающими из этого последствиями»!..
Никто и никогда не знал, сколько принесло это страданий артисту – именно творческих, актерских страданий. Лавров никогда не жаловался, не скулил, он нес свой крест и пытался в нем найти (и находил!) необходимую точку опоры. Ему нравились его герои – люди цельные, подчиненные идее, за эту идею готовые идти на любой костер, принципиальные и кристально честные, добивающиеся правды и справедливости любой ценой, и потому он играл их наполненно и ярко, рисуя не схемы, а живых людей с их порой недостатками, неуверенностью в себе и в своих силах. Но он мог, умел и (кто знает?), может быть, очень искренно и сильно хотел другого – юмора, гротеска, сочных красок в обрисовке своих персонажей, «хулиганства» на сцене и на экране. А на всем этом уже лежал запрет – не сформулированный и спущенный откуда-то «сверху», а в первую очередь внутренний, обусловленный той чередой героев, что стояла за Лавровым.
…Пройдет шесть лет и во время первой же репетиции спектакля «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова, когда возникнет разговор о палисаднике, который постоянно поправляет Валентина, невзирая на то, что люди продолжают его ломать, Кирилл Лавров, играющий Шаманова, спросит Георгия Александровича Товстоногова (а может быть, и не только режиссера, а всех, кто присутствует на репетиции): «Стоит ли в жизни биться лбом о стенку?» – и ответа на этот вопрос стенограмма не зафиксировала. Почему? Думается, потому что его и не было, этого ответа. Лавров задал вопрос риторический, вопрос «не свой», потому что он-то как раз принадлежал к тем, кто бился лбом о стенку всегда. И окружающие хорошо это знали. Скорее всего, и задан был этот вопрос без расчета на ответ, в минуту утомления или раздражения чем-то или – что скорее всего! – уже от имени не Кирилла Лаврова, а героя, которого ему суждено было сыграть, Шаманова, человека, попытавшегося скрыться от самого себя…
В любом случае, для нас этот вопрос невымышленно важен, потому что свидетельствует о том, что в творческую биографию артиста после значительного перерыва пришел новый герой – сомневающийся, пытающийся отгородиться от жизни со всей ее суетой и проблемами. И он стал для Кирилла Лаврова поначалу непривычным, сбивающим с той цельности, что уже на много лет стала для него сутью и судьбой. И виной тому было все, о чем мы размышляли чуть выше…
Но вернемся к концу 1960-х годов, когда Кирилл Юрьевич Лавров сыграл в театре и кино очень значительные роли: Кима в спектакле «С вечера до полудня» В. Розова (постановка Александра Товстоногова), Виктора в фильме Г. Шпаликова «Долгая счастливая жизнь». А 1969 год оказался вообще чрезвычайно урожайным для Лаврова в кино – это был год Синцова («Возмездие» по роману К. Симонова «Солдатами не рождаются»), Ивана Карамазова («Братья Карамазовы» режиссера И. Пырьева), Скворцова («Наши знакомые» по роману Ю. Германа), Бурмина («Нейтральные воды», режиссер В. Беренштейн).
Ким Жарков, один из героев пьесы Виктора Розова, грубо говоря – обыкновенный неудачник, несостоявшийся человек, у которого не получилась спортивная карьера, не удалась личная жизнь, но тем не менее в его жизни произошло самое главное – он стал личностью глубоко нравственной, обладающей чувством собственного достоинства и чувством ответственности за все, происходящее вокруг. Всех людей Ким делит на просто людей и «всадников» – тех, кто скачет и не дает себе труда заметить, что под копыта лошади кто-то упал и разбился, кто-то оказался просто раздавленным, кто-то получил серьезные травмы, скатившись на обочину дороги, кто-то успел отскочить в сторону, но психологический шок будет длиться еще очень и очень долго. Он ненавидит и презирает «всадников», но и к просто людям не испытывает особенной любви и привязанности – слишком сильно обожгла его жизнь.
Не удалась спортивная карьера, не удалась личная жизнь – так много колючести, желчи, даже агрессивности по отношению к людям скопилось в Киме, что поначалу он производит впечатление человека крайне неприятного, даже отталкивающего. Но постепенно мы проникаемся к нему сочувствием – не жалостью, а именно сочувствием, потому что то единственное, что осталось у него, сын Альберт, составляет отныне смысл жизни Кима. Он делает все, чтобы сын его не стал в своей взрослой жизни (которая все ближе и ближе) всадником, чтобы обрел подлинно человеческие ценности и понимал, чувствовал своего отца, потому что, как точно заметил Э. Яснец, Ким «навсегда остался верен своим представлениям о главном – о человеке, о том, каким человек не имеет права быть… По пьесе это и есть высшая мера человеческой полноценности. Вычитанное у драматурга актер переложил на свои ноты, и центральная тема розовской драматургии слышна зрителю через Кима-Лаврова на всем протяжении спектакля. Вплоть до финала, когда отшумят страсти и Жарковы – снова втроем – останутся одни. Легкая улыбка разгладит уставшее лицо Кима. Она словно бы осветит его изнутри, и мы долго еще будем помнить мягкое, удивленное, доброе выражение лица этого человека».
Конечно, трудно отнести роль Кима к эпохальным, вершинным образам, созданным Кириллом Лавровым. Но не из них ли, таких вот трогательных, человеческих, простых (в самом общем значении этого слова), в основном сыгранных в кино, и состоит та особая притягательность, которая заворожила зрителей? Настоящая популярность, «любовь народная», куда как сильнее проявляется не по отношению к героям и исключительным личностям, а к таким, как все, как большинство. Потому что невольно по дороге из театра или кинозала человек задумывается о том, что его задело, зацепило, задумывается о своем собственном – поведении, поступках, идеалах, о самом способе существования в этой непростой и порой нелепой жизни, где мчатся, выбивая друг друга из седла, всадники, а между копытами их лошадей бредут просто люди. Не герои, не борцы за идею, а – люди…
Постараемся представить себе то время, время, когда зрители шли в театры не для того, чтобы развлечься и отвлечься (хотя, конечно, и такие находились), а для того, чтобы получить духовную пищу и ощутить себя выше, чище, лучше. Драматургия Виктора Сергеевича Розова была пропитана насквозь исключительно этими стремлениями, она была тесно связана со своим временем, но и выходила за его пределы, задавая зрителю вопросы вечные, нравственные, связанные с жизнью человека во все времена. А потому спектакль молодого режиссера Александра Товстоногова оказывался важным и нужным в эстетической программе Большого драматического театра, каким бы «малозначащим» ни казался нам из дня сегодняшнего.
Думаю, что эта роль принесла удовлетворение Кириллу Лаврову – и не только человеческое, но и творческое. Герой, подобный Киму Жаркову, давал возможность говорить о людях самых простых и незатейливых, которых большинство. И не просто возможность говорить, но углубиться в их психологию, понять корни их поступков и своеобразную философию жизни – без снисходительного умиления и жалости, а всерьез, по большому счету. И проникнуться сочувствием, пониманием, а может быть, и разделить их понимание жизни и страстное стремление изменить ее.
Год, когда на сцене был сыгран Ким Жарков, 1969-й, оказался для Кирилла Лаврова очень важным в кино. Кроме Синцова в фильме Александра Столпера «Возмездие» по роману К. Симонова «Солдатами не рождаются», Лавров сыграл одну из самых значительных и глубоких своих ролей – Ивана Карамазова в двухсерийной ленте Ивана Пырьева «Братья Карамазовы». И случилось так, что Иван Александрович Пырьев скончался, не завершив своей работы – фильм был закончен Кириллом Лавровым и Михаилом Ульяновым (три больших и чрезвычайно сложных эпизода сняты Ульяновым и Лавровым в качестве режиссеров – «В Мокром», «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» и «Суд»), что потребовало от артистов немало сил и – что самое главное! – той самой ответственности за все, которой оба они были буквально пропитаны насквозь. По негласному правилу жизни своего поколения. По своим высоким личностным качествам. По своим творческим критериям, которые были сформированы в этих артистах всем опытом предшествующей жизни в театре и в кино.
Я не случайно назвала эпизоды, снятые артистами, – вряд ли зритель почувствует «другую руку» в этих киносценах: какими бы ни были личные амбиции режиссеров поневоле, они абсолютно не ощутимы в общей ткани кинополотна. Лавров и Ульянов не делали собственный фильм, они завершали, доводили последнюю работу режиссера, которому оказались преданы до конца, пытаясь бережно сохранить все линии, намеченные Иваном Александровичем Пырьевым, не нарушить ту эстетику, в которой лента осуществлялась.
Но выдернем снова одну из ниточек памяти.
Самый конец 1960-х годов был отмечен в нашей стране подготовкой к 150-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Сегодня даже представить себе трудно, до какой степени мы не знали творчества этого писателя!.. Существовал так называемый «серый десятитомник», в котором были опубликованы основные произведения (исключая «Бесов»), но в школьную программу Достоевский не входил – только в 1970 году было включено в программу «Преступление и наказание» и то… до появления Сони Мармеладовой. Считалось, видимо, что подросткам вполне достаточно будет знать о совершенном Раскольниковым, что же касается наказания – вырастут, тогда и прочтут, узнав заодно историю невольной проститутки Сонечки и все прочее.
Но уже начали выходить глубокие и серьезные литературоведческие исследования о Достоевском, разбивающие утвердившийся в начале 1950-х годов тезис В. Ермилова: «„Братья Карамазовы“ – церковнический роман, написанный по прямому указу правительственных кругов». Пырьев приступил к съемкам фильма, и к 1971 году, году юбилея, только самый ленивый и нелюбопытный не знал о том, что мы всем миром празднуем 150-летие выдающегося русского писателя, страдальца и философа Федора Михайловича Достоевского. Поэтому этой ленте суждено было стать первым настоящим прикосновением к миру идей и страстей писателя – до «Братьев Карамазовых», если не ошибаюсь, были сняты только «Белые ночи» и «Идиот» – лишь первая часть романа. Так что творение И. А. Пырьева имело не только эстетическое значение, но и познавательное, расширяющее наше представление о русской классике и дающее возможность задуматься о многих вещах, о которых мы прежде не задумывались.








