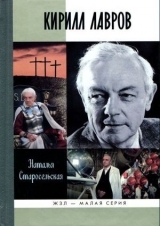
Текст книги "Кирилл Лавров"
Автор книги: Наталья Старосельская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
Порой находились те, кто упрекал артиста за роли, подобные секретарю партбюро Соломахину, но, во-первых, эти люди не задумывались над тем, сколько «человеческого материала» было вложено в такие роли, сколько личностного, своего собственного. Во-вторых, они забывали о том, что Лавров, как принято сегодня говорить, был «брэндом» – Георгий Александрович Товстоногов заранее учитывал актерскую и, главным образом, человеческую репутацию и популярность Кирилла Лаврова, его удивительное умение «уходить на глубины» в каждом образе, сопрягать задачи актерские и личностные. Многие роли Кирилла Юрьевича Лаврова были «знаковыми» – это понимал мудрейший Товстоногов, это понимал и он сам, и именно здесь таилась та ситуация заложника «у времени в плену», о которой много говорилось в предисловии к этой книге. Но если вспомнить цитату в неусеченном виде, она гласит: «Ты – вечности заложник у времени в плену». Это состояние Кирилл Юрьевич Лавров ощущал не только очень точно, но и очень остро…
Да, чему-то оно мешало, это состояние, но чему-то и помогало в постижении не только себя самого, своего места в жизни, но и в осознании многих современных проблем – неличных, а общественных, политических, относящихся к области – простите за высокопарность, которая здесь совершенно уместна, – Долга, Совести, Чести. Того этического комплекса, который Кириллом Лавровым был впитан с юности и сформировался в армии. Который на протяжении фактически всей его жизни ставил артиста и человека Лаврова перед вечным вопросом: «Кто, если не ты?..»
К слову сказать, по рассказу Натальи Александровны Латышевой, это была одна из главных личностных черт Ольги Ивановны, их с Кириллом Юрьевичем матери. Она была человеком с повышенным чувством ответственности, долга и до самых последних дней думала куда больше о людях, нежели о себе; о необходимости помогать им, поддерживать. Этим и жила…
В 1977 году в Большом драматическом театре состоялась премьера спектакля «Тихий Дон» по роману Михаила Шолохова.
Этот роман, на протяжении десятилетий вызывавший в советском литературоведении горячую дискуссию по поводу авторства М. А. Шолохова, отличается невымышленной мощью и составляет «золотой фонд» отечественной литературы. Георгий Александрович Товстоногов очень высоко ценил «Тихий Дон» и давно задумывался о перенесении романа на сценические подмостки. Инсценировку, как и в большинстве случаев, делали они вместе с Диной Шварц, консультируясь с живущей в Ленинграде дочерью писателя, кандидатом филологических наук Светланой Михайловной Шолоховой-Турковой. Эта очень трудная работа продолжалась почти два года – завершив в общих чертах инсценировку (а очень многое менялось и монтировалось уже непосредственно во время подготовки спектакля, с участием артистов), Георгий Александрович приступил к репетициям.
Кирилл Лавров играл старшего брата Григория, Петра Мелехова – роль во многом для него новую по характеру, по разнообразию и эмоциональности переживаний. И хотя Товстоногов с самого начала отверг мысль о том, чтобы строить инсценировку как семейную хронику Мелеховых, сцена, обозначенная режиссером как «Дом Мелеховых», становилась одной из центральных в спектакле. Потому что именно в ней завязывался один из главнейших смысловых узлов – распад некогда дружной и крепкой казацкой семьи, ее внутренний разлом. И здесь Олег Борисов (Григорий) и Кирилл Лавров (Петр) словно разворачивали перед нами всю «внутреннюю» историю взаимоотношений братьев. Начинался разговор с осторожной фразы Петра: «А не переметнешься ли ты к красным?», продолжался с возрастающим напряжением, вспыхнувшей почти внезапно дракой братьев, когда в них вдруг просыпалось нечто мальчишеское, словно показывающее нам, какими были они в детстве, а завершался приходом разгневанного отца и дружным смехом Петра и Григория… Но трещина уже образовалась и начала шириться – прежнего дома Мелеховых больше нет.
В своем Петре Кирилл Юрьевич Лавров раскрывал не только глубину сомнений и переживаний (не случайно именно он произносил поэтический текст «хора» после расстрела подтелковского отряда: «Над степью, покрытой нарядной зеленкой, катились тучи. Высоко, под самым кучевым гребнем, плыл орел. Редко взмахивая крыльями, простирая их, он ловит ветер и, кренясь, тускло блистая коричневым отливом, летит на восток, удаляясь, мельчая размером…»), но и упрямое мальчишество, и неизбывную доброту, и отчаянное желание увериться в сделанном выборе, и стремление бежать не только из дома, но и от себя самого…
Отнюдь не главная роль, хотя и очень важная как в романе, так и в спектакле, становилась благодаря мастерству Кирилла Лаврова одной из главных. Присущее артисту углубление в образ, желание рассмотреть его со всех сторон и «предъявить» зрителю в полном объеме самых противоречивых ощущений и мыслей выдвигало Петра Мелехова в ряд тех, кто особенно запоминался в спектакле, вызывая подлинные боль и горечь.
«Возвращая зрительный зал к событиям прошлого, мы ощущали, что отвечаем настоящему, – писал Георгий Александрович Товстоногов в статье „О постановке „Тихого Дона““. – Потому что тема поиска своего места в жизни, поиска самого себя как личности – вечная тема, которая актуальна и сегодня. И она должна заражать сегодняшнего зрителя, если из всего того, над чем так долго, мучительно и радостно трудился творческий коллектив Большого драматического театра, высекаются мысль и чувство автора „Тихого Дона“».
Спектакль «Тихий Дон» был удостоен год спустя, в 1978-м, Государственной премии СССР. Вместе с Георгием Александровичем Товстоноговым ее получили Олег Борисов (Григорий Мелехов) и Юрий Демич (Михаил Кошевой) – главные герои театральной эпопеи.
Незаметно пролетели еще два года. Жизнь в Большом драматическом театре текла по-прежнему очень успешно, творчески напряженно, но неуловимо начинало меняться само время. Именно в эти годы в театральную критику пришло новое поколение, отличавшееся резкостью оценок, приверженностью к иным театральным идеалам и – самое главное! – стремлением не просто поколебать, а основательно расшатать прежние авторитеты. По сути, все это было отнюдь не ново и не оригинально – примеры трудно счесть в отечественной и мировой культуре!.. Но Георгий Александрович Товстоногов реагировал на это болезненно и остро. И так же реагировал на изменяющиеся времена его единомышленник Кирилл Юрьевич Лавров. Они, всегда очень точно чувствующие, что именно необходимо зрителю, искали точки соприкосновения с ним порой мучительно и напряженно. Именно потому кое-кому репертуарная афиша БДТ стала казаться слишком пестрой – на ней наряду с отечественной классикой начали появляться спектакли почти откровенно бенефисные, а в 1980 году, к 110-летию со дня рождения В. И. Ленина, Товстоногов сочинил своеобразную композицию, назвав ее «Перечитывая заново…».
Елена Горфункель справедливо писала: «БДТ производит выжимку наиболее полезного, интересного и эффектного из наследия Ленинианы тридцатых годов, добавляя к ней новейшие опусы на ту же тему… Композицию встретили одобрительно, оценив как нечто свежее и цельное, найденное в давно известном материале».
Спектакль составили наиболее «ударные» сцены из таких пьес, как «Человек с ружьем», «Кремлевские куранты», «Третья, патетическая», «Гибель эскадры». Знаковые, узнаваемые, хрестоматийно известные эпизоды трактовались по-новому, с точки зрения дня нынешнего – поэтому столь емко прочитывалось многозначное название «Перечитывая заново…». Полузабытые к началу 1980-х пьесы получали иное осмысление, и это было невымышленно важно для Георгия Александровича Товстоногова и для Кирилла Лаврова, игравшего в спектакле Ленина. Свежесть и цельность, о которых говорит проницательный критик Елена Горфункель, уводили спектакль далеко от понятия «датский» – это была необходимость для театра: вернуться в далекие 1930-е годы, чтобы взглянуть на них, пытаясь осмыслить непарадное, не осиянное официозом значение фигуры Ленина. Именно поэтому финальной фразой спектакля становилась финальная фраза чеховских «Трех сестер»: «Если бы знать… если бы знать…» Она в равной степени относилась и к поставленным Г. А. Товстоноговым в разные годы «Кремлевским курантам», и «Гибели эскадры», и к «Трем сестрам» – одному из великих спектаклей Большого драматического. Товстоногов «перечитывал заново» свою жизнь и ставил зрителя перед необходимостью перечитать свое прошлое и прошлое своей страны…
В этом ключе, в этой эстетической и этической потребности играл Ленина Кирилл Юрьевич Лавров, чье детство и ранняя юность пришлись именно на 1930-е годы.
Они оба, режиссер и его артист, были уже немолоды, хотя и разделяло их более десяти лет. Позади остались иллюзии, многие надежды, но призвание к творчеству вело к смелым опытам и к страстному желанию осмыслить свое прошлое, понять в смуте надвигающихся новых времен, что же было истинным, а что – ложным, что необходимо сохранить вопреки всему и всем.
А 21 апреля 1982 года состоялась премьера чеховского «Дяди Вани», о котором писали как о спектакле «неявной новизны» – товстоноговское прочтение пьесы Чехова было не броским, а прозрачным, акварельным, как воспоминание. По сути, это и было своего рода воспоминание – ведь Георгий Александрович возвращался к драматургии Чехова спустя десятилетия, «перечитывая заново» то, что было так дорого ему издавна. «Дядю Ваню» он ставил впервые, но все же… все же…
Известный критик Раиса Беньяш отмечала, что по сравнению с другими интерпретациями Чехова театром 1980-х годов в товстоноговском «Дяде Ване» нет «программной, заявленной вслух полемики… нет кричащего, обнаженного, бьющего вас электрическим током, как оголенные провода по коже, очищенного трагизма, ни откровенной, почти вызывающей, волшебно мерцающей красоты поэтического ландшафта и, соответственно, бережно растушеванных мягкой кистью лиричных героев Чехова». Действительно, все было другим. На эстетике спектакля сказалось увлечение Товстоногова этого времени – он был заинтересован и заинтригован открытиями абсурдистского театра. Во время своих поездок за границу Георгий Александрович смотрел спектакли по пьесам Ионеско, Беккета, много читал в оригинале пьес новейших французских и немецких драматургов. И «Дядю Ваню» увидел именно под этим углом зрения, признавшись в одной из статей: «Из „Дяди Вани“ должен получиться абсурд… это не драма, а абсурд».
Каждый из персонажей нес в себе свою глубокую, безысходную драму предельного одиночества, непонятости, нереализованности. И особенно остро звучала она у Ивана Петровича Войницкого – Олега Басилашвили и доктора Михаила Львовича Астрова – Кирилла Лаврова. Двух старых друзей, двух некогда самых ярких личностей в уезде… На момент начала спектакля они оказывались в железных тисках своей потаенной боли, и когда Астров-Лавров говорил Войницкому-Басилашвили: «Наше положение, твое и мое, безнадежно…» – в самой интонации этих слов слышалась глухая, неистребимая тоска; такая сильная, что она словно переливалась в зрительный зал, захватывая своей волной абсолютно каждого.
Очень характерен диалог Товстоногова и Лаврова на первых же репетициях «Дяди Вани»:
« Товстоногов.Казалось бы, так просто сделать из Астрова позитивную фигуру. Для этого есть как будто все основания – он трудится, он увлечен идеей сохранения лесов, молод, умен. Но в этом характере – сложная диалектика. Астров признается в том, что не любит людей, он не чувствует удовлетворения от своей работы, считает свою деятельность бессмысленной. Все это связано с эпохой безвременья 90-х годов прошлого века, когда „Народная воля“ была подавлена царизмом, а 1905 год был еще далеко, когда в жизни шел щедринский распад. У Астрова нет цели, он действует вхолостую. А когда-то ему светил огонек.
Лавров.Может быть, он был как-то связан с „Народной волей“?
Товстоногов.Сочувствовал, конечно. Но сейчас у него нет общественного идеала. И несмотря на все внешние признаки – энергия, отдача делу, – его деятельность идентична бездеятельности Войницкого… Это был тупик в российской жизни. Ощущается он и в „Дяде Ване“, хотя у Чехова отсутствует всякая социологичность. Все ушло в личное, в мелкие человеческие страстишки, идеалы угасли. Самая драматичная в этом смысле – фигура Астрова, который как бы предназначен для большого дела.
Лавров.Все-таки он делает что-то подлинное, реальное.
Товстоногов.Но его деятельность не освящена верой в ее смысл.
Лавров.Он боится признаться себе в этом.
Товстоногов.И все-таки признается, открыто говорит об этом в конце пьесы. Он все понимает.
Лавров.Зачем же он продолжает заниматься своими лесами?
Товстоногов.Это его жизнь, он любит лес, он действительно жалеет вырубленные леса, но он понимает, как мало может добиться. Вырождаются леса, все вырождается. И Астров сознает безнадежность своего положения. Он едет по любому вызову, мучается, что у него кто-то умер, мечется как белка в колесе – и все бессмысленно, он все больше пьет. Самое главное, что все потеряли любовь друг к другу».
Я хорошо помню свои ощущения на премьере этого спектакля: ощущение полной, абсолютной безнадежности всего – шел 1982 год, когда все в нашей жизни еще оставалось по-прежнему, но уже отчетливо ощущалось, что это не может длиться долго. Да, наша жизнь буквально на глазах уходила «в личное, в мелкие человеческие страстишки», идеалы угасли, надежды умирали… И вот такой доктор Астров, не очень молодой, но очень остро чувствующий и переживающий, внятно говорил нам о нас самих. В Кирилле Лаврове не было ни излишнего пафоса, когда он рассуждал о гибнущих лесах и показывал Елене Андреевне свою карту, свидетельствующую о постепенном вырождении уезда, имя которому было – вся Россия, ни надрыва – было отчаянное спокойствие констатации и не было уже стремления все изменить, все переделать. Он устал, предельно устал от такой вот жизни, Михаил Львович Астров, и уже не до любви Сони было ему, не до любви вообще, потому что все вокруг «потеряли любовь друг к другу». Отчетливо и трезво понимал Астров-Лавров, что положение его и Войницкого безнадежно, и в этом осознании проявлял каким-то непостижимым образом и мужество, и душевную силу, потому что вряд ли что-то может быть горше, чем признание самому себе, что жизнь – не состоялась, прошла мимо.
Пожалуй, на моей памяти это был самый горестный и самый безнадежный спектакль Георгия Александровича Товстоногова – в нем ощущалась усталость режиссера. Нет, не та усталость, которая делает твою работу поверхностной и бессмысленной – а та, которая обостряет чувства и пробуждает горькие мысли: неужели ничего больше не будет в этой жизни? Неужели ничего нельзя изменить, поправить?..
Лишь самые прозорливые из критиков до конца поняли тогда замысел Товстоногова и артистов. Многие отвернулись от спектакля, объявив его обычным, традиционным, лишенным товстоноговской изобретательности. Кое-кто заявил, что Георгий Александрович состарился и слишком устал, поэтому не стоит ждать от него событийных спектаклей. А «Дядя Ваня» был событием, потому что не доводилось до него видеть подобное прочтение Чехова, в котором соединились бы абсурдность нашего бытия и горестное ощущение неизменности течения жизни, которую в конечном счете мы сами и выстроили, ничему не сопротивляясь, все принимая таким, как складывается…
«Неявная новизна» интерпретации Товстоногова, «неявная новизна» персонажей Кирилла Лаврова, Олега Басилашвили, Марии Призван-Соколовой, Евгения Лебедева, Татьяны Шестаковой, Николая Трофимова говорили нам о многом, заставляя страдать и – ни во что уже не верить.
Такова была действительность начала 80-х годов XX столетия…
Спектакль «Дядя Ваня» не оставлял ни малейших надежд на пение ангелов и небо в алмазах. Когда в финале медленно разъезжались в разные стороны стены дома Войницких и начинали кружиться давно потерявшие листву голые и искривленные стволы деревьев, казалось, что в этом разреженном пространстве невозможно дышать, что-то должно, непременно должно перемениться, потому что «жить надо»…
Этому спектаклю суждена была долгая, очень долгая жизнь. Двадцать лет просуществовал он в репертуаре, хотя артисты уже отказывались играть его, утверждая, что слишком состарились для чеховских героев. Но Кирилл Лавров твердо держал «Дядю Ваню» в афише театра как память о великом Мастере, о своем Учителе. И тема рухнувших надежд звучала все острее и острее. И, как сказано в буклете, выпущенном к 75-летию Лаврова, «в спектакле… многое изменилось. Но осталось главное, то, ради чего и ставил его Г. А. Товстоногов: остались трудные размышления о человеческой жизни, о человеческом предназначении».
Вообще, в последнее десятилетие жизни Георгия Александровича Товстоногова спектакли его разительно изменились. Они не стали «мельче» или слабее (как писало тогда молодое поколение критиков, противопоставляя Товстоногову в основном Льва Додина, его ученика, чьи спектакли входили в моду), они стали другими – может быть, более грустными, раздумчивыми; может быть, более трезвыми.
В 1983 и 1984 годах Кирилл Юрьевич Лавров снялся в фильмах, которые можно было бы причислить к числу «случайных», необязательных. Но я считаю необходимым упомянуть именно о них (в отличие от многих других), потому что в первом, «Из жизни начальника уголовного розыска», Лавров сыграл главного героя, Ивана Константиновича Малыча, оказавшегося в результате переезда в коммунальную квартиру соседом Степана Разгуляя, которого он когда-то отправил за решетку, и вынужденного скрывать от жены Разгуляя их давнее знакомство. В общем, очень простая и незатейливая роль построена была в основном на «дуэли взглядов», но Лавров сумел вложить в характер своего персонажа не только твердость мнений и воззрений, но и чувство ответственности за каждого человека – в какую борьбу с Разгуляем вступает он за его сына, как ограждает мальчишку от агрессивности и зла, прививаемых ему отцом, обозленным на весь мир!..
А в фильме «Преферанс по пятницам» перед нами предстает совершенно иной, противоположный характер. Заместитель начальника городской торговли, обаятельный и доброжелательный Георгий Степанович, лучший друг погибшего отца героя и любовник его матери, он, по словам племянницы, «современный человек, настоящий мужчина, умеет жить». Спокойно и просто он объясняет сыну причины смерти отца: «Мы свернуть уже не можем, и не надо вставать у нас на пути…» Георгий Степанович твердо уверен, что жизнь его сложилась так, как должна была, и та ложь, на которой она зиждется, никому не приносит вреда, а ему – лишь пользу. И финал фильма остается открытым (в полном соответствии с тем временем, когда «Преферанс по пятницам» появился на экранах): Алексей дает Георгию Степановичу время на телефонный звонок, если звонок не последует, он отправится в прокуратуру. Но звонка нет…
А значит, можно полагать, Алексей отправится к прокурору. Но добьется ли он чего-нибудь? Последует ли возмездие? Вряд ли… Во всяком случае, по законам того времени, когда фильм «Преферанс по пятницам» появился на экране, ни о каком наказании взяточникам и ловкачам речи быть не могло. Они, и именно они, становились постепенно настоящими хозяевами жизни.
«Проходной» фильм был по-своему важен – Кирилл Лавров получил негласное право играть не только положительных героев, а это было для него чрезвычайно важно, потому что он чувствовал, что какие-то краски его палитры начинают тускнеть от невостребованности… Но в этом и проявлялась ситуация заложника «у времени в плену», поэтому, стиснув зубы, он должен был терпеть и – терпел.
К сорокалетию Победы, которое вся страна отмечала в 1985 году, Георгий Александрович Товстоногов выбрал пьесу белорусского драматурга Алексея Дударева «Рядовые». Она заинтересовала в то время многие театры, несмотря на то, что критики отмечали в «Рядовых» некоторые холодность и бездушность, даже тяжеловесность. Но режиссера это не смутило, потому что он умел видеть намного глубже и дальше. И сегодня, вспоминая тот, казавшийся в общем-то рядовым, спектакль, я отчетливо понимаю мудрость и масштаб товстоноговского видения.
Георгий Александрович любил повторять: «Концепция спектакля лежит в зрительном зале, а я ее только обнаруживаю». И он обнаружил главное, то, что стало совершенно очевидным и бесспорным для всех спустя еще четверть века, когда пьеса Алексея Дударева вновь вернулась на театральные подмостки в преддверии 65-й годовщины Победы. Совсем молодой еще тогда драматург не просто писал «датскую» пьесу о Великой Отечественной войне – благодаря памяти о своем отце, прошедшем всю войну, благодаря своей горячо любимой земле, на которой родился и вырос, Белоруссии, так сильно пострадавшей в первые же дни войны, Алексей Дударев испытывал и продолжает испытывать (доказательством тому его последние пьесы!) то, что носит название «фантомная боль» – вошедшая в кровь и плоть, истинная, глубоко искренняя, которую чувствуешь всей кожей, нервами, памятью. И именно этот пафос памяти, ее неостывшая боль, пропущенная через конкретные судьбы опустошенных четырьмя годами войны людей, и были концепцией, обнаруженной Товстоноговым в зрительном зале. Не уступкой и не компромиссом, а по-прежнему острым, непритупившимся слухом.
И все то же было чрезвычайно важным для Кирилла Юрьевича Лаврова, игравшего Дугина, – это были и его память о войне, и его мальчишеское горячее стремление на фронт, и его тяжкий труд в тылу и учеба в летном училище. Лавров играл сдержанно, почти сурово, но сквозь эти сдержанность и суровость проступали живые и подлинные собственные чувства, собственная память. А потому в спектакле «Рядовые» был очень непривычный для эстетики Георгия Александровича Товстоногова сентиментальный момент: вокализ деревенской Мадонны с ребенком, возникающей в оконном проеме, до предела увеличивал эмоциональное напряжение, создавая почти чувственные токи памяти… И, ощущая эти токи, еще более сдержанным и суровым становился Дугин, но в глазах его плескалась слишком человеческая боль…
Спектакль «Рядовые», хотя его никогда не относили к числу лучших товстоноговских, менее всего напоминал обязательное юбилейное действо. В нем четко проявлялась мысль режиссера, сформулированная несколько лет спустя, в одном из последних интервью: «Сегодня становится все отчетливее понятно, что правда– категория отнюдь не только этического порядка, но эстетического… Стремление к правде – чувство нравственное и эстетическое одновременно».
Эта мысль была не просто близка Кириллу Юрьевичу Лаврову – это была и его собственная мысль, выстраданная и подкрепленная всем его профессиональным и человеческим опытом. Совсем не случайно в те годы, когда не стало Георгия Александровича, а Лавров возглавил Большой драматический театр, его заботила и волновала именно эта идея: идея правды, являющейся как нравственной, так и эстетической категорией…
И особенно важной становилась для Товстоногова эта мысль, когда в стране началась перестройка. Во многих выступлениях и интервью 1985–1987 годов Георгий Александрович говорил о том, что перестройка должна обозначить в театре какой-то совершенно новый этап. Какой? – пока непонятно, но новый, еще неизвестный. И именно в этот момент в руки режиссеру попала публицистическая пьеса журналиста и драматурга из Риги В. Дозорцева «Последний посетитель».
Перечитывая прессу того времени (премьера спектакля состоялась в БДТ 26 января 1986 года), можно искренне поразиться: какие же страсти кипели еще совсем недавно, менее четверти века назад, вокруг вопросов, потерявших для нас ныне какой бы то ни было смысл!.. В основе «Последнего посетителя» – нравственный конфликт между заместителем министра здравоохранения Казминым (Кирилл Лавров) и его посетителем (Андрей Толу-беев), убеждающим высокого начальника оставить свой пост, потому что руководить страной должны «люди чистые», а Казмин запятнал свою репутацию тем, что зажимает справедливую критику, нарушает профессиональную этику и вместе со своим помощником докатился уже до уголовного преступления.
Совершенно ясно, что и тогда, в 1986 году, эта пьеса не претендовала на серьезное драматургическое произведение, но ведь выбрал именно ее Георгий Александрович Товстоногов из немалого числа пьес-однодневок! Да, у него не было времени ждать, когда появятся глубокие, осмысливающие происходящее произведения (к слову сказать, они так и не появились за прошедшие двадцать пять лет!), Товстоногов торопился, но торопился, чтобы запечатлеть, зафиксировать тот момент жизни, который завтра уже минет – слишком быстро тогда текло время, слишком стремительно менялось все вокруг нас и в нас, слишком много всего самого разного кипело в том котле, который называли «перестройкой», «гласностью», но который, в сущности, по-прежнему назывался нашей повседневной реальностью…
В пьесе В. Дозорцева Товстоногов и Лавров увидели драгоценную для них возможность публичного высказывания – а эту возможность они привыкли ценить превыше многого. Когда Посетитель говорил Казмину о том, что неузнаваемо изменилось время, и теперь таким понятиям, как «совесть», «честь», «достоинство», возвращается их исконный смысл, герой Лаврова прерывал своего собеседника: «Вы что же, во все это верите?» И столько снисходительности и покровительственности, столько искреннего изумления было в интонации Кирилла Лаврова, что финал этого посещения становился совершенно очевидным. Но время создания пьесы и спектакля требовало другого финала. И только надежда на прозрение Казмина, надежда на перемены в жизни могли заставить Георгия Александровича Товстоногова поставить этот спектакль, а Кирилла Юрьевича Лаврова сыграть эту роль.
Из дня сегодняшнего легко все осудить и от всего отмахнуться. Легко обвинить режиссера и артиста в конъюнктурных соображениях, но это будет несправедливо, потому что эйфория середины 1980-х годов была явлением мощным и всеохватывающим. Достаточно вспомнить, что в «Последнем посетителе» значительная часть диалогов была построена на цитатах из Ленина – не тех, что со школьных лет навязли в зубах, а не хрестоматийных, не затертых. И когда в какой-то момент Посетитель подходил к запертому наглухо книжному шкафу, чтобы взять томик Ленина, и разбивал стекло со словами: «Пусть дышит!» – зрительный зал взрывался аплодисментами. Не от любви к вождю мирового пролетариата – от благодарности к тому, кто пытается разобраться в прошлом, не огульно отрицая все и вся, а осмысливая, выстраивая новую систему ценностей…
В том же 1986 году на телевидении была снята версия «Дяди Вани», где Кирилл Лавров играл доктора Астрова. Благодаря телевидению спектакль становился широко известным, и зрители многих городов могли оценить филигранную работу Кирилла Юрьевича Лаврова в замечательном, ансамблевом спектакле Г. А. Товстоногова.
Кто мог подумать тогда, что слишком мало времени остается Товстоногову, что через год он выпустит последний свой спектакль? Никто! Несмотря на болезнь Георгия Александровича, несмотря на стремительно изменявшиеся времена, несмотря на многое, казалось, что Большой драматический, возглавляемый Товстоноговым, – это некая константа и она неизменна и не подвержена никаким разрушительным ветрам. И тем не менее…
Исполнилось тридцать лет со дня прихода Георгия Александровича в Большой драматический. Праздновали торжественно, но и как-то особенно тепло, весело. Много шутили, много смеялись, совершенно не задумываясь о близком и далеком будущем – наверное, это был один из немногих вечеров, когда Товстоногов просто отдался моменту и радовался, и печалился вместе со всеми, вспоминая плавное, а порой и бурное течение этих трех десятилетий, вспоминая ушедших артистов.
На год больше проработал на этой сцене и Кирилл Юрьевич Лавров. Многое вспомнилось и ему в этот праздничный вечер и, наверное, он припомнил тот давний разговор, когда молодой артист пришел в кабинет к главному режиссеру с заявлением об уходе из театра, и мысленно поблагодарил Георгия Александровича. Они проработали рядом, в неразрывной связи и глубоком понимании друг друга, в разделенности своих пристрастий и устремлений целых три десятилетия, и неважно, что годы и болезни часто мешают работе – главное, что работать хочется. Только так. Вместе.
С этим внутренним наполнением делался последний их спектакль – «На дне» М. Горького, о котором очень точно написала Елена Горфункель: «Полагая, что „На дне“ – главное произведение Горького, Товстоногов поставил его как главное свое произведение. Свобода последнего высказывания вернула мастера к аксиоме, с которой он и его современники всегда жили: „Существует только человек, все остальное дело его рук и его мозга“».
Кирилл Лавров сыграл в этом спектакле роль владельца ночлежки Костылева, фигуру страшную, глумливую, подлую, человека, который изо всех сил рвется в хозяева жизни и готов растоптать каждого, кто встанет на его пути, кто помешает ему достигнуть заветной цели. Он был отвратителен и одновременно жалок, Мишка Костылев, выслеживающий свою жену, бегающую к Ваське Пеплу, старающийся ежеминутно всех унизить, раздавить, поглумиться над каждым из обитателей ночлежки.
Он с трудом спускался по ступенькам, которые вели «на дно» (художник Эдуард Кочергин придумал сжатое, сгущенное сценическое пространство, в центре которого медленно вращался вокруг своей оси серый куб без окон и дверей, и тринадцать ступенек, что вели в эту «преисподнюю»), усаживался на колченогую табуретку и требовал не внимания, не любви к себе, а лишь страха – что выгонит из ночлежки на улицу, если не угодишь ему, Михаилу Костылеву. Его пронзительный взгляд ничего не упускал, следил за каждым и, казалось, даже читал мысли окружающих.
В своей рецензии на спектакль, опубликованной в журнале «Театральная жизнь», критик Борис Тулинцев писал: «Чтобы оценить масштаб скопившейся на этом дне злобы, достаточно увидеть, с каким злорадством хозяин ночлежки Костылев, едва появившись на сцене, пытается измерить пространство, занятое Клещом. Как он, изогнувшись, заложив руки со сжатыми кулаками за спину, в несколько прыжков „возвращает“ себе это пространство, которое ведь ему принадлежит – как неверная жена Василиса, как купленные накануне украденные часы. В спектакле у каждого персонажа своя тема, вроде „мелодии“, и высохший, согнутый от алчбы Костылев недаром норовит вцепиться в пространство: он в нем самый немощный, но и самый сладострастный. Лавров играет бессилие сладострастника, ту обреченность, которая боится или неспособна себя осознать, хотя для окружающих очевидна. Поэтому его походка, голос, вся повадка немедленно вызывают смех в зале. Разве не смешон Костылев, который рядом с Иудушкой-кровопийцей – сущий пигмей? И особенно он забавен, когда говорит все-таки о лампадке, о жертве в воздаяние грехов, своих и Клеща. Костылев затем и пришел на сцену, чтобы все увидали, услыхали: единственная возможная нынче вера, что от веры осталось, – это злобная умиленность, елейная усмешка сладострастника. И можно ли сегодня без смеха (хотя и без содрогания!) услышать исторгнутый из впалой груди этого паука вопль Достоевского: „А я вас всех люблю… Братия вы моя несчастная, никудышная, пропащая…“ Какова вера – такова и любовь и таков уж, извините, сегодняшний Достоевский, которого мы услыхали в глумливом исполнении Костылева».








