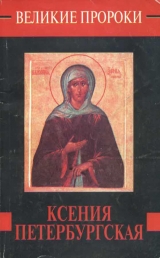
Текст книги "Ксения Петербургская"
Автор книги: Наталья Горбачева
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Я открыла глаза, услышала, как мирно посапывают во сне мои внуки и подумала: «Интересно: и сон, и не сон. Но все это не для меня».
Через два дня утром позвонили: «Приезжайте за деньгами. Ваша сестра переслала вам из Швеции немного денег». Поздно вечером снова звонок, тот же незнакомый голос сказал: «Есть одно место в автобус на паломническую поездку в Псков через Санкт-Петербург. Отъезд послезавтра. Сразу же получите и деньги».
Денег оказалось ровно столько, сколько стоила путевка. (Сестра, уехавшая в Швецию, редко присылает деньги, сама полубезработная.) Всю ночь ехали в неудобном автобусе в Петербург. Сразу по приезде я отправилась на Смоленское кладбище, зашла в храм в честь Смоленской иконы Божией Матери. В правом приделе, рядом с иконой св. Иоанна Кронштадтского, увидела ту самую «Ксению с косой» – дивный, исполненный сострадания аналойный образ святой. Маленькую иконку-листочек с этим образом мне тут же кто-то и подарил.
Недалеко от часовни Ксении Петербургской женщина в киоске продавала открытки с видами святого места. Вдруг, выбрав меня из всех стоявших около, протянула листок, на котором были напечатаны тропарь, величание и молитва ко святой Ксении блаженной. До этого момента я не знала, как принято ей молиться.
– Сколько? – спросила я.
– Нисколько. Обойди, читая тропарь и молитву, три раза вокруг часовни, а потом проси о том, в чем имеешь нужду.
Вот, оказывается, ради чего я стояла здесь столько времени, пересчитывая копейки и не решаясь отдать последние! Вот ради чего под проливным дождем, промокшая, замерзшая, в худых сапогах шла я сюда от автобуса, отстояла службу в Смоленском храме, затем в часовне, а потом – так и не отогревшись – еще полчаса около киоска! Три раза с величанием и тропарем я обошла вокруг часовни и по прочтении молитвы припала к стене ее с горючими слезами и надеждой на предстательство блаженной пред Всемилостивым Господом.
Через два дня, по приезде в Москву, дочь, лежавшая в депрессии три года, первый раз оделась и вышла на улицу. Появилась надежда на будущее, впереди замаячил какой-то просвет…»
…Удивительные откровенные рассказы людей, испытавших на себе явное покровительство блаженной Ксении, неисчерпаемы. Их за двести лет, прошедших со времени ее смерти, накопилось немало. Но смысл рассказов вполне ясен: кто обратится к ней за помощью, того она обязательно возьмет под свое покровительство. Так было при жизни блаженной, так есть и сейчас. И чем чудеснее это покровительство, тем, кажется, пристальнее становится интерес к ее личности.
Юродивые или скрывают свои подвиги от глаз людских, или ведут себя намеренно непонятно для окружающих, чтобы пророчества их доходили только до тех, кому они предназначены. Блаженная Ксения не является исключением. Пророческий дар юродивых – действительно чудо, и порой думается, не сказка ли это. Но нет. Прозорливость блаженных есть результат их самоотверженности и вольного мученичества.
Чтобы глубже вникнуть в эту странную, на первый взгляд, зависимость, приведем жизнеописания трех известных юродивых ради Христа женщин. Их судьбы, разделенные пространством и временем, составляют некое преемство и единую суть и вполне могут служить иллюстрацией к некоторым «белым пятнам» жизнеописания блаженной Ксении Петербургской.
«БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ ДУХОМ…»
«Второй Серафим»
Чтобы получить такое прозвище как символ духовного преемства от святого Серафима, Саровского чудотворца, нужно было пройти путь подвижничества сродни ему. «Вторым Серафимом» современники называли Христа ради юродивую Пелагею Ивановну Серебренникову.
Пелагея Ивановна родилась в 1809 году – в ту пору, когда блаженной Ксении уже несколько лет не было на свете.
Родина Пелагеи Ивановны – город Арзамас, родители – купец Сурин и его жена Прасковья Ивановна. Семья была зажиточная, отец хорошо торговал, имел кожевенный завод и был человеком умным, добрым и благочестивым. Но он рано умер, оставив сиротами трех малолетних детей: двух сыновей и Пелагею.
Вдова вышла вторично замуж за купца Королева, тоже вдовца, у которого от первой жены осталось шестеро детей. Королев был суров и строг; он внес раздор в семью Суриных – его дети невзлюбили детей Прасковьи Ивановны. Жизнь маленькой Пелагеи сделалась невыносимой в доме отчима, и ей всегда хотелось уйти от родных.
По рассказам ее матери, «с малолетнего еще возраста с Пелагеей приключилось что-то странное: будто заболела девочка и, пролежав целые сутки в постели, встала не похожей на себя. Из умного на редкость ребенка вдруг сделалась она точно глупенькой. Уйдет, бывало, в сад, поднимет платьице, станет и завертится на одной ножке, словно пляшет. Уговаривали ее и срамили, даже били, но ничего не помогало. Так и бросили».
С детства у девочки было необыкновенное терпение и твердая воля. Выросла Пелагея стройной и красивой, и в шестнадцать лет постарались «дурочку» поскорее выдать замуж. Когда на смотрины пришел жених – молодой бедный мещанин Сергей Серебренников, то на невесту надели богатое платье. Но Пелагея стала «дурить», как делала всегда, когда что-то было против ее воли. Подали чай: невеста отхлебнет из чашки, а потом начинает поливать из ложки каждый цветок на узорчатом платье. Мать приказала служанке незаметно щипать Пелагею, чтоб не дурила, а та и выдала свою мать: «Что же это вам, маменька, больно жалко цветочков? Ведь не райские это цветы!» Крестная мать жениха, присутствующая на смотринах, сказала жениху, чтоб он не брал ее, глупенькую, несмотря ни на какое ее богатство. Но Серебренников все же решил жениться, и в 1828 году Пелагею повенчали с ним.
Вскоре после брака Пелагея вместе с мужем и матерью поехала в Саровскую пустынь, где подвизался известный на всю Россию прозорливый старец Серафим Саровский. Отец Серафим ласково принял мужа и мать и отправил их в гостиницу, а Пелагею Ивановну ввел в свою келью и очень долго беседовал с ней наедине. Разговор их остался для всех тайной. Одно известно, что когда нетерпеливый муж пошел за женой к келье, то все увидели, что дивный старец, выведя за руку Пелагею Ивановну, до земли поклонился ей и с мольбой в голосе сказал:
– Иди, матушка, иди, не медля, в мою-то обитель, побереги моих сирот-то [5]5
Старец Серафим Саровский основал в Дивееве Мельничную общину, куда брал одних только девиц. Этой общине суждено было перерасти в известный на всю Россию Серафимо-Дивеевский монастырь. Насельниц Мельничной общины он называл «дивеевскими сиротами».
[Закрыть], многие тобою спасутся, и будешь ты свет миру. Ах, позабыл было, – прибавил старец. – Вот четки-то тебе, возьми ты, матушка, возьми!
Когда Пелагея Ивановна удалилась, батюшка Серафим обратился к свидетелям события и сказал:
– Эта женщина будет великий светильник!
Муж Пелагеи Ивановны, услышав такие речи, насмешливо произнес:
– Хорош же Серафим! И где прозорливость его? И в уме ли он? На что это похоже? Девка она, что ли, что в Дивеево ее посылает, да и четки дал, как монашке…
Действительно, в подобной ситуации можно было и усомниться в прозорливости старца. Но, как известно, он предвидел будущую судьбу человека и несомненно узрел, что безумие Пелагеи Ивановны мнимое. Беседа с духоносным старцем оказала большое влияние на дальнейшую жизнь Пелагеи Ивановны. Святой Серафим благословил ее тогда на служение Христу в подвиге юродства ради точного, полнейшего исполнения заповеди о нищете духовной.
В Арзамасе подружилась Пелагея Ивановна с одной юродивой купчихой, которая научила ее непрерывной Иисусовой молитве, и молитва стала постоянным занятием на всю жизнь. В ночное, от всех сокрытое время Пелагея Ивановна молилась на коленях, обратясь лицом к востоку, в холодной стеклянной галерее, пристроенной к дому. Это хорошо было известно старушке, которая жила напротив Серебренниковых.
– Ну и судите сами, – рассказывала она по простоте сердечной, – весело было ее мужу? Понятно, не нравилось… Эх, да что и говорить! Я ведь хорошо знаю весь путь-то ее. Великая она была раба Божия!
С молитвенным подвигом Пелагея Ивановна вскоре стала соединять подвиг юродства Христа ради, как бы с каждым днем все более и более теряя рассудок. Бывало, наденет на себя самое дорогое платье, шаль, а голову обернет грязной тряпкой и пойдет или в церковь, или куда-нибудь на гуляние, где побольше собирается народа, чтобы ее видели, судили и обсмеивали. И чем больше пересуживали ее, тем более радовали ее душу, которая искренне пренебрегла и красотой телесной, и богатством земным, и счастьем семейным, и всеми благами мира сего.
При этом все больнее и тяжелее приходилось мужу ее, не понимавшему великого пути жены. И просил, и уговаривал ее Сергей Васильевич, но она ко всему оставалась равнодушной. Когда у них родился первый сын Василий, Пелагея Ивановна точно не рада была его рождению. Родственники хвалили мальчика и говорили: «Какого хорошенького сынка вам дал Бог!» А она во всеуслышание и при муже отвечала: «Дал-то дал, да вот прошу, чтоб и взял. А то что шататься-то будет!»
Когда родился второй сын, Пелагея Ивановна и к нему отнеслась так же. С этого времени муж перестал щадить ее. Вскоре оба мальчика умерли, конечно, – по молитвам блаженной. Сергей Васильевич стал ее нещадно бить, а Пелагея Ивановна начала чахнуть, несмотря на свою здоровую и крепкую натуру. Через два года родилась у блаженной девочка. Пелагея Ивановна принесла ее в подоле своей матери и, положив на диван, сказала: «Ты отдавала, ты и нянчись теперь, я уже больше домой не приду!»
Пелагея Ивановна действительно ушла из дома и стала ходить в Арзамасе от церкви к церкви. Все, что ни давали ей из жалости люди, она раздавала нищим, на копейки ставила свечки в церквах. Муж, бывало, поймает ее и бьет: полено попадется – поленом, палка – палкой. Потом запрет ее в холодный чулан и морит голодом, чтобы перестала юродствовать. А она все твердила: «Оставьте, меня Серафим испортил!»
Однажды обезумевший от гнева Сергей Васильевич притащил блаженную в полицию и попросил городничего высечь жену. В угоду мужу и богатой матери городничий велел привязать ее к скамейке и так жестоко наказать, что согласная на эту казнь мать содрогнулась, рассказывая впоследствии, как «клочьями висело все тело ее, кровь залила всю комнату, а она, моя голубушка, хотя бы охнула. Я же сама так обезумела от ужаса, что и не помню, как подняли мы ее в крови и привели домой. Уже и просили-то мы ее, и уговаривали-то, и ласкали – молчит себе, да и только!»
На следующую ночь городничий, весьма переусердствовавший, увидел во сне котел, наполненный страшным огнем, и услышал неизвестный голос, который изрек, что этот котел приготовлен ему за столь ужасное истязание рабы Божией Пелагеи. Городничий в ужасе проснулся, рассказал о своем сне и запретил на вверенном ему участке не только обижать эту безумную, или, как говорили в городе, «порченую» женщину, но даже и трогать ее ни при каких обстоятельствах.
Серебренников поверил, что жену «испортили», и решил повезти ее для духовного излечения в Троице-Сергиеву лавру. Во время этой поездки с Пелагеей Ивановной произошла вдруг внезапная перемена: она сделалась кроткой, тихой и умной. Муж не помнил себя от радости, даже послушался ее доброго совета – отдать ей все деньги и вещи, отправить ее одну домой, а самому продолжить путь в то место, где ждало его безотлагательное и важное дело. Но каков был его ужас и гнев, когда после своего возвращения он увидел жену в состоянии хуже прежнего: до дома она не довезла ни единой полушки и вещи, раздав все неведомо кому.
Тогда Сергей Васильевич заказал для своей жены, как для дикого зверя, железную цепь с железным кольцом и сам, своими руками приковал Пелагею Ивановну к стене, издевался над ней, как хотел. Иногда несчастная, оборвав цепь, вырывалась из дома и, полураздетая, гремя цепями, бегала по городу, наводя на обывателей ужас. Все боялись приютить ее, накормить или защитить от мужа.
В конце концов блаженная снова попадала к мужу и терпела новые и тяжкие мучения. «И много же я страдала. Сергушка-то во мне все ума искал да мои ребра ломал; ума-то не сыскал, а ребра-то все поломал», – говорила потом Пелагея Ивановна. Только благодать Божия подкрепляла ее, как предузнанную истинную рабу Его, и давала силы переносить все то, что с ней делали. Обычный человек от этих пыток давно бы умер.
Однажды Пелагея Ивановна сорвалась с цепи в лютую стужу, полунагая, приютилась на паперти Напольной церкви в приготовленном для умершего солдата гробе. Здесь, окоченевшая, ждала своей смерти. Увидев церковного сторожа, она бросилась к нему, моля о помощи, и так напугала его своим видом, что тот в ужасе от «привидения» забил в набат и переполошил весь город. После этого случая Серебренников совершенно отрекся от жены, выгнал ее из дома и, притащив к матери, вручил ей Пелагею Ивановну.
В семье отчима ее ненавидели больше, чем в семье мужа. Меньшая дочь отчима Евдокия вымещала на блаженной все обиды и злобу. Ей казалось, что ее и замуж не берут из-за того, что боятся, как бы она не сошла с ума подобно Пелагее Ивановне. Евдокия подговорила одного злодея убить ее в то время, когда она будет бегать за городом и юродствовать по обыкновению. Несчастный согласился и действительно подкараулил Пелагею Ивановну, выстрелил, но промахнулся. Тогда блаженная предрекла ему, что пуля его обратится в него же. Через несколько месяцев предсказание ее в точности сбылось: он застрелился.
Мать Пелагеи Ивановны решила отправить ее по святым местам с богомольцами в надежде на то, что она исцелится. Прежде всего «дурочку» повели в Задонск к мощам святителя Тихона, затем в Воронеж к Митрофану. Прибыв в Воронеж, арзамасские богомольцы пошли с Пелагеей Ивановной к епископу Антонию, известному многим святостью своей жизни и даром прозорливости.
Владыка Антоний ласково принял Пелагею Ивановну с богомолками, всех благословил, а к блаженной обратился с такими словами:
– А ты, раба Божия, останься!
Три часа беседовал он с нею наедине. Бывшие спутницы Пелагеи Ивановны разобиделись на преосвященного, что он общается с «дурочкой», а не с ними. Владыка, прознав их мысли, провожал Пелагею Ивановну со словами:
– Ничего не могу сказать тебе более. Если Серафим начал твой путь, то он же и докончит. – Затем обратился к богомолкам, гордившимся тем, что сделали большой денежный вклад на церковь: – Не земного богатства ищу я, а душевного, – и отпустил всех с миром.
Вернулась «дурочка» домой. Поняла тут Прасковья Ивановна, что и святые не помогают дочке. Узнав, что владыка Антоний помянул имя старца Серафима, измученная мать решилась еще раз съездить в Саровскую пустынь. Прасковья Ивановна стала жаловаться отцу Серафиму:
– Вот, батюшка, дочь моя, с которой мы были у тебя, – замужняя, с ума сошла. То и то делает и ничем не унимается, куда мы только ни возили ее, совсем от рук отбилась, так что и на цепь посадили…
– Как это можно? – воскликнул старец. – Как могли вы это сделать? Пустите, пустите, пусть она на воле ходит, а не то будете вы страшно наказаны Господом за нее! Оставьте, не трогайте ее!
Напуганная мать начала оправдываться:
– У нас девчонки замуж тоже хотят: зазорно им с дурой-то! Ведь ничем ее не уломаешь – не слушает. А без цепи держать, так ведь с нею не сладишь, – больно сильна! С цепью по всему городу бегает – срам, да и только!
Батюшка Серафим невольно рассмеялся, услышав вполне резонные оправдания матери.
– На такой путь Господь не призывает малосильных, матушка, – сказал он. – Избирает на такой подвиг мужественных и сильных телом и духом. А на цепи не держите ее, не то Господь грозно за нее с вас взыщет.
Благодаря заступничеству великого старца домашние не пытались больше держать Пелагею Ивановну на цепи, разрешали и из дома выходить. Получив свободу, она почти постоянно по ночам находилась на паперти храма и молилась под открытым небом с воздетыми вверх руками, со вздохами и слезами. Днем же она юродствовала: бегала по улицам города, безобразно кричала и творила всевозможные безумства – в лохмотьях, голодная и холодная.
Так провела она четыре года до переезда в Дивеевский монастырь. Надо сказать, что мать продолжала хлопотать о том, как бы сбыть ее с рук, даже предлагала за это деньги, приговаривая: «Намаялась я с ней – с дурой». Но Пелагея Ивановна отказывалась идти в другие монастыри, твердила одно: «Я Дивеевская, я Серафимова и больше никуда не пойду».
Слова ее исполнились в 1837 году. Тогда старица Дивеевской обители Ульяна Григорьевна по делу отправилась в Арзамас с двумя послушницами. Пелагея Ивановна вскочила к ним в повозку и попросила:
– Поедемте к нам чай пить. Отец-то хоть и неродной мне и не любит меня, да он богат, у него всего много. Поедемте!
Дома вдруг все и сладилось: Ульяна Григорьевна попросила мать отдать Пелагею Ивановну в Дивеев, та с радостью согласилась, а сама блаженная вдруг стала умницей, поклонилась благодетельнице в ноги, сказала:
– Возьмите меня, матушка, под ваше покровительство!
Все изумились ее речам, один деверь злобно усмехнулся:
– А вы и поверили ей! Вишь, какая умница стала! Как бы не так! Будет она вам в Дивееве жить! Убежит и опять станет шататься, как всегда!
Еще больше удивились свидетели, когда на злобные речи деверя Пелагея Ивановна присмиренно поклонилась ему в ноги и совершенно здраво и разумно ответила:
– Прости Христа ради меня. Уж до гроба к вам не приду я более.
Безо всякого сопротивления и с радостью оставила она дом свой, на взнос в обитель было дано пятьсот рублей.
Пелагея Ивановна еще по дороге в обитель и сразу после вступления туда успела наделать множество несообразностей, которые ополчили против нее многих сестер. Она вошла в келью к настоятельнице Ксении Михайловне и, увидев молодую и простосердечную девицу Анну Герасимовну, стала перед ней на колени, поклонилась до земли и воскликнула:
– Венедикт! Венедикт! Послужи мне Христа ради!
Настоятельница Ксения Михайловна рассердилась:
– Вишь ты, не успела еще и носа показать, да уж и послушницу ей давай. Ты вот сама послужи сперва, а не требуй, чтоб тебе служили!
Анна Герасимовна пожалела блаженную, подошла к ней, погладила по голове и увидела, что голова-то проломлена и в крови. Анне Герасимовне впоследствии и судил Бог послужить Пелагее Ивановне в течение сорока пяти лет с необыкновенной преданностью и усердием.
И зажила «безумная Палага», как называли ее многие в Дивееве, но не радостной жизнью… Приставили к ней поначалу молодую, но до крайности суровую девушку Матрену. Она так била блаженную, что не жалеть ее было просто невозможно. А Пелагея Ивановна не жаловалась на это. Она как будто специально вызывала всех в общине на оскорбления и побои, ибо по-прежнему безумствовала, бегала по монастырю, бросая камни, била стекла в келиях. В своей келье бывала редко, а большую часть времени проводила в монастырском дворе: сидела или в яме, или в сторожке, в которой занималась Иисусовой молитвой. Летом и зимой ходила босиком и всячески истязала свое тело. В трапезную монастырскую не ходила никогда, питалась только хлебом и водой. Когда проголодается, нарочно ходила по кельям тех сестер, которые не были расположены к ней, просила у них хлеба, но вместо него получала лишь пинки. Возвращалась к себе, а там Матрена встречала ее с побоями.
После смерти настоятельницы место заняла ее кроткая дочь. Только при ней Пелагее Ивановне суждено было получить себе в услужение ту добрую Анну Герасимовну, которая первая и пожалела ее. Анна Герасимовна и оставила подробное повествование о подвигах блаженной Пелагеи Ивановны. Сделаем выписки из этой летописи.
«Да, странный она была человек и непонятный: мудрена, что и говорить… Первые десять лет, если не более, возилась она с каменьями. Возьмет платок, салфетку или тряпку, заполнит ее пребольшущими каменьями до верху и, знай, таскает с места на место, полную келью натаскает их – сору не оберешься…
Рядом с нами после пожара обители остались пребольшущие ямы да от печей обгорелые неубранные кирпичи грудой лежали. Вода летом стояла в этих ямах. Наберет она кирпичей, станет на самом краю ямы, да из подола-то и кидает по одному кирпичу изо всей силы в воду. Бултыхнется кирпич, да с головы до ног ее всю и окатит, а она не шелохнется, стоит, будто и впрямь какое важное дело делает. Побросав все кирпичи, полезет снова собирать их со дна ямы. Впрямь, думаю, дура. Раз и говорю ей:
– Что это ты делаешь? И как тебе не стыдно? Ты погляди на себя – ведь мокрехонька. Не наготовишься тебе подола замывать!
А она отвечает:
– Я, батюшка (так называла меня), на работу тоже хожу, нельзя, надо работать, я тоже работаю.
А то придумала она еще палками свою работу работать. Наберет большущее бремя палок и колотит ими о землю изо всей мочи, пока все их не перебьет, да и себя-то всю в кровь разобьет…
И чего только она не выделывала! Но ничего ей не бывало, как прочим людям. Оторвалась у нас однажды изгородная доска от прясла, да вверх и торчит большущим гвоздем. Я хотела его убрать. А Пелагея Ивановна наскочила на доску и что было мочи ударила босой ногой по гвоздю – он так сквозь ногу и выскочил. Я побежала в келью, чтоб взять что-нибудь для перевязки. Прихожу, а ее и след простыл. Прибежала вечером, я хотела ей снова перевязать. Смотрю на ее ногу и глазам своим не верю: пристало к ней землицы кое-где, а раны даже и знака нет никакого. Вот так-то и всегда бывало с ней.
Повадилась она постоянно бегать в кабак к целовальнику. Люди и рады! Всячески рядят и судят ее: и пьяница-то она, и такая, и сякая… А она, знай себе, ходит и ходит. Раз ночью гляжу – приносит моя Пелагея Ивановна нагольный тулуп и пребольшущий узлище пряников. «Поешьте, – говорит, – батюшка». Я так и обомлела, страх даже напал на меня. Думаю, где же это она столько набрала, да еще и ночью? Кто их, этих блаженных, знает! А она веселая, радостная, смехом заливается.
Что же вышло? Она своими хождениями в кабак две человеческие души спасла. Сам целовальник мне это рассказывал, прося у нее прощения. Задумалось ему погубить жену свою, ночью порешил он ее зарезать. Завел жену в винный погреб и уже занес было руку, а притаившаяся Пелагея Ивановна схватила его за руку и закричала: «Опомнись, безумный!» И тем спасла их обоих. После этого и хождение в кабак прекратилось. Когда прознали про это многие, поняли ее прозорливость, перестали осуждать ее, а стали почитать.
Жили мы с ней долгое время в страшной бедности, в нищете. Родные ее, обрадовавшись, что избавились от нее, вовсе ее бросили, боялись даже показаться, как бы она к ним не вернулась. Лет через семь вздумалось матери Прасковье Ивановне поглядеть на дочь свою. Приехала она с падчерицей своей Авдотьей. Остановились они у Прасоловой, что против нас жила: с ее двора и наблюдали за Пелагеей Ивановной.
Я ничего еще не знала, а она скорбно так говорит:
– Арзамасские приехали, батюшка, да сюда-то и боятся прийти, чтобы я с ними не поехала. Так вот что: как запрягут лошадей-то, пойдем с тобой туда!
Сердце у меня так и перевернулось от жалости, глядя на нее. Сказано – сделано. Как подали им лошадей, мы и приходим. Гляжу, будто обрадовались. А Пелагея Ивановна так хорошо с ними поздоровалась и разговорилась, будто совсем умная. Да вдруг как побежит, прямо в повозку и села, по лошадям ударила и за ворота выехала. Куда что девалось? Обе, мать и сестра, испугались, страшно рассердились и стали ее бранить.
Доехав до красильной, остановилась она и вылезла. «Нате, – говорит, – Бог с вами, не бойтесь, до гроба я к вам не приеду». А сестре неродной Авдотье, которая не любила очень Пелагею Ивановну и всегда бранила ее, сказала: «Ты вот хоть и не любишь меня, и злилась на меня, Дуня, но Бог с тобой. Только помни: хоть и выйдешь ты замуж, а первым же ребенком помрешь!»И разбранила же за это ее Авдотья и говорила матери: «Дура-то твоя, слышишь, что выдумала». И не поверила, а как вышла замуж, да и вправду первым ребенком – девочкой – умерла. Пришлось поверить.
И стала Прасковья Ивановна с той поры бояться свою дочь. Раз прислала фунт чаю, да в сундучке кое-какие платьишки мирские, а она, моя матушка Пелагея Ивановна, и не поглядела даже, я все и раздала. Начали родные ее посещать нас в монастыре, и всегда заранее Пелагея Ивановна об этом знает: уйдет, залезет в крапиву и ничем ее оттуда не вызовешь. «О, батюшка, – скажет мне, – ведь они люди богатые, что нам с ними?»
Однажды приехал к ней муж, и это Пелагея Ивановна провидела. Он ее обратно в Арзамас звал, но она отказалась. После этого он никогда не приезжал, и ничего не слышно было о нем. Много лет спустя, в 1848 году, вижу я, как Пелагея Ивановна моя вдруг как вскочет, вся поджалась, скорчилась, стонет и плачет. Спросила я, что это с ней. А она говорит:
– Батюшка,ох, ох! Умирает он, да умирает-то без причастия.
Тут я все поняла и замолчала. Немного времени спустя приехал к нам приказчик мужа и сказал, что Пелагея Ивановна такими своими гримасами показывала все, что было с Сергеем Васильевичем. Его действительно схватило, он точно так же корчился, бегал по комнате, стонал и приговаривал: «Ох, Пелагея Ивановна, матушка! Прости ты меня Христа ради. Не знал я, что ты терпишь Господа ради. А как я тебя бил-то! Помоги мне, помолись за меня!» Да без причастия так и умер. Это произошло во время холеры.
В Дивеевской обители была великая смута, связанная с хозяйничаньем послушника Ивана Тихонова, который после смерти батюшки Серафима самовольно присвоил себе звание его ученика и стал по-своему распоряжаться в Дивееве. Батюшка Серафим и эту смуту предвидел загодя и говорил, что его «сироткам» пострадать придется. Отняли у нас законную настоятельницу. Дело дошло до Синода. И вот все это время-то Пелагея Ивановна свою «работу работала»: палками била да камни таскала, видно, так «бесов гоняла».
А с тех пор, как возвратили нам матушку-игуменью Елизавету Алексеевну Ушакову, перестала озорничать и моя Пелагея Ивановна. Вместо камней да палок с начала матушкиного игуменства цветы полюбила. И сколько ей, бывало, принесут: пуки целые! Всю келью затравнят ими. Тут она и бегать почти перестала, все больше в келье сидела. Повесила батюшки Серафима портрет и матушки-игуменьи: с ними все ночи напролет разговоры вела да цветов им давала. Спать она почти не спала: разве так, сидя, подремлет. А ночью, бывало, посмотришь, ее уж и нет: стоит где-нибудь в обители, невзирая на ненастье, обратясь к востоку, полагать надо, – молилась. Никогда не болела.
Дар слез был у Пелагеи Ивановны замечательный, но прежде она плакала более тайком. Помню, однажды схватилась я, уж очень долго ее на месте не было. Пошла в поле, вижу: сидит она у кирпичных сараев и так горько плачет, словно река льется. Я забеспокоилась, подумала, уж не побил ее кто? А она мне, моя голубушка, и говорит:
– Нет, матушка, это не так; надо мне так плакать, вот я и плачу…
А года за четыре до своей смерти (1884), когда слышно стало, какие пакости да беззакония у нас творятся на Руси, она, сердечная, плакала, не скрываясь, и почти не переставала. Глаза даже загноились и заболели у нее от этих слез.
– Эх, Симеон (стала она меня так называть), если ты знала, что творится, весь бы свет заставила плакать, – говорила она.
Что и говорить… Воевать по-своему, по блаженному, воевала, а уж терпелива и смиренна была, удивляться лишь надо. Бывало, таракашку зря ни сама не тронет, ни другим не даст. Не только кого обидеть не могла, но если ей на ногу наступят, раздавят вовсе, то она и не пикнет, поморщится только. Как хочешь ее унижай и поноси, ругай в лицо, – она еще и рада, улыбается. «Я ведь, – говорит, – вовсе без ума, дура». А если кто-нибудь отметит ее прозорливость и назовет святой и праведницей, то она очень растревожится. Не терпела почета, поношение любила больше всего.
Никогда ничего ни у кого Пелагея Ивановна не искала, не просила и не брала. Она была совершеннейшим образцом нестяжательности. Ничего своего у нее не было, кроме двух серебряных столовых ложек, да и те матушке-игуменье отдала.
Нашу матушку-игуменью Марию (в миру Елизавету Алексеевну Ушакову) блаженная очень любила и редкий день не вспоминала о ней. И с портретом ее целый день разговаривать могла. Все «Машенька и Машенька» – другого названия не было. Пелагее Ивановне все было известно: и заботы, и нужды обители, и как начальнице трудно. Все, бывало, о ней вздыхает и охает: «Машеньку-то мне жаль! Бедная Машенька!» Так что если в обители или у матушки неприятности какой должно случиться, то к Пелагее Ивановне моей не подходи! Ничем в ту пору ей не угодишь – ходит расстроенная, растревоженная. «Машеньке-то, поди, как трудно: никто ее не жалеет», – говорит. И тогда уж знали: что-то неладно.
Обитель Пелагея Ивановна очень хранила, называя в ней всех своими дочками. И точно, была она для обители матерью (по слову святого Серафима Саровского. – Н. Г.):ничего здесь без нее не делалось. В послушание ли кого куда посылать, принять ли кого в обитель или выслать – ничего без ее благословения матушка-игуменья не делала. Что Пелагея Ивановна скажет – то свято, так тому уже и быть.
Никого и ничем она не отличала: ругал ли ее кто, ласкал ли – для нее все были равны. Не делила она людей на старух и молодых, простых и важных, начальников и не начальников. Всякому говорила она лишь то, что по их, по-блаженному, Сам Господь укажет и кому что необходимо было для душевного спасения: одного ласкает, другого бранит; кому улыбается, от кого отворачивается; с одним плачет, а с другим вздыхает; кого приютит, а кого отгонит; а с иным хоть весь день посидит, слова не скажет, будто и не видит. С раннего утра до поздней ночи, бывало, нет нам покоя, иной раз совсем замотают: кто о солдатстве, кто о пропаже, кто о женитьбе, кто о горе, кто о смерти, кто о болезни и людей, и скота – всяк со своим горем и скорбями, с заботами идут к ней и без нее ни на что не решаются. Сестры тоже к ней летят почтой. Не было отбою. И все говорили: что она им скажет, так все и случится. Сам, значит, Господь людям указал, как жить.Бывало, с утра и до поздней ночи тормошишься, иной раз так тошно станет, а терпишь да молчишь – делать нечего.
Любила ли она кого-нибудь особенно, Бог весть, я не заметила. Матушку-игуменью любила. Меня, кажется, тоже любила, но как-то по-своему. Именинница я на Симеона Богоприимца и Анну-пророчицу. Вот поэтому последние годы и звала она меня Симеоном, но всегда по-разному. Как назовет, я по тому и знаю – ласкает ли, за что-либо бранит или сердится. Когда была довольна – «Симеон» да «Симеон-батюшка» скажет, а как сердита – «Семка». А если я, обеспокоенная, начну выговаривать кому-нибудь, она тут же возьмет меня за руку, гладит ее, в глаза так и заглядывает, ласкается: «Ведь ты у меня Симеон Богоприимец, батюшка, ведь он так прямо на ручки Господа и принял; да был хороший, да кроткий такой. И тебе так-то надо».








