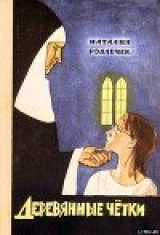
Текст книги "Деревянные четки"
Автор книги: Наталия Роллечек
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
– Великолепна! Великолепна! Какая скорбная складка у губ! Сколько печали и умственной зрелости во взгляде!.. А сколько, кстати, ей лет?
– Не знаю точно. Кажется, восемнадцать. А может быть, больше.
Не отрывая взгляда от фотографии, мужчина долго молчал. Пани Кристина внимательно всматривалась в его лицо, нервно теребя ремешок от ручных часов. Но вот он закрыл альбом и сказал серьезным, деловым тоном:
– Ты должна заняться ею, Кристина. А может быть, ты предпочитаешь, чтобы я ею занялся?…
Он наклонился над столиком и заглянул Кристине в глаза. Оба рассмеялись; Кристина – с явной натугой.
Она встала со стула и, поправляя волосы, сказала с явным вызовом:
– Если хочешь, можешь ее увидеть. Она работает гардеробщицей у моей тетки. – И Кристина направилась к двери. Я быстро отскочила в сторону и, совершенно ошеломленная всем тем, что услышала, сбежала по лестнице вниз.
Воспоминание о подслушанной беседе весь день не давало мне покоя. Я сгорала от любопытства, что скажет Луция, когда я сообщу ей обо всем этом. Не дождавшись ее возвращения, я отправилась вечером снова в клуб.
Пани председательницы в клубе не было, зато среди девчат находилась Марыся. Она сильно похудела и зачахла с того дня, когда я видела ее в тиаре, однако голубые ее глаза смотрели на всех по-прежнему прямо и доброжелательно.
Я подошла к Луции и потянула ее за рукав.
– Что здесь делает Марыся?
– Пришла проведать подруг.
– А откуда она взялась в городе?
– Заболела и вот хочет пойти к доктору.
В этот момент Марыся подошла к нам.
– Скажи мне, Луция, хорошо я поступила?
– А о чем речь?
– Господа из усадьбы, что в нашей деревне, хотели, чтобы я пошла к ним горничной. Папа и мама тоже к тому вели. А я не уступила им.
Луция, взволнованная, смотрела на Марысю.
– Ну, конечно же! Ты хорошо сделала.
Мне хотелось поболтать с Марысей, но тут одна из клубисток вышла на середину зала и громко воскликнула:
– Девушки! Давайте решим, что мы ответим нашей председательнице. Соглашаетесь вы, чтобы мы коллективно вступили в Марианскую содалицию[58]58
Марианская содалиция – одна из многочисленных католических молодежных организаций (построенная по типу религиозного братства, кружка) в довоенной Польше.
[Закрыть] или нет?
– Я много знаю о содалисках,[59]59
То есть о девушках – членах содалиций.
[Закрыть] – отозвалась веселая блондинка. – Они ходят в костел в белых блузках, обмениваются между собой тайнами исповеди и имеют непреложную обязанность поклонения святыням. А в остальном они делают всё то же самое, что и другие девчата. Ходят на свидания и так далее.
– Мне ни холодно, ни жарко от этой содалиции, – заметила другая. – Только меня злость берет, что Кристина так распоряжается нами.
– Да ведь она же спрашивала нас, хотим мы этого или нет, – возмутилась Аниеля. – Нужно было тогда говорить. А то при ней сидите тихо, но как только она за двери, – вы тут же балаган устраиваете.
– А раз я не знала, как девушки решат, – оправдывалась та.
– В таком случае, – подала голос Луция, – одна из клубисток должна от имени всех остальных сообщить Кристине решение, а именно: каждая из нас сама уладит это дело.
Меня поразило, что предложение Луции было встречено молчанием, презрительными усмешками и многозначительными перешептываниями.
– Почему ничего не отвечаете? – удивилась Луция.
На это одна из клубисток громко сказала:
– Нас удивляет, почему именно ты восстанавливаешь девчат против пани Кристины.
Луция побагровела.
– Не понимаю. О чем идет речь?
– Кто между двумя стульями сидит, тот в конце концов с одного из них грохнется, – буркнула другая клубистка.
Вслед за нею посыпались возгласы:
– Если нам надо будет сообщить что-либо председательнице, так обойдемся без твоих советов!
– Помоги своими советами Марысе. Ей предлагают место горничной в усадьбе. Ты ведь разбираешься в прислугах.
– Марыся уже отказалась. Пусть Луция пойдет на ее место. Свежий деревенский воздух ей очень полезен.
– Вот именно! Наберется там больших сил для произнесения речей о независимости работающих девушек!
– Луция небось сама-то уже вступила в содалицию.
– Конечно. С волками жить – по-волчьи выть!
Остолбенело осмотрелась я кругом. Все клубистки презрительно усмехались и смотрели на Луцию очень неприязненно. Марыся конфузливо щипала кончик платка и с сочувствием поглядывала на Луцию. А она – боже милостивый!.. Какой у нее вид! Я думала, что сама брошусь кулаками на издевающихся над ней девушек. Так больно ранить ее! Так попрать и оттолкнуть!
Чувствуя, что у меня к горлу подступают слезы, я подошла к ней.
– Пойдем отсюда, Лутя.
– Идем, – последовал ответ.
Глумившиеся еще минуту назад клубистки неожиданно примолкли. С нахмуренными лицами и беспокойством следили они за тем, как Луция надевала плащ. Марыся несмело дотронулась до ее руки.
– Я тоже иду в ту сторону. Пойдем вместе.
– Мне надо ещё зайти в магазин за шерстью. – Луция быстро наклонилась и поцеловала Марысю в щеку. – До свиданья, Марыся.
По улице Луция шла быстро, размашисто, так что я едва поспевала за нею. Вдруг я почувствовала, что кто-то сзади тянет меня за рукав.
Оглянулась. Возле нас стояла Аниеля.
– Теперь ты убедилась, что за подлые создания эти девчата, – запыхавшись, еле выговорила Аниеля, доверительно беря Луцию под руку. – И стоило тебе так для них стараться! Кристина никогда никому такой подлости не сделала бы. Ты не принимай близко к сердцу их глупой болтовни. Они просто завидуют тебе – и всё тут! Они никак не могут простить тебе, что ты пошла на эту службу…[60]60
В этой фразе имеется игра слов. Sluzba по-польски означает одновременно и службу, и прислугу, дворню. А оборот «na sluzbe» может означать как «на службу», так и «в прислуги».
[Закрыть] На это место, – быстро поправилась Аниеля. – Они готовы утопить тебя сейчас в ложке воды. Но я остаюсь твоим другом, как была им и раньше…
Так болтала Аниеля всю дорогу, несмотря на то что Луция не обмолвилась ни единым словом.
С этого дня в Луции произошел какой-то надлом. Она выглядела всё хуже и хуже, и это начинало не на шутку нас тревожить. Луция похудела еще сильнее, лицо ее сделалось прозрачным, а глаза такими огромными и блестящими, какими они еще никогда у нее не были. То ли плохо, то ли хорошо было ей в доме горбатой графини – мы об этом так и не узнали. Луция молчала, словно разговор о новой должности мог оскорбить ее или доставить ей большие неприятности. Молчали и мы. И только кипы чулок старой графини, которые Луция приносила домой для штопки и над которыми просиживала допоздна, напоминали нам о ее новых обязанностях.
Готовя вечером уроки и глядя на темноволосую голову Луции, склоненную над чулками, я шептала:
«Терзаясь одною и той же тоскою,
Мы стали чужими друг другу в тот час,
И наша тоска, как враждебная сила,
Вдруг встала меж нами и нас разлучила,
В сердца пролила нам губительный яд,
Сердца отравлявший, туманивший взгляд.
Не стало тех чувств, что нас прежде сближали,
И, словно немые, мы оба молчали…"[61]61
Стихи из «Отца зачумленных» Ю. Словацкого. Перевод М. Живова.
[Закрыть]
И в самом деле: тоска, которая была в Луции, в грязной шерсти шарфиков, в старых чулках графини, содержала в себе яд ненависти. У меня было такое впечатление, будто сам воздух в нашей комнате был отравлен. Еще никогда такая безнадежная атмосфера не царила у нас, и никогда еще Луция не была такой далекой и такой почти чужой, как теперь. Порою, когда я, подперев голову рукой, наблюдала за выражением ее лица, во мне вдруг пробуждалась робкая надежда, что вот-вот она обратится ко мне и скажет хоть несколько слов. Луция поднимала голову, осматривалась вокруг, блуждающий взгляд ее огромных, блестящих глаз скользил по нашим лицам и, казалось, пронзал насквозь стены дома. Но мгновение проходило, Луция снова опускала голову, а я склонялась над тетрадью.
Аниеля прибегала почти каждый день. Пронырливая и бесцеремонная, она старалась проникнуть в тайну душевных переживаний Луции.
– Ну, как там у тебя дела? Перепало тебе от старухи какое-нибудь платьишко? Покажи! У старухи должен быть полный шкаф юбок. Уж ты, наверно, разглядывала их, а? Признайся, примеряла ведь платья какой-нибудь из дочерей графини?
Луция пыталась сдерживать этот словесный поток, но Аниеля не давала ей проронить ни слова.
– Меня ты не должна стесняться. Лучше скажи сразу, что, как только дочки графини уходят, ты начинаешь рыться в шкафах! В этом ведь нет ничего плохого! А платью-то ничего не сделается, если ты его примеришь. Ты ешь вместе с дворней или с графиней? Масло тебе дают или нет? Целина говорила, что видела тебя на Плянтах, как ты прогуливала собачек. Ты сама их купаешь или прислуга?…
Меня коробило от такой беспрерывной болтовни, а потому я совершенно не удивлялась, что после каждого визита Аниели Луция становилась почти совершенно больной.
Со временем я всё же привыкла к ее навязчивости, к ее болтовне и была крайне удивлена, когда однажды, прибежав к нам, Аниеля, вместо расспросов о тряпках и сплетнях графского дома, заговорила о чем-то совершенно новом:
– Мы готовимся провести в клубе торжественное собрание, посвященное Дню независимости. Будет множество гостей, приглашенных Кристиной, Ей особенно важно то чтобы собрание прошло безупречно. Нас будет рассматривать столько людей, и все они – сливки высшего общества друзья и знакомые нашей председательницы. Тебе предстоит выступить в живой картине и продекламировать стихотворение. Возьми вот его и прочитай про себя.
Луция молча прочитала стихотворение и отодвинула в сторону лист бумаги.
– Я не смогу это говорить.
– Почему? Горло у тебя болит?
– Горло у меня не болит, только это стихотворение не устраивает меня.
– Как это – не устраивает? Что ты болтаешь? Это хорошее стихотворение. Сама Кристина выбрала его для тебя.
У Луции высоко взметнулись брови. Я с любопытством заглянула в текст. Это была одна из тех поэмок, которыми нас пичкали на школьных торжествах по случаю различных государственных праздников. Она воспевала маршала,[62]62
Имеется в виду маршал Ю. Пилсудский, социал-предатель и агент ряда империалистических разведок, фашистский диктатор Польши в 1926–1935 годах.
[Закрыть] двигающего нашу отчизну к вершинам славы: «Железная воля в великих свершеньях…», «Могучий орлиный полет на высоты…», «Бескрайние нивы созревших хлебов…» и даже «Негромкое слово юнца пред иконой…» Я зевнула и положила поэму на стол.
– Ну, и как? – нажимала на Луцию Аниеля. – Что передать Кристине?… Ты ведь только подумай, какие гости будут тебя слушать!
Луция прищурившись смотрела куда-то вдаль. Перекладывая листок со стихами из руки в руку, она наконец оказала громко и решительно:
– Передай пани председательнице, что я выступлю с декламацией на вашем собрании…
С этого момента не было дня, чтобы Аниеля не ворвалась в нашу комнату и не сообщила еще с порога восторженным тоном самые последние новости:
– Сегодня в клуб привезли ковры! Монтеры ремонтируют освещение! В зале уже установлены пианино и кресла! Кристина дала их взаймы из своего дома! Завтра повесим плюшевый занавес!
Накануне торжества Луция, расчесывая возле зеркала волосы, сказала мне:
– Ты приходи завтра вечером на собрание…
Мне припомнился тот вечер, когда я впервые выбралась в клуб. Сколько изменений произошло с того времени! И как неузнаваемо изменилась за всё это время сама Луция!
На другой день вечером я помчалась в клуб. Остановившись у входа в зал, я с любопытством осматривалась кругом. Ого! Вот это общество! Еще никогда в клубе бедных паненок не было столько народу и не господствовало такое радостное, приподнятое настроение. В рядах кресел восседали многочисленные гости. Стулья занимали клубистки и члены их семей. Всюду были развешены гирлянды зелени, у потолка виднелись лампионы,[63]63
Лампионы – цветные фонари, стеклянные или бумажные; применяются преимущественно при иллюминации.
[Закрыть] на полу – дорожки. Сбоку от сцены сидел слепой музыкант. Занавес был опущен, освещение частично пригашено. Зрители беседовали вполголоса, некоторые клубистки сосали конфеты и шелестели бумажными обертками. Я почувствовала себя как в кино перед началом сеанса.
Я отыскивала глазами пустой стул, когда увидела Аниелю, которая издали показала мне на свободное место рядом с собой.
– Ты пришла как раз к самому концу, – сказала она, когда я села. – Остается еще только живая картина «Прощание» Гротгера,[64]64
Гротгер Артур (1837–1867) – один из виднейших польских художников XIX века, сторонник освободительного движения. Творческий путь начал циклом рисунков, посвященных польскому восстанию 1863 года против царизма. В большинстве работ следовал по пути реализма.
[Закрыть] – и Луция начинает свою декламацию. Ты знаешь, какое стихотворение будет она читать?
Я утвердительно кивнула головой.
В этот момент в зале погас свет и занавес раздвинулся. Воцарилась тишина. Я смотрела во все глаза, и недоумение мое росло, а сердце билось всё сильнее. Какое же это был «Прощание»? На картине у Гротгера повстанец в бурке и конфедератке[65]65
Конфедератка – польская фуражка с квадратным дном.
[Закрыть] наклоняется к провожающей его женщине, подставляя свой лоб для поцелуя. А тут на сцене стояла одинокая женская фигура в черном бархатном платье, тяжелые складки которого ниспадали до самого пола.
Я поискала глазами повстанца. Он, растерянный, торчал где-то сбоку, влепив свои глаза в Луцию.
«Или занавес подняли раньше, чем нужно, – подумала я, даже вспотев от удивления, – или повстанец от волнений забыл, где ему надо находиться».
– Аниеля… – прошептала я, тронув девушку за рукав.
Она не обратила на меня никакого внимания, продолжая смотреть на сцену с открытым от восторга ртом. И вдруг охватившее меня беспокойство словно куда-то испарилось. Я всем своим существом поддалась спокойному обаянию смотревшей на нас со сцены женской фигуры. Каким чудом могла она измениться так, что ее красота и обаяние вызывали теперь даже слезы восторга?
Обрамленная с двух сторон занавесом, ярко освещенная, она была похожа на прекрасный портрет кисти старинных мастеров. Обширный бархатный кринолин[66]66
Кринолин – широкая юбка на тонких стальных обручах, бывшая в моде в середине XIX века.
[Закрыть] скрывал ее непомерную худобу. Свет рефлектора выделял матовую бледность ее лица, придавал особую лучистость ее огромным выразительным глазам и оттенял фигуру, овитую черным бархатом.
Я даже вздрогнула, когда она шевельнулась и с силой вытянула перед собой руки. По рядам зрителей пробежал шёпот. Характерный жест ее рук создавал впечатление, будто она прощалась с чем-то, что навеки уходило от нее.
Теперь я уже не могла сдержаться и издала громкий, тяжелый вздох. Мне припомнилась ее согбенная, худенькая фигурка, каждый вечер торчащая над клоками затхлой, перепревшей шерсти.
– Тихо ты! – шикнула на меня Аниеля.
Луция с минуту стояла еще с вытянутыми к зрителям руками, а потом медленно опустила руки и звонким, сильным голосом начала декламировать:
«О брат – рабочий, с молотом в руках!
Влачишь свой век в цехах и шахтах темных
«Постойте! Но ведь это же не те стихи, которые дала Кристина!..» – подумала я, ошеломленная.
В рядах кресел царила тишина. Вокруг себя я слышала взволнованное дыхание девушек. Они буквально пожирали глазами Луцию.
«Но в тайниках твоей души укромных
Сверкает солнце в огненных лучах,
Святая мощь в подъятых кулаках
И гнев святой в порывах неуемных».
Чтица повысила голос. Затаив дыхание, вслушивалась я в следующие строфы. Последние слова стихотворения способны были, казалось, разрушить стены клуба, содрать гирлянды и лампионы, истоптать букеты, расшвырять кресла с именитыми гостями…
«Рука твоя в труде закалена,
Бесправие и гнет сметет она,
Насильники уже дрожат от страха,
Так силу новую ты в нас буди,
Нас к новой жизни смело ты веди,
А угнетателей своих – на плаху!»
Луция кончила. Раздались жидкие аплодисменты. Занавес сомкнулся. В зале зажегся свет. Именитые гости зашевелились в своих креслах, осмотрелись вокруг и облегченно вздохнули. Казалось, они обрадовались виду и грязных стен, и выцветших портретов, и старых кресел – тому, что составляло обыденную картину «Клуба молодых полек». Эта картина убожества и серости возвращала их к нормальной действительности, из которой они были только что выведены этой странной девушкой в черном бархатном платье.
Я разыскивала взглядом пани Кристину. Она рассуждала о чем-то с гостями, возбужденная, с ярким румянцем на щеках. Через минуту в зале показалась и Луция. Она уже снова была одета в свое будничное, потрепанное платьице. Сломленные всем увиденным и услышанным, клубистки во все глаза смотрели на нее, громко перешептываясь между собой.
Торжество было закончено. Гости поспешно раскланивались с пани Кристиной и исчезали один за другим. Какая-то молодая, сильно накрашенная дама, прощаясь с Кристиной, громко воскликнула:
– Я должна сказать тебе, Кристя, что эта твоя малышка в бархатном платье была великолепна![68]68
Игра слов: pyszna по-польски имеет несколько значений: высокомерная, надменная, гордая – с одной стороны; а с другой – пышная, великолепная, прекрасная. Таким образом, восклицание гостьи можно понимать двояко: «Луция была великолепна» и «Луция была надменна».
[Закрыть] – и она громко рассмеялась. Пани Кристина с натугой улыбнулась.
Я поняла, что это неожиданное опустение зала имеет непосредственное отношение к выступлению Луции, и меня охватил вдруг страх за нее.
Я подошла к Луции и дернула ее за рукав:
– Лутя, идем домой!
– Оставь меня, – нетерпеливо отмахнулась она. – Мне хочется побыть в клубе.
Я послушно спустилась вниз одна и там остановилась: «Чего она еще дожидается? Не сойду с этого места, пока она не выйдет». Я смотрела в ночное небо, отыскивая Большую Медведицу и продолжая размышлять над тем, что могло заставить Луцию остаться в клубе.
Большой Медведицы я что-то никак не могла обнаружить, но зато мое внимание привлек молодой мужчина, нетерпеливо шагавший взад и вперед перед воротами дома. Потом он вошел в подъезд, остановился у лестницы и, закинув назад голову, начал смотреть вверх. Только сейчас я узнала в нем знакомого Кристины, который в маленьком клубном помещении читал сочинение Луции на тему о милосердии.
«Ждет ее», – быстро сообразила я. А так как я издавна питала тайную симпатию ко всем мужчинам в фетровых шляпах, то тут же начала присматриваться к нему с особой доброжелательностью и любопытством.
Пани Кристина не появлялась. Мне наскучило это бездействие, и я начала рассматривать проходивших мимо людей.
– Меня восхитило выступление пани! Разрешите, я провожу вас до дома?
Я быстро обернулась. Мужчина, склонившись к Луции, говорил шутливо:
– До сего времени я не имел возможности…
Увы! Так я никогда и не узнала, какой возможности он не имел, потому что в этот момент раздался скрип ступенек, и оба инстинктивно взглянули вверх.
На лестнице стояла пани Кристина.
– Я вот предлагаю панне Луции проводить ее до дома, – непринужденным тоном сказал он. – Самый удобный случай для того, чтобы обсудить с героиней вечера такую интересную постановку, как сегодняшняя.
– Мы можем подвезти панну Луцию, – ответила Кристина, спускаясь по лестнице. – Авто ожидает у ворот.
Из своего укрытия я наблюдала, как они усаживались автомашину: Кристина – рядом с шофером, а те двое – на заднем сиденье. У меня создалось при этом впечатление, что у мужчины на лице написано такое глупое выражение, какое имеют люди, застигнутые врасплох, и фетровая шляпа перестала мне нравиться.
Когда машина тронулась, я тоже поплелась к дому…
«А это еще что?» – удивилась я, остановившись на пороге нашего жилища. В комнате было почти темно. На столе мерцала свеча, воткнутая в стакан, а возле стола сидела Луция и смотрелась в зеркало. Она была в ночной рубашке и накинутой на плечи шелковой пурпурной косынке, которую случайно оставила у нас Аниеля. Глаза у нее были широко раскрыты, но казалось, что она спит.
Я подошла к сестре на цыпочках и дотронулась до ее плеча.
– Лутя, ты что делаешь?
Луция вздрогнула всем телом и нехотя повернула лицо в мою сторону. Неестественно блестящие глаза с расширившимися зрачками были устремлены на меня, но взгляд их блуждал где-то далеко, далеко.
– Луция… – испуганно пролепетала я.
Подбирая слова, как это делают люди, к которым после долгого беспамятства вернулось сознание, она сказала медленно, с расстановкой:
– Мне хотелось бы знать: неужели я на самом деле красива?
– Ты же сама знаешь! – возмутилась я, но мне тут же что-то сдавило горло. Ох, и до чего же в самом деле была она красива в тот момент! Как египетская царевна Нефертити, изображение которой было у меня в школьном учебнике.
Неровный, тусклый огонек свечи бросал беспокойные тени на смуглую шею, большой лоб, на разметавшиеся по плечам волосы. Как шел ей этот пурпурный кусочек шелка! Но почему она так странно смотрит, так отчужденно и равнодушно?
Отворачивая голову от зеркала, она сказала сонным голосом:
– Мне так хочется, чтобы кто-нибудь сказал мне, сказал сегодня, буду ли я счастлива…
«А что такое счастье?» – размышляла я, лежа с закрытыми глазами на кровати и собирая остатки образов только что прерванного сна… Хрупкая фигурка в черном платье, с аистовым гнездом вместо головы, танцевала возле зеркала. Собственно, это была не фигура, а всего лишь вытянутая, непрерывно колеблющаяся тень от свечи.
Открыть глаза меня заставило постукивание прачечного валька. Мать, склонившись над лоханью, стирала белье. На плите урчал бачок, полный кипящей воды.
Я села на кровати, отыскивая глазами Луцию. Она обычно помогала матери во время стирки, но сейчас возле лохани ее не было видно.
Луция сидела возле стола, всё так же в ночной рубашке, и громко читала «Серебряный сон Саломеи».[69]69
«Серебряный сон Саломеи» – драма Ю. Словацкого, написанная в 1844 году, когда поэт был в значительной мере властью мистических настроений. Это нашло отражение и в драме. Отрывки приводятся в переводе В. Фишера.
[Закрыть]
«Бессмертники и розы были
Мои любимые цветы…
И мальв люблю я пирамиды…
Однако, если б из опалов,
Алмазов, перлов и кораллов
Венки бы я плести могла,
Как на волнах океаниды, —
Из серы пламенно горящей
Я повилику бы свила
И в волосы б ее вплела…»
Постукивание прачечного валька и бульканье воды заглушали ее слова.
Вошел отчим, взглянул на мать, вытиравшую вспотевшее лицо, и с гневом обратился к Луции:
– Перестань!
Но Луция упорно продолжала читать дальше. Тогда я соскочила с кровати, подбежала к ней и вырвала у нее из рук книжку:
– Что ты, Луция, устраиваешь!
Я увидела ее искаженное лицо, глубоко провалившиеся глаза и отскочила назад, прижимая книжку к груди.
– «Ах, что будет со мной?…» – продолжала бормотать в беспамятстве Луция.

«… Астры, розы, гвоздики…
На дворе палачей
Вижу красные лики…
Ах, что будет со мной?
Унесусь ли с волной,
Точно лебедь сребристый?
Или алый рассвет
Перейдет в полусвет,
В тихий вечер лучистый…»
Она откинула назад голову, зажала кулаками виски и не открывая глаз, бесконечно повторяла одно и то же:
«Ах, что будет со мной?
Унесусь ли с волной,
Точно лебедь сребристый?
Или алый рассвет
Перейдет в полусвет…»
Это невозможно было больше вынести. Отчим стукнул кулаком по столу:
– Перестань, черт возьми! Слышишь?
Мне казалось, что если только она перестанет произносить эти адские стихи, то всё станет хорошо, и я, гладя ее руку, повторяла, с трудом удерживая слезы:
– Не говори этого, Лутя, не говори, не надо…
Однако она продолжала читать эти стихи дальше и дальше, словно не имея сил сдержать себя. Я с недоумением посмотрела на мать, ища у нее спасения, но увидела, что мать, склонившись над лоханью, тихо, в отчаянии плачет. Лицо Луции бледнело всё больше и больше.
«Ах, что будет со мной?
Унесусь ли с волной,
Точно лебедь сребристый?
Или алый рассвет
Перейдет в полусвет…»
Казалось, нет уже такой силы, которая могла бы сдержать ее. Бульканье воды в бачке, всё более громкие рыдания матери и стихи, декламируемые спазматично и безостановочно, – всё это наводило на меня какой-то ужас.
Луция еще раз повторила:
«Или алый рассвет
Перейдет в полусвет,
В тихий вечер лучистый…»
И в беспамятстве рухнула со стула. Это был первый приступ. За ним, в тот же самый день, последовали новые приступы.
Кроваво-красный заход солнца мы встретили, как погорельцы. Мы все стояли вокруг кровати, на которой лежала Луция, укутанная в мокрые простыни, неестественно вытянувшаяся, сильно отяжелевшая и белая, как гипсовая фигурка.
Готовясь спать, я расстелила себе половики прямо на полу. И когда укладывалась на это жесткое ложе, то с отчаянием подумала: «Вот Луция сошла с ума. А ведь она всегда была так рассудительна, так трезва и выдержанна! Никогда уже не смогу я сказать ей, что люблю ее. Никогда я не была ни достаточно чутка к ней, ни достаточно внимательна». И, натянув на голову одеяло, я до поздней ночи рыдала в подушку.
Вызванный к Луции врач остановился возле кровати и склонился над изможденной больной, которая была без сознания и ожесточенно кусала свои пылающие жаром губы. С окаменевшего лица на врача глядели живые, зоркие, блестящие глаза.
Врач долго осматривал Луцию. Потом он выпрямился, сказал:
– И зачем пани вызвала меня сюда? Почему довели девушку до такого состояния? Нужно было хорошо питать ее, создать ей человеческие условия существования, дать ей отдых, культурное окружение! Всё это предотвратило бы несчастье. В последние месяцы или дни в ее жизни произошло, видно, какое-то особенно тяжелое событие, которое и вызвало этот шок. Может быть, причиной является окружение, в котором она находилась?…
Врач прервал свою речь и сделал двусмысленный жест. Увидев смертельно побледневшее лицо матери, он закончил более мягким тоном:
– Я советовал бы вам похлопотать о том, чтобы поместить больную в какую-нибудь частную лечебницу. В больнице, в Кобежине,[70]70
Кобежин – местечко недалеко от Кракова, в котором находилась известная в Южной Польше больница для умалишенных.
[Закрыть] слишком тяжелые условия.
И мать снова начала свои бесконечные хождения по различным благотворительным организациям, хлопоча и упрашивая о помещении Луции в частную лечебницу.
Я мысленно рисовала себе картины, как хорошо будет Луции в такой лечебнице. Ведь филантропия, оказывающая помощь только тем, кто особенно остро нуждается в ней, могла теперь с чистой совестью заняться Луцией, взять над ней опеку.
Я представила себе, как Луция найдет приют в белом просторном доме. В нем, как во дворце, растут в бочках пальмы, а вокруг – заросли красных роз и бегоний. Только вот на окнах этого прекрасного дворца будут прочные железные решетки…
Однако случай с Луцией не был признан филантропией слишком тяжелым. Поэтому одна из чиновниц христианского милосердия сказала матери:
– Пани должна быть благодарна господу богу за то, что он ниспослал свои испытания именно вашей дочери. Те, что умеют терпеть, скорее достигают бога. Значит, такова его святая воля, чтобы пани несла и этот крест.
И она вручила матери листок с молитвой.
А другая пани руководительница, знаменитая своим знатным происхождением и благотворительной деятельностью, в ответ на просьбы матери вздохнула сочувственно:
– Увы! Мы не располагаем денежными фондами на подобные случаи. Да и, кроме того, непонятно, к чему надо добиваться помещения больной в частную лечебницу. Ведь это явно не по вашим средствам. Вполне достаточно будет и больницы в Кобежине.
И она вручила матери талон на три литра молока.
Неожиданно пришел перекупщик за готовым товаром. Увидев Луцию, он в изумлении воскликнул:
– Ой, ой! Что случилось? Уж не умерла ли она?
Узнав, что нет, не умерла, он успокоился.
– Я ее так любил! – сокрушенно покачивая головой, сказал перекупщик. – А моя доченька была просто влюблена в нее. Панна Луция брала ее с собой на прогулки и разучивала с нею стихи. Моя доченька часто мне говорила: «Папа, почему ты не хочешь дать этой панне больше заработать? Она ведь очень бедная и ходит в продранных туфельках». Однако у меня не было денег, чтобы делать надбавку… А панне Луции надо прикладывать к груди кожу от молодой кошки. Это ей поможет. И пускай пьет собачье сало. Я так своего шурина вылечил… Вот вам здесь для нее двадцать злотых. Пани возместит мне их потом шарфиками. Я могу подождать готовый товар.
Он оставил на столе двадцать злотых и выбежал из комнаты.
В тот день я встретила на улице Аниелю. Она сделала вид, что не заметила меня, но я догнала ее и схватила за руку:
– Знаешь, Аниеля…
– Знаю! – вырвалась она от меня и со злостью крикнула: – Я сделала для нее всё, что только могла, а она такое нам устроила, что ой-ой! Старая графиня на меня теперь гневается. Говорит, что это могло произойти с Луцией в их доме, а тогда бы она всех убила! Разве ей так плохо жилось? Никто не обидел ее деньгами, не ударил, не оскорбил. Все ее уважали… Наша пани Кристина так расстроена всем этим, что закрывает клуб и уезжает отдыхать за границу. Жаль! Такая хорошая клиентка! – И вдруг она расчувствовалась: – А помнишь, как хороша была Луция в том бархатном платье Кристины?…
Я убежала от Аниели.
Хлопоты о помещении Луции в частную лечебницу так ни к чему и не привели.
И снова я целыми днями оставалась в нашей комнате одна. За окном, разукрашенным морозным узором, время от времени грохотали повозки. Стены комнаты, покрытые инеем, приняли мутно-синеватый оттенок замерзшего молока. Они слегка розовели только по вечерам, когда сквозь замерзшее окно пробивался одинокий луч заходящего солнца. Кругом было очень тихо и однообразно. Не появлялись даже похоронные процессии, которые летом оживляли мертвый пейзаж перед нашим домом. Я знала: стоит мне отвернуть лицо от окна, как я опять увижу на кровати молчаливую белую фигуру, устремившую свой безумный взгляд в потолок. И мне не хотелось оборачиваться. Временами Луция шевелилась, и тогда шорох соломы в матрасе заглушал ее учащенное, неровное дыхание. Я то плакала, то смотрела на улицу через маленький кружок в замерзшем окне, образовавшийся от моего дыхания.
Однажды перед нашим домом остановилась крытая больничная повозка из Кобежина. Из нее вышли санитары.
Я спряталась за занавеску, рукой зажимая себе рот, чтобы не разрыдаться. Санитары двинулись по лестнице. Вынесли Луцию на носилках. Захлопнулись двери повозки…
У меня началась горячка, а когда через несколько дней я пришла в себя, полная отчаяния и горечи, то сразу же взялась за пяльцы и заняла то место возле стола, на котором обычно сидела Луция.
Независимо от того, что делалось у нас в доме, – умирал ли кто или погибал, разрывалось ли чье-либо сердце от нестерпимой боли или съедали человека печаль и отчаяние, – товар нужно было изготовить в срок и отдать поставщику сырья.








