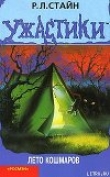Текст книги "Журнал Наш Современник 2006 #7"
Автор книги: Наш Современник Журнал
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Журнал Наш Современник
Журнал Наш Современник 2006 #7
(Журнал Наш Современник – 2006)
Майя Ганина Друзья и не друзья
Из очерков русской жизни
1. …Снег идет, снег идет… Совсем как в любимом романсе Георгия Свиридова на слова Пастернака…
Снег идет. Идет снег. За окном. Сколько же раз видела я идущий за окном снег?.. В такую погоду мне обычно хорошо работается. Привыкла за бродячую жизнь. Как у геологов: летом – “поле”, зимой – “камералка”…
И опять вопрос: знак, символ всякого начала – “Ab ovo – от яйца”?
Воспоминания, мемуары положено писать именно “от яйца”: детство, юность, зрелость, старость. Встречи и события, этим моментам жизни воспоминателя строго соответствующие… Так “воспоминают” и прежде, и ныне все: в строгой хронологической последовательности.
Значит, подобным путем должно идти и мне? Но ведь Время – минувшее, оставшееся далеко, близко ли позади моей (да и твоей, согласись, читающий!) сегодняшней жизни, – вовсе не видится некоей рекой с истоком, руслом, устьем… На мой взгляд – как бы громадная полусфера, объявшая нечто темно-бывшее, живое, замершее “до востребования”… Луч памяти выхватил в шевелящемся позади – и высветилось. Ярко. Либо расплывчато. И снова – рядом, снова вызывает у тебя радость, стыд, горечь, гордость, нежность… Или же спокойное переосмысление содеянного некогда, в ту пору недопонятого…
Так, наверное, я и попробую записать свое Время. То, что вдруг вспомнилось и задело сердце…
Но начну с события сегодняшнего: девятое марта двухтысячного года. Утром по “Маяку” сообщили: в Шереметьево разбился, едва взлетев, самолет ЯК-40. Погибли все, кто там был: девять человек, среди них Артем Боровик.
Взрослым я его видела только в телевизионных передачах, но хорошо помню маленьким, пяти-шестилетним, в Коктебеле, куда многие писатели любили ездить в Дом творчества. Я с дочкой, а Темка с родителями обычно приезжали туда в августе, селили нас, как правило, в соседних номерах, в престижном “девятнадцатом корпусе”.
Отец его, журналист-международник Генрих Боровик, большую часть дня печатал на машинке свои статьи, устроившись в лоджии, а Темка (став взрослым, он как бы и не изменился внешне), толстый, круглолицый, яркоглазый, полный энергии, бегал, кричал, играл, поглощал жизнь, к нему смалу благосклонно расположенную. Счастливым стечением обстоятельств, обеспечивающих ему логический выход на ту дорогу, по которой он пошел, ведь его отец, Генрих, всегда был любим властью, благополучно, не напрягаясь, с этой властью сотрудничал. С конца шестидесятых годов прошлого века он руководил советским корпунктом в США. Артем жил там с отцом, обретая в среде международной элиты друзей и знакомых. Связи эти не теряются.
За свои неполные тридцать девять Артему удалось успеть больше, нежели многим его коллегам за длинную жизнь. Поездил по миру, поблистал, написал то, что хотел и мог, напечатал, обрел известность. Руководил, участвовал осведомленно в гуще лживой пропаганды, что заполонила в утекшее десятилетие все и вся. Культивируя эту ложь волей-неволей, рекламируя (обличение – тоже реклама, да еще какая!) все, что сегодня возможно. Это его и убило… Энергии, которая наполняла маленького Темку, хватило бы ему и взрослому еще надолго. Чья несчастливая звезда из оказавшихся с ним в этом злополучном “чартерном рейсе” на Киев заслонила его, явно счастливую? Выяснится ли? Не очень-то выяснялось до сей поры, хотя и брали “под личный контроль”…
Грустно. Грустно, когда гибнут, умирают те, кого знал. Пусть и не друзья. Но они – часть памяти твоей: еще одним живым обликом в полосе запечатленного меньше. Потух уголек, один из множества тлевших – кострище утратило в яркости уходящего во мрак сияния…
Через шесть дней я запишу, как Генрих Боровик, семидесяти с лишком лет, отец убиенного Артема, в программе “События” на ТВЦ, отвечая на кокетливо-ленивые вопросы ведущего Дмитрия Киселева, говорил о своем (!) блистательном пути, о своих (!) архивах и дневниках, посетовав мельком, что надеялся на Темку: мол, обработает и опубликует. Ну а теперь самому, мол, придется напрягаться… “Легенда советской журналистики” – оценил его, завершая передачу, ведущий. (На мой взгляд, убиенный сын был ярче, интересней, талантливей.)
Шесть дней прошло! Шесть. Еще душа от тела погибшего сына не отлетела в горние выси… Я не сужу отца: каждый живет, переживает свершившееся согласно своему внутреннему содержанию, наполнению. Я пытаюсь понять: что же? как? Воспользоваться происшедшим для саморекламы?
“Все – на продажу”, – так называлась лихая пьеска Васьки-американца, шедшая в 60-х годах прошлого века в театре “Современник”, когда театр еще располагался в своем первом помещении рядом с гостиницей “Пекин”. Там прежде был кинотеатр, – не помню уже какой, – но как же у них, у Олега Ефремова и прочих, столь же молодых, талантливых и прекрасных, все тогда было необычно, наполнено могучей новой энергетикой. Потом, увы, стало, как у всех. Но это к слову.
Что касается пьески Аксенова, то автор всей своей дальнейшей жизнью подтвердил: “ubi bene, ibi patria…”: родина – там, где больше тебе отмусливают наличных, где ты сыт и благополучен, а то случайное место, где тебя черт угораздил родиться? Так – пятно на карте. Забыть и наплевать.
Все, что продается, на что есть спрос, надо продавать, извлекать, торопясь, выгоду. Вот так, выходит…
Размышляя горько об этом, я вдруг подумала удивленно, что многих, ныне “великих”, по некоему стечению жизненных обстоятельств мне довелось (как и Темку) наблюдать еще детьми.
К примеру, в начале пятидесятых годов века минувшего журнал “Новый мир” решил напечатать мою первую повесть “Первые испытания”. Редактором была назначена Софа Долматовская-Караганова – молодая и красивая, неглупая, побывавшая к тому времени замужем за поэтом Евгением Долматовским, родившая от него дочку, затем перешедшая замуж за преуспевающего чиновника от культуры Александра Караганова, родившая от него сына Сергея.
В процессе редактирования повести мне приходилось довольно часто бывать у моей редакторши в их роскошном особняке на Беговой улице. При моих и ее обоюдных попытках выяснить, что есть истина, а вернее, что “проходимо”, а что все равно вымарают, обычно присутствовал и сын Сергей, сидящий на горшке в беленькой коротенькой рубашке, с такой же, как и ныне, круглой лысой головой, напряженно-серьезным лицом, желтовато-бледный, в очках. Позу эту он почему-то занимал при всех наших встречах с Софой, скорее всего у него тогда что-то было с желудком. Может, судя по выражению лица взрослого Сергея Караганова на телеэкране, состояние это для него хроническое.
Александр Караганов, муж Софы, отец Сергея, всегда был большим начальником (чего и почему, неважно). Посему жили они и в то, достаточно скудное для большинства (и для меня, естественно), время богато, даже роскошно. Так что не от недоедания был желт и болен Сергей. Когда вырос, не остался в рядовых членах общества, хотя непонятно – за какие отличившие бы его способности?.. Ныне ведь все занимающие время на телеэкранах говорят приблизительно одно и то же. Страстно, горячо, убежденно, с позой и надрывом лауреатов Нобелевской премии в изгнании: Гайдар, Кириенко, Немцов, Хакамада, Зюганов, Чубайс… Запомнить, кто, где, когда, что произнес, не представляется возможности, ибо результат того, к чему все в “этой стране” скатилось стремительно, содеялся не от вслух, с экранов, произносимого, а от “голоса певцов за сценой”…
Или Александр Асмолов. Его очень любила одно время демонстрировать на так называемом “авторском телевидении” некая Кира Прошутинская, восхищенно объяснявшая, что мол, сей государственный муж ещё и “сексуальный гигант”. Сие тут же подтверждала с того же экрана Наталья Асмолова, сестра Александра: “Никому не может отказать!.. Я ему говорю: если бы ты был женщиной, то давал бы каждому!” И далее умиленно цитировала “гениальное” стихотворение брата: “…Всегда найдется маленький Дантес, а Пушкин Гончаровой надоест…”.
“Маленького Дантеса” мне также выпало “счастье” наблюдать в конце пятидесятых – начале шестидесятых годов прошлого века в доме его родителей.
Наталья Асмолова тогда работала младшим литсотрудником в журнале “Знамя”, где я довольно часто печаталась в те поры и ездила от них в командировки. В “Знамени” меня как автора любили и привечали, посему Наталья со мной дружила; я, по ее приглашению, бывала у них в доме. Отец Александра и Натальи Григорий Асмолов был в те времена заместителем министра энергетики. Так что когда Наталья напросилась со мной в очередную мою сибирскую командировку – на этот раз на строительство Братской ГЭС, – то ею там занимался, опекая в поездке, аж сам главный инженер строительства ГЭС Гиндин; встречалась она и с Иваном Наймушиным, начальником строительства. Оба они, по причине занятости, для нас, простых журналистов, были недоступны.
Правда, вернувшись из командировки, Наталья так ничего и не смогла написать, в чем ее отец винил меня: мол, не проследила, не настояла! Мне, собственно, было непонятно, почему вдруг следить за творчеством Натальи должна я… Но вскоре она удачно вышла замуж за известного писателя (ныне почти забытого) Владимира Тендрякова, и уже ей самой ничего писать было не надо: писал далее только он… Но это опять же к слову.
Будущего “сексуального гиганта” мне довелось в те годы созерцать в доме Натальи десяти– или двенадцатилетним. Был он, так же как и сейчас, мал ростом, некрасив, нахален, ленив и отстающ в учебе. Впрочем, высокий пост отца от неприятностей в школе его, конечно, ограждал.
Тем не менее в девяностых годах прошлого века телевидение нам восхищенно сообщало, что вот замминистра образования Александр Асмолов преуспел не только в сексе, но и в оскоплении существовавших школьных учебников по русскому языку и литературе. И до сей поры “сексуальный гигант” чем-то в системе образования руководит, влияет, разрушает… Ничего в том, что делает, не желая понимать – или с умыслом?
…Андрея Николаева, в не таком далеком прошлом генерала и начальника всех наших погранвойск, а ныне депутата Госдумы, руководителя серьезного комитета, мне опять же довелось впервые увидеть, когда будущему генералу не было и года. Его мать, поэтесса Елена Апресян, училась тогда, как и я, на заочном отделении Литературного института имени Горького. Я училась на заочном, поскольку продолжала работать технологом на заводе, Елена – поскольку родила Андрея. Мы дружили, я, случалось, бывала у них.
Пока Елена варила нам кофе на кухне коммунальной квартиры на Арбате, где они тогда жили, я носила маленького Андрюшку на руках. Муж Елены, Герой Советского Союза Иван Николаев – синеглазый, светлокудрый, высоченный красавец, уже в те поры был в генеральском чине и работал в Генштабе. Происходило все это, если мне не изменяет память, в тысяча девятьсот сорок девятом году. После, конечно, они из арбатской коммуналки переехали в другой район, где жилье больше соответствовало статусу генерала Генштаба.
Мы с Еленой оставались друзьями довольно долго. Дружили и наши дети, будучи уже взрослыми почти.
Не стану отрицать, что, судя по всему, Андрей Николаев неглуп, небездарен, профессионально сведущ. В его пользу говорит и смешение трех разных кровей: русской – отца; армянской и еврейской – матери. Есть мнение, что получаются в результате одаренные, красивые дети. Андрей – тому подтверждение.
Все так. Но ведь и ему не пришлось, напрягаясь, совершенствуясь, преодолевать нужду и тщету, выбивая свою нишу в неприступной скале невозможных возможностей! Путевка в жизнь, как и другим вышеупомянутым “киндерам” высоких родителей, была как бы выписана должностью отца…
Детям “больших родителей”, кучно прорвавшимся в начале девяностых годов ушедшего века к халявным властным должностям при президенте с “твердым рукопожатием” и размягченным мозгом – повторюсь: неокоротной, безграничной власти, – довелось радостно воплотить в жизнь то, что некогда мечтательно обсуждалось в тусовках общавшихся домами отцов-начальников. Хапать на халяву, разрушать не жалея, наслаждаясь самой возможностью безоглядного, ненаказуемого разрушения того, что складывалось столетиями. Бесконтрольного присвоения всего, на что падал взгляд. Наименование гайдаровского “Выбора России” ныне расшифровывают остроумно: “Чтобы обогатиться и пограбить, мы выбрали Россию”… Смешно? Мне – нет.
Вот какие мысли и воспоминания вызвало у меня сегодня утром горькое сообщение радиостанции “Маяк”…
2. В тот день, девятого марта 2000 года, я вспомнила и другое событие, случившееся двадцатого ноября 1998 года. Как не вспомнить! Так же, ранним утром, по “Маяку” услыхала…
Записано у меня об этом вот что: “Проснулась я сегодня в пять утра, так и не заснула. Встав, включила радио: в Питере, в подъезде своего дома, убита Галина Старовойтова. Три пули в голову, еще сколько-то для верности. Тяжело ранен, но жив, надеются, что даст показания, ее помощник. Ехала она, имея при себе большие деньги, но не взяты, документы – тоже. Убийство политическое. Деньги она везла для избирательной кампании в Ленинградской области, где освободилось место губернатора…”.
И опять, как и вокруг гибели Артема: не скорбь, не сочувствие, не осмысление – нет ли в совершившемся, так сказать, конкретной, личной, твоей вины?..
Опять реклама, опять Гайдар, Чубайс, Шейнис, Юшенков и прочие соратники и друзья убитой: “Это макашевцы, коммунисты, она была им как кость в горле, демократическая общественность должна объединиться вокруг “Демократической России”, заменить ушедшую…”.
Довелось мне услышать и такое: “Вот это подарок съезду Компартии!..” (Тогда как раз проходил очередной съезд КПРФ). Я задавала говорившим вопрос: может ли смерть – пусть политического противника – стать подарком людям с нормальной психикой и не уголовным прошлым и настоящим? Ведь существуют и иные способы борьбы? В ответ мне лишь многозначительно улыбались…
Надо заметить, что когда Старовойтова впервые начала появляться на телеэкранах, ее новоявленная “подруга”, дама-писательница, рассказывала, захлебываясь от восторга предвкушения великой халявы “по знакомству”: “Галя Старовойтова мне говорит, что на трибуне она себя ощущает значительной личностью. Может на любую острую тему говорить с ходу, без написанного заранее! И я, знаешь, тоже с ее помощью полюбила давать интервью, выступать на телевидении!..” (Надо полагать, так же, без “заранее написанного” и ответственно осмысленного.)
Я помню, как, вернувшись из Грозного перед первой чеченской войной, куда Старовойтова ездила как “военный советник” президента Ельцина, она восхищенно в телеэкран восклицала: “Восточные мужчины такие галантные…”. Имея в виду, надо полагать, “галантность” генерала Дудаева… И более – никаких иных впечатлений…
А за несколько лет до этого “значительная личность” кричала с парламентской трибуны в Ереване: “Армяне! Карабах – ваш!” Восторженно откликнувшиеся на это “народные избранники” выдвинули Старовойтову депутатом в Москву, вершить судьбу уже не Армении и Карабаха – России…
Видела ли она, спустя недолго после собственных и иных подобных, с трибун, восклицаний, телевизионный репортаж из Карабаха?
…Из раскрытой двери военного вертолета черноволосый офицер достает еще не окоченевшее тело мертвого пятилетнего армянского мальчика, затем – тело мертвого азербайджанского, прижимается, рыдая, сначала к одной, потом к другой детской мертвой щеке, передает стоящему рядом офицеру, протягивает руки за следующим мертвым ребенком…
Более десяти лет назад увидела я эту сцену на телеэкране, она и по сей день у меня в глазах и сердце.
Видела ли Галя Старовойтова этот телерепортаж, осталась ли довольна результативностью своих выступлений с высокой трибуны? А затем – доставили ли ей радость и удовлетворение телерепортажи с чеченских полей сражений, была ли она горда, что русская, чеченская, иная ни в чем не повинная кровь льется и там по приказу галантного восточного генерала?..
Конечно: “De mortuis aut bene aut nihil” – “O мертвых – либо хорошо, либо никак”. Мертва Старовойтова, мертв Дудаев, мертвы многие, посеявшие ветер, перешедший в бурю, разметавшую Россию… Всё так. Они мертвы, хотя надеялись, что посеянный ими ветер, ураган обойдет их стороной, разметав, уничтожив, осиротив, обездолив других, многих. Однако их деяние бумерангом ударило и по ним. Увы, от этого не легче: совершенного не обратить, не воскресить тысяч невинно убиенных.
“Сеятели ветра” обычно возражают, что, мол, собственно, ныне ничего и не произошло из ряда вон выходящего: Россию всегда сотрясали бунты, революции, войны. Конечно, как и все прочие страны. Только прежде у войны, у революции был тыл, оставалось и так называемое “мирное население”, “простые люди”, кого воюющие стороны впрямую не трогали. Теперь нет тыла и нет ни у кого защиты. В дружном “советском прошлом” “уличных” политических убийств (не инициированных властью) практически не было. Ну а бытовых тяжких преступлений совершалось также неизмеримо меньше. В уголовном кодексе оставалась смертная казнь, приговоры приводились в исполнение… Да и не только поэтому.
Во время войны я училась в автозаводском техникуме при автозаводе имени Сталина. Начиная со второго семестра первого курса (это были 1942, 1943 годы) у нас проходили “производственные практики”. В механических, сборочных, термических цехах завода, продолжаясь по месяцу, а потом и по два. Обретя рабочее умение там, где нас ставили работать, мы, как и обычные кадровые рабочие, работали так же в три смены: дневную, вечернюю, ночную. ЗИС выпускал не только грузовики, но и оружие, рабочие руки были нужны, рабочих не хватало.
После ночной смены, чтобы не ждать трамвая, не мерзнуть на остановке – трамваи начинали ходить позже, – я шла пешком через всю темную ночную военную Москву. С окраины, с Автозаводской улицы – в центр, домой, на улицу Коминтерна, теперь вернувшую себе исконное название – Воздвиженка. К моему приходу отец успевал протопить буржуйку, вскипятить на ней чай и согреть нашу комнатушку. Уходил на работу. Вынеся жестокую череду крушений своей блистательной карьеры (но оставшись все же живым, свободным, хотя исключенным из партии), отец тогда уже работал на ЗИСе старшим инженером в техотделе. Потому, естественно, и я туда попала.
Так вот: попробуйте ныне пройтись по ночной Москве!.. А мы ходили, не думая, не опасаясь. И никто нас не насиловал, не грабил и не убивал. Голодали, мерзли, одевались в рванье. Вши были у всех – у детей и у взрослых. Тяжко жилось, иногда казалось, непереносимо. Терпели. Вытерпели.
Воры, грабители, убийцы, доступные женщины существовали всегда. И тогда тоже. Только психическое состояние общества, даже самых его низов, было, сохранялось в те поры еще иным, нежели ныне. Сохранялись традиционные представления о необходимости труда, о доброте; сочувствие и жалость к слабому, старому, малому, неимущему.
Той части общества, из которой всегда выходили любители “легкой жизни”, еще не было внушено заинтересованными в том лицами – аккуратно, умело, настойчиво, – что именно эта, преступная часть общества, собственно, и есть элита, центр, главная мозговая, пусть тайная, сокрытая, движущая энергия этого общества. Не было еще внушено всем и каждому чувство ненаказуемости за преступления. Безнаказанности, неподсудности истинного преступника, ибо все продается и покупается, ибо нет чести и стыда. Ныне это свершилось.
Более того, родившийся в последнее десятилетие ушедшего века демагогический вопль разных международных общественных организаций о “правах человека” возникает лишь в тех случаях, когда некоей части “мирового сообщества” необходимо выгородить, увести от кары именно преступника: террориста, бандита, насильника. Аргумент: и у негодяев имеются “права человека”. Тому, увы, бесконечное количество примеров.
У прочих же, обычных, ничем не запятнанных “человеков” никаких таких прав как бы и нет. Покуда эти “человеки” серой своей рядовой массой тихо трудятся и тихо ведут свой ничем не замечательный образ жизни, у “мирового демократического сообщества” повода о них вспоминать нет. А когда “человеков” начинают лишать жизни, имущества, Отечества и “образа поведения” как раз именно те, кому ныне “права человека” гарантированы, то “демократическая общественность” этого не замечает. Напротив, защищает “элиту” – убийц, растлителей, разрушителей: вдруг у неё отберут “права человека”… Создаётся впечатление, что в недалёком будущем завершится, наконец “естественный отбор” и на пространствах “цивилизованных государств” останутся лишь те самые, с “правами человека”. Ну и, конечно, ещё клонированные рабы, производящие то, что необходимо для красивой жизни “правоимущих”.
…Нас, “российских недотеп”, теперь ничем не удивишь. Содеялось скучной обыденкой: доступные девочки вдоль шоссе; кого-то где-то воруют, берут в заложники, держат, получают деньги, лихо, красиво тратят, опять воруют кого-то, под кого-то ложатся, получают деньги, тратят… Ну, убивают кого-то, кто-то от болезней греховных гниет – что с того? Всяко бывает. Никого уже ничем подобным не удивишь, слезу сочувствия либо возглас ужаса, раскаяния не выжмешь…
И не придет уже Мессия, не воскликнет отрезвляюще, призывая к разуму: “Люди! Земляне! Опомнитесь! Разве можно так жить?”
Может, ядерная война вразумит, остановит? Близко уже грядущая?
…И ещё сообщение. Оказывается, Галина Старовойтова признавалась, что ее давняя голубая мечта – однажды проснуться в северной деревне от шума начавшегося ледохода.
Что ж, такая возможность у нее, равно как и у каждого из родившихся в России в середине, начале, последней трети века ушедшего, была. Вполне комфортная по тем временам, даже неплохо оплачиваемая возможность.
Но это была бы иная судьба.
А я этой возможностью, постаравшись, воспользовалась. И этим счастлива.
3. Вот картинка, одна из множества мною в моих скитаниях увиденных, старательно, с натуры запечатленная словом. Сначала в моём путевом блокноте, после пригодившаяся для романа.
“…Пьяно пахнет талым снегом, мокрой землей. Ах, как ходит над тайгою знобкий пьяный ветер, клонит, треплет головы почерневшим за зиму, просыпающимся соснам и пихтам, рвёт с них слежавшийся мокрый снег. Всё пьяно, всё сыро, всё проснулось, не молчит – и общие звуки эти, не смолкая ни на минуту, томят, тревожат, торопят…
Томь несёт сизые грязные льдины, громоздит одна на одну, выталкивает – и, подточив нависший ещё с прошлого ледохода берег, обрушивает его, уносит крошащийся бурым суглинком кусок вместе с кривой пихтой. Так и плывёт стойком, среди сизых льдин, ещё живое, но уже погибшее деревцо. Мокро гудит снег, сползая с незалесенных склонов, ухает взрывом, падая в реку. Томь жадно заплескивает волной на льдину, лижет снег, торопит: “Тай, тай скорее!” И, разбухая от того, что не может вместить всего, что поглотила, вспучивается, выбрасывается на берега, бедокурит, точно перепившая бабёнка: “Ох, держите меня, ох, не могу!” И смотришь, уже идут льдины, неся обломки построек, кубики из-под солярки, мотки троса… А бывает, смятый, словно последняя тряпка, плывёт и человек на льдине…
Гудит Томь, тает снег, развезло зимник. Конец апреля”.
Запись эта относится к тысяча девятьсот пятьдесят шестому году. Сделала я её с натуры, когда жила на Томи, в строительном посёлке Топчул. Строилась там железная дорога Сталинск – Абакан (в нынешнем прочтении Новокузнецк – Абакан). Это была моя первая журналистская командировка в те благословенные, прекраснейшие веси. Начало новой, после работы на заводе, профессиональной жизни. Повторюсь: непростой, негладкой, трудной – и бесконечно счастливой, интересной жизни.
Была тогда я почти на пятьдесят лет моложе, потому и написана картинка с молодым темпераментом. Нынче я то же самое изобразила бы менее цветисто. Впрочем, конечно, в тех краях, где некогда ходили мои ноги, уже всё иное. Иное время, иные пейзажи.
Несколько лет назад меня поразило сообщение в СМИ, что реки и речушки на Сахалине захламлены брошенными старыми машинами!.. Думаю, и Томь, увы, сия беда не миновала…
Словно бы это не родная, любимая, на долгие лета тебе, твоим детям и внукам назначенная земля, а старый двор ненавистного, умершего наконец соседа. Что ж, для тех, кто сейчас на сибирских и других русских просторах переживает “новые времена”, скорее всего всё так и есть…
Ну а я ещё застала, помню сибирские реки, большие и малые, где мой конь, наклонившись, втягивал, хлюпая, воду, пил. И я, свесившись с седла, зачерпывала текучую влагу, пила. Чистые ещё тогда в Сибири были реки.
Прожив жизнь так, как мне того хотелось, я могла бы ещё успеть откусить и от иного, многими и поныне алкомого пирога. Одиннадцать лет назад, в 1989 году, меня выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР.
За депутатский мандат одновременно со мной “боролись” ещё несколько кандидатов, в том числе и господин Лукин, благополучно существующий в депутатском ранге и поныне*. Вместо него, подсуетившись, использовав восхищение моей особой за журналистские и писательские заслуги значительной части тогдашнего общества, могла бы обрести на старости лет лениво-сытное житьё и я. Увы! Тогда это была бы не я…
Съездив единожды на встречу с избирателями в город Серпухов, я больше ни на какие встречи не стала ездить сама. Ездила милая дама, “доверенное лицо”, оправдывавшая моё неприсутствие на встречах моей болезнью. В какой-то степени это было правдой: я поболела, как обычно зимой, гриппом. Но дело заключалось не в этом: увидев приёмы, коими будущий вечный депутат пробивался к успеху, я сообразила, что подобное мне не подходит. Оглядываясь назад, удовлетворенно подтверждаю: была права. Не моя это стезя.
И ещё воспоминание к “теме”…
В тысяча девятьсот девяностом году, на пятый год “перестройки”, меня пригласили в Сицилию, в Палермо, на женский международный симпозиум. У нас на телевидении тогда с успехом шёл сериал “Спрут”, где демонстрировались зверства знаменитой сицилийской мафии…
И вот что я записала 9 марта 1990 года в Палермо:
“…Десять минут назад мне было подарено “палермское впечатление”. Я стояла утром, ожидая своего переводчика, неподалеку от гостиницы, разглядывала живую ещё морскую рыбу на каменном прилавке, выложенную для продажи, на свежие овощи на прилавке рядом – их в эту пору у нас и в Крыму не увидишь. По переулку проехали на мотоциклах несколько молодых парней. Потом кто-то из них оказался рядом со мной, у овощного прилавка. И вдруг раздался крик – такого я ещё не слышала. Толстый невысокий мужчина с круглым лицом согнулся, орал, а эти парни его убивали. Я быстренько пошла на нетвердых ногах к гостинице. Когда спустя полчаса мы с переводчиком шли туда, где должна была состояться конференция, то в переулке снова было людно, на том месте, где человека убивали, где текла кровь, – чисто… “Мафия отношения выясняла”, – пояснил спокойно переводчик…”.
Тогда меня это поразило. Спустя сутки – казалось сном. Ну а нынче? СМИ едва ли не каждую неделю показывают на улицах наших городов убитых рядовых и не рядовых граждан страны, “вырвавшейся, наконец, из-за “железного занавеса” в цивилизованный мир, где торжествует демократия”. Фраза эта в тех же СМИ стала, согласитесь, привычной.
“Змея не замечает, что она кривая. Станешь выпрямлять – ужалит”. Это в Хакасии, в улусе на реке Тёя – что значит “узелок” по-хакасски, – я услышала сей афоризм. В первую мою поездку-командировку в Сибирь в тысяча девятьсот пятьдесят четвертом году. Согласитесь: точно и мудро.
Змея не замечает, что она кривая… Мир не осознаёт, что совершается нынче в нём ежедневно, буднично, страшно…
“Если, допустим, сразу войти в залу жёлтого дома на какой-нибудь вечер безумных, вы, не зная, не поймете этого… Как будто и ничего. А они все безумцы…”.
Недавно какой-то старик пытался сжечь себя на Лобном месте, перед этим курды жгли себя напротив Госдумы. Почему? Зачем? И почему община этих курдов должна проживать под Ярославлем, в бывших пионерских лагерях, а изгнанные из “независимых республик” русские семьи бомжуют на вокзалах?
Господа думцы, всенародно избранные, господин Лукин, почему?
Змея не замечает, что она кривая, станешь выпрямлять, ужалит…
“Одинокое полено не горит…”
1. В тетрадочках моих – пятьдесят с лишним лет ушедшего века, запечатленных субъективно, естественно, однако тем и интересных. Остановленное частное Время. Надо бы их разобрать, объяснить, написать чисто…
Впрочем, не тянет меня за рабочий стол сознание: а кому нынче всё это нужно?.. Реальный интерес пришедшего нам на смену человечества не здесь. Нет уже, умирает интерес к книге, тем паче интерес к серьёзной книге.
К тому, что с кем-то, где-то, долго, просто, обычно было… Вот если убили, совратили, обокрали – тут ещё спрос некий остался. А так – было? Ну и пусть было, мне-то что?
Подобное понимание ненужности моей работы для меня непривычно: всю жизнь то, что я сочиняла, а потом и писала, с интересом воспринималось сначала теми, кто рядом, после круг расширялся, расширился до возможного. Даже на урду были переведены некоторые мои рассказы, не говоря о европейских языках. Для “вечности”, “в стол” писать как-то не умею. Да и зачем? Грозит ли человечеству эта вечность?
Остаётся, конечно, привычка записывать происходящее, чувство, что смысл моей жизни, сколько бы её ни оставалось ещё – в этом: запечатлевать на бумаге то, что слышу в себе, в прошлом, в настоящем. Запечатлеваю…
Упрямство? Предназначение? Бог знает.
Ещё на первом курсе того самого автозаводского техникума я написала стихи, радостно переписанные и заученные моими однокурсниками. Для меня эти стихи (юношеские, слабые!) до сих пор остаются моей позицией жизненной, моим отношением к происходящему со мной.
Мы плыли вперёд,
Крепчал ураган,
И рядом сидел со мной
Весёлый парень, наш капитан,
Товарищ хороший мой.
И он сказал: “По ветру – земля!
Запомним мы наш поход.
Всё проходит – и буря пройдёт.
Тверже, подруга, только вперед
Плывём. Не клади руля!”
Ветер стих, и рассеялась мгла.
И мы пристали к земле.
Но в шутку брошенные слова
Всегда вспоминаются мне.
И если мне в жизни порой не везёт,
Я слышу: “По ветру – земля!
Всё проходит – и это пройдёт!
Тверже, не кисни. Только вперёд
Плывём. Не клади руля!..”
В те поры я ещё не прочла о существовании кольца царя Соломона с надписью: “И это пройдёт”. Опыт трудной жизни, тогда уже у меня имевшийся, подсказал…
Стихи (как и всякий будущий настоящий прозаик!) я сочиняла сызмала. В школе, в техникуме; в Литинститут поступала со стихами. Работая на заводе, стихи печатала в заводской многотиражке “Сталинец”. Состояла в литобъединении при ней.