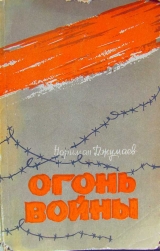
Текст книги "Огонь войны (Повести)"
Автор книги: Нариман Джумаев
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
МСТИТЕЛИ (перевод Ю.Белова)
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Кемал лежал на левом боку, и наверное поэтому сон его был неспокойным и чутким. Когда раздалась команда, он проснулся сразу, как от толчка, и, еще не открыв глаза, стал шарить правой рукой, отыскивая автомат. Но пальцы его наткнулись на что-то мягкое и теплое. Он отдернул руку, еще не понимая в чем дело.
– Ну, ты, малохольный, – беззлобно проворчали рядом.
И сразу жгучая, словно потревоженная рана, мысль вернула его к действительности: плен.
Он лежал с закрытыми глазами. Рядом, на карах, шевелились, просыпались люди, поскрипывали доски под ними, кто-то закашлял, натужно, с надрывом, кто-то выругался.
Так было каждое утро с тех пор, как Кемал, разбив о каску наседавшего на него немца свой замолкший и уже ненужный автомат, перестал быть солдатом. Он никак не мог привыкнуть к тому, что на нем не удобные, по ноге, кирзовые сапоги, а деревянные, сделанные руками военнопленных башмаки, неприятно цокающие при ходьбе, что на шинели с отрезанной полою, сзади, на спине, выведены большие буквы «SИ», что он обязан подчиняться угрюмым конвойным в зеленых мундирах…
Иногда, проснувшись ночью, он прислушивался к храпу и стонам соседей по бараку и с тоской, сжимающей грудь, думал: а, может, это сон? Может быть, никогда и не было той страшной минуты, когда немецкий солдат, увидев его беспомощность, вдруг осклабился и презрительно сказал что-то, наверное, оскорбительное и обидное, а потом ткнул в живот автоматом и приказал идти.
– Живей! Живей! – сноба разнесся по бараку визгливый голос.
Кемал стал накручивать на ноги обмотки, сделанные из кусков шинели, старательно обвязал их бечевкой.
– Слышал? – хрипло спросил его сосед по нарам Хайдар. – Говорят, хлеба нам дадут.
Давно небритое лицо Хайдара казалось мрачным, только глаза на нем горели лихорадочным огнем.
Кемал усмехнулся:
– Опять ты о своем…
Их было больше тысячи, военнопленных в бараке. И все давно уже недоедали. А в последние дни администрация заявила, что американцы разбомбили хлебный завод и что отныне дневная норма ограничивается одной миской супа. Каждый знал, что это такое, лагерный суп: мутная вода с кусочками брюквы.
Тяжело было всем. Но Хайдар, казалось, особенно остро переносил голод, старался любой ценой раздобыть для себя сверх нормы хоть глоток похлебки.
Сейчас он уловил осуждение в словах Кемала. Глаза его забегали. Понизив голос, он сказал:
– Зря ты, Кемал. Жизнь есть жизнь, жевать каждому надо. Закон природы.
Кемал проверил, крепко ли держатся обмотки.
– Знаешь, друг, кроме законов природы есть еще и человеческие, – возразил он, мельком глянув на Хайдара. – Забудешь о них – в животное превратишься.
Глаза Хайдара сузились, губы дрогнули.
– «Человек», «животное»… А если жить хочешь? Понимаешь – жить! А умереть доходягой – это по каким законам? Вон – посмотри.
Между нарами, едва передвигая ноги, брел человек с землистым помертвелым лицом. В глазах его уже не было мысли, они смотрели перед собой покорно равнодушно.
– Так что ж, по-твоему, дави каждого, лишь бы выжить, а остальные пусть подохнут? – с раздражением сказал Кемал.
– А почему я должен заботиться о других? – взгляд Хайдара был злобным. – Ты обо мне позаботишься? Умничать легко…
Он тяжело слез с нар и направился в угол, где толпились, переговариваясь и жестикулируя, несколько человек. Это был «базар», где за пайку хлеба можно было выменять немного махорки, обмотки или даже обломок лезвия бритвы.
Подойдя к толпе, Хайдар достал из кармана серый мешочек.
– Есть табак, – негромко произнес он. – Настоящий, румынский. Щепотка табака – пайка хлеба. Есть настоящий, румынский…
Несколько человек, страдающих от отсутствия курева сильнее, чем от голода, сгрудились вокруг Хайдара. Он уже развязал мешочек, как вдруг, оттерев кого-то плечом, протиснулся к нему Кемал.
– А ну постой, – сдерживая нарастающий гнев, сказал он. – Я видел вчера – этот табак ты набрал из окурков. Так что ж ты обманываешь товарищей?
Стоящие вокруг настороженно молчали.
Хайдар вскипел.
Кемал протянул руку.
– Давай сюда. За все получишь две пайки.
– Здесь на двенадцать, – дрогнувшим голосом возразил Хайдар, понявший, что богатство уплывает из рук и он уже не в силах вернуть его.
– Хватит и двух, – спокойно сказал Кемал.
И раскрыл мешочек:
– Закуривайте, ребята.
К нему потянулось несколько худых дрожащих рук.
Кемал сшил из второй полы шинели ушанку. Получилась она не ахти какая, но все же грела голову, и Кемал с удовольствием осматривал ее. Потом окунул щепку в жидкие чернила и вывел на шапке звезду.
Второй его сосед по нарам, Никодим Арсентьевич, ужаснулся:
– Да ты что, спятил? Жить надоело?
– А что? – притворился наивным Кемал.
Никодим Арсентьевич боязливо оглянулся. Сказал сквозь зубы:
– Дура! И сам в петлю угодишь, и нас под монастырь подведешь.
Кемал улыбнулся в ответ.
– Ну повесят меня. А вам-то что?
Никодим Арсентьевич покачал головой.
– Опять же скажу: дура. Войне-то скоро конец. А тут ни за что, ни про что голову сложишь. Терпи, раз уж так вышло…
– Ну, уж нет, – запальчиво возразил Кемал, – если не сбегу, то здесь покажу фашистам, что такое советский солдат.
Никодим Арсентьевич даже руками замахал, боязливо отодвигаясь и оглядываясь.
– Прямо сумасшедший, – пробормотал он, но тут же посмотрел на Кемала, и в его взгляде была не только боязнь. – Ты думаешь я… Я ведь тоже не собирался засиживаться, а вот – почитай всю войну по лагерям скитаюсь. Три года – стаж! Всякое повидал. Покрепче тебя были люди, а где они теперь?.. А ты – звездочку на шапку. Одно слово – дура.
– Так ведь люди увидят – воспрянут духом, – стоял на своем Кемал.
Никодим Арсентьевич снова покачал головой и молча отвернулся.
Странный человек этот Никодим Арсентьевич. Он то притягивал к себе, казался мудрым и добрым, и тогда Кемал думал, что нашел верного товарища, то отталкивал своей мелочной суетливостью, боязнью хоть на полшага переступить запретную черту внутреннего распорядка лагеря. Нет, – говорил себе Кемал, – нам с ним не по пути. Мясорубка плена перемолола в нем человеческое достоинство, он, как и Хайдар, мечтает лишь об одном – выжить, любой ценой выжить. Такой и предать может.
Кемал тряхнул головой: э, черт с ним! Лихо заломил самодельную ушанку и спрыгнул с нар. Он не спеша шел по проходу и, заранее радуясь тому впечатлению, которое должен был произвести, оглядывался по сторонам. Вот сейчас кто-нибудь увидит его звездочку, ахнет от удивления, толкнет соседа – смотри, мол, вот отчаянный парень!
И вдруг его взгляд остановился на зеленой артиллерийской фуражке: над козырьком, там, где ей и положено было быть, сияла совсем новенькая с неповрежденной эмалью, звездочка, с серпом и молотом в центре.
Кемал в растерянности остановился, стал пристальнее вглядываться и увидел, что у многих на шапках и фуражках были прикреплены звездочки – настоящие военторговские или вырезанные из жести.
Сердце забилось у Кемала гулко, радостно. Значит, не он один, значит, много здесь таких, которые не перестали считать себя советскими солдатами! Значит, и верно – скоро конец войне, если немцы смотрят на все это сквозь пальцы!
Конец войны…
Он так ждал этого, знал, что победа придет, что ока близка, но только сейчас вдруг с особой остротой понял: фашистской Германии скоро конец.
Лязгнул засов, заскрипела дверь. В барак внесли завтрак.
Никодим Арсентьевич получил маленькую буханку хлеба на десятерых, торжественно понес ее к нарам. И он сам, и те девять, что шли с ним рядом, не сводили с буханки глаз, судорожно глотали слюну, и кадыки их под заросшими щетиной подбородками двигались вверх-вниз, вверх-вниз.
Делить хлеб Никодим Арсентьевич умел, – когда на самодельных весах взвесили нарезанные им пайки, то они оказались совершенно равными.
– Силен мужик! – восхищенно сказал кто-то. – Кончится война – иди в магазин работать или на склад за-место весов.
Никодим Арсентьевич разделил свою пайку на маленькие ломтики и медленно жевал каждый, закрыв глаза и испытывая несказанное удовольствие. Какое это счастье, что на свете есть хлеб, пусть даже такой, липкий, пополам с опилками… Жаль только, что, как ни тяни, а кусочков становится все меньше…
Если голодный поест хоть немного, веселеет душа у него, и жизнь кажется не такой мрачной и безрадостной.
Вот уже пошли разговоры о том, о сем…
– Эх, братцы, а ведь, как ни крути – войне-то конец скоро!
– Это точно.
– Сижу вот и думаю: а что я в гражданке делать буду? Из автомата стрелять я, положим, умею, окоп вырыть тоже могу. Ну, самокрутку скрутить еще. А в мирное время?
– Вот самокрутки и будешь крутить.
– Ха-ха, после войны мы на папиросы перейдем.
– Эх, скорее бы домой! А там и специальность получишь, и работу по душе найдешь.
– Далеко однако до дому…
Никодим Арсентьевич лёг на спину, устало прикрыл глаза. Ему не было еще и сорока, но три года плена сделали свое дело – он постарел лицом, волосы на голове поредели, пробилась седина, в глазах, казалось, навсегда затаилась скорбь. И люди годами старше его называли Никодима Арсентьевича папашей или батей, а то и грубовато – паханом.
Он лежал, прислушивался к разговорам и думал.
Люди все больше говорили о близкой свободе, а он боялся вслух произнести это слово, – казалось, что в миг рухнут надежды, которыми жил столько лет, если осмелится распрямить плечи, поднять голову, смело взглянуть на мир. Нет, надо терпеть, смириться и терпеть до конца. До какого конца? Он и об этом боялся думать. Все равно, лишь бы прожить еще один день, еще одну ночь, встретить утро с надеждой, что оно не последнее…
Он украдкой пощупал карман, пришитый с внутренней стороны шинели, – там хранил он заветные хлебные кусочки, по одному от каждой пайки. По опыту знал – всякое может случиться, а пока есть запас – не пропадешь.
Он сел, свесил ноги, посмотрел, не наблюдают ли за ним, потом сказал, как бы сам себе:
– Ах, черт бы его побрал, уронил!
И, кряхтя, полез под нары.
Он ничего не ронял, но эту маленькую хитрость считал необходимой: для того, чтобы сохранить в тайне истинную цель своего ползания под нарами.
Он медленно полз по холодному земляному полу, и узкие полосы света, падавшего сквозь щели, плыли под ним, слегка кружа голову. Он щурил глаза, стараясь отыскать неосторожно оброненную кем-нибудь крошку. Иногда это ему удавалось, и он тут же, обдув, отправлял ее в рот.
Голоса сверху доносились глухо и невнятно, да он и не прислушивался к ним, увлеченный своими поисками. Заботился только об одном – чтобы не шуметь, не привлечь к себе внимания. Стыдно все-таки попасться за таким занятием.
Вдруг до его сознания дошли слова, от которых похолодело сердце.
– …и перебьют всех до единого.
Это был голос Супрунова.
Ему ответил Каджар:
– Это точно?
– Из верного источника. Объявят эвакуацию лагеря, поведут к лесу, а там… – Супрунов защелкал языком. – Говорят, там уже пулеметы выставлены. Так что не сегодня – завтра.
– Да-а… Надо потолковать с ребятами.
Они задвигались, поползли к краю, стали слезать с нар.
А Никодим Арсентьевич все стоял на четвереньках, замирая от страха. В голове его, как птица, вспугнутая в ночи, забилось слово: смерть, смерть, смерть…
Он не мог больше ползти и прилег, прижался пылающей щекой к земле.
Не сегодня – завтра…
За три года он всякого насмотрелся, пережил столько, что в иное время хватило бы на все тридцать лет. Но смерть обходила его стороной. Тысячи людей, с которыми допелось ему делить на десять частей буханку хлеба, уже давно ушли из жизни. Их поглотили печи крематориев или общие могилы. А он все жил, жил, жил и заботился только об этом – жить!
И вдруг – не сегодня, так… Пусть даже послезавтра, через неделю – но смерть. Их поведут к лесу, а там пулеметы…
Он много раз видел, как падали скошенные пулеметными и автоматными очередями люди. Видел, а теперь сам…
Как же так? Перенести столько нечеловеческих мук, выжить в самые страшные годы, а накануне освобождения, перед самым концом войны упасть на опушке какого-то леса и остаться здесь навсегда.
Нет! Он не пойдет на смерть! Он и сейчас должен остаться в живых, во что бы то ни стало остаться в живых, вернуться домой, увидеть поле в ромашках, услышать жаворонка в голубом небе, ступить на скрипучее крыльцо родного дома…
Он снова встал на четвереньки.
Пойти к немцам и сказать. Этим все равно умирать, а он будет жить. Супрунов и Каджар… и Кемал тоже… Трое – это заговор. Трое – это хорошая цена за жизнь.
Никодим Арсентьевич выполз из-под нар, огляделся, пошел не спеша по проходу.
Теперь он иначе смотрел на знакомых людей. Грустные, веселые, «доходяги», новички – все они были обречены. И тот, что латал щинель, и тот, что дремал, прислонясь к деревянной стойке, и тот вон, который перематывает портянки…
Никодим Арсентьевич шел между нарами, слышал обрывки фраз, вдыхал тяжелые запахи пота давно не стиранного белья, эрзац-кофе, который давали пленным по утрам, – шел и видел дверь. Деревянную, грубо сколоченную из неструганных, потемневших от времени досок. Там, за этой дверью, было его спасение.
– Никодим Арсентьевич!
Он вздрогнул и оглянулся. К нему подходил Супрунов.
«Узнал, что я подслушал? Тогда – конец», – подумал Никодим Арсентьевич и по привычке втянул голову в плечи.
– Говорят, у вас есть сахар, – виновато улыбнулся Супрунов. – Понимаете, какое дело. Товарищ у нас заболел, так вот… нам только пару кусочков. Вы не думайте, обменяем на хлеб.
Нет, Супрунов ни о чем не догадывается. Да и вообще очень спокоен, застенчив даже. Странно. Если он знает о близкой смерти, то не может быть таким спокойным. А если не он тогда говорил? Бывают же похожие голоса…
– Ну, так как, папаша? Уступите? Для больного ведь.
Сахар Никодим Арсентьевич зашил в полотенце, обмотал его вокруг пояса под нательной рубахой, и чтобы достать его, надо было идти в укромное место и там добираться до потайного кармана.
– Ну, что ты, Супрунов! – он попытался изобразить на лице улыбку. – Я ведь сладкого не люблю. На хлебушек давно выменял. Уж поверь – для больного не пожалел бы, понимаю ведь.
И тут Никодим Арсентьевич увидел Каджара. Тот разговаривал с Кемалом и смеялся чему-то, закидывая голову.
Сомнение закралось в душу Никодима Арсентьевича.
А был ли вообще этот разговор о расстреле? Может быть, говорили вовсе не о себе, а так – рассказывали давнюю историю, а ему померещилось бог знает что… Или это такие люди, которым сам черт не брат. Есть же презирающие смерть. Встречал таких, видел, как умирали, слышал их последние слова. Будто бы привычные, много раз слышанные слова, а так они звучали за секунду до автоматной очереди, что трепетала душа и, казалось, сам готов на что угодно ради святой, своей родимой земли.
Он вдруг представил, как встанут на краю свежей могилы Супрунов, Кемал и Каджар, как вскинут они голову перед нацеленными в грудь воронеными стволами и кто-то, может быть Супрунов, крикнет такие вот, берущие за сердце, навсегда остающиеся в памяти слова. И он вздрогнул, будто стал уже свидетелем этого. И еще потому, что вдруг спросил себя; а я?
И ему стало страшно.
Три года он боролся за жизнь. Рылся в вонючих отбросах, ползал под нарами, подбирая крошки, унижался, выпрашивая добавку и откладывал по кусочку, по корочке на черный день, хотя каждый день был для него черным. Знал: пойти в доносчики – и будешь всегда сыт. И не шел.
А теперь?
Никодим Арсентьевич еще раз посмотрел на дверь, задержал взгляд на крупных проржавленных гвоздях, вздохнул и пошел обратно. Забравшись на нары, он лёг лицом вниз и затих.
Было еще темно, когда их выстроили по плацу, перед бараком, для утренней проверки. Кемал достал из-за ворота номерок. Он висел на шнурке, как талисман, но не приносил, не мог принести счастья, не мог уберечь от бед, спасти от смерти. Это был единственный документ, удостоверяющий, что ты военнопленный № 1438248. Можно забыть фамилию, имя, которое дали тебе родители, а этот номер надо помнить всегда. Так ему объяснили в тот день, когда привезли в лагерь.
– Все, что нужно знать о тебе, сохранит бумага, сам ты должен помнить только вот этот номер. Итак, место рождения?
– Ленинград, – сказал Кемал.
Русский писарь вскинул на него глаза.
– На какой улице жил?
– На Кемине.
Писарь хмыкнул, пожал плечами:
– Несколько лет жил в Ленинграде, а такой улицы не знаю.
Однако Кемал не соврал. Он в самом деле родился в «Ленинграде» – так назывался колхоз в долине Аму-Дарьи. Но уточнять эту деталь не имело смысла. Ленинград – и все. Тем более, что ленинградец звучит гордо.
Для своих, конечно. У немца же, который вел регистрацию вновь прибывших, при упоминании города задергалась щека. Кемал со злорадным чувством подумал тогда, что он, наверное, воевал под Ленинградом.
Утренняя проверка окончилась. Пленных группами отправили на работу. Кемала, Каджара, Хайдара и Никодима Арсентьевича послали в город – расчищать развалины после ночной бомбежки.
Двое молчаливых, уже в летах, конвойных вывели их за ворота. По мощеной мостовой гулко били деревянные подошвы. «Словно скелеты идут» – невесело подумал Кемал.
Они шагали по немецкой земле и жадно смотрели вокруг. Глаза искали что-то такое, что вызвало бы ненависть, гнев, презрение. Но ни влажная от недавнего дождя земля, ни рощица вдали, ни серое утреннее небо не вызывали этих чувств.
За рощицей открылся город. «А ну, – подумал Кемал, – посмотрим, лучше ли он нашего Чарджоу?» И вдруг удивился, отметив, что не испытывает к этому немецкому городу ничего, кроме любопытства.
Улицы были узкие. Кирпичные островерхие дома с обеих сторон жались один к другому. Там, за еще закрытыми ставнями, шла своя, незнакомая пленным жизнь, были люди, которых они считали врагами. Но эти люди не были солдатами и не вызывали той ненависти, которую питали пленные к серо-зеленым шинелям. И мысли у идущих были мирные. Кемал подумал, что живут здесь тесно, не в пример нашему, – и вздохнул, вспомнив родное приволье, каракумские бескрайние просторы.
Попадались разрушенные дома. Но улицы возле них были чисто убраны. Значит, еще не часто бомбили город.
Хайдар нагнулся и поднял что-то с мостовой. Кемал больно сжал его руку в локте.
– А ну, брось! – с закипающей злостью сказал он.
Хайдар с сожалением разжал пальцы, и примятый окурок упал им под ноги.
Хлопали ставни. Стали попадаться прохожие. Небо светлело, и дома, словно просыпаясь, становились веселее.
– Что идешь, как на похоронах? – сказал Кемал Хайдару. – Окурки высматриваешь? А на тебя немцы смотрят. Выше голову! Пусть знают, какие мы есть. И рот не разевай – не туристы ведь.
Хайдар проворчал что-то, но пошел веселей.
Тесные улочки вдруг расступились, открылась просторная площадь. За ней потянулась тихая улица с аккуратными домиками. Во дворах – фруктовые деревья.
У одного из таких домов остановились. Конвойный ушел, но вскоре вернулся и жестом приказал входить.
Во дворе было тихо. Пленные сразу увидели слегка дымившиеся развалины, – видимо, совсем недавно на этом месте стоял дом. Теперь же от него осталась часть стены с голубыми обоями и чудом уцелевшей картинкой в золоченой раме, да груда битого кирпича и штукатурки.
Неслышно подошел немец, наверное, хозяин или управляющий, – плотный, с брюшком и плешиной, в крагах, брюках галифе и военном мундире без погон. Он стал что-то быстро говорить, поблескивая стеклами пенсне и указывая на развалины. При этом под носом у него шевелились усики, подстриженные, как у Гитлера.
Один Каджар кое-как понимал по-немецки и перевел:
– Говорит, человека завалило во время бомбежки. Надо откопать. Хотят похоронить, как положено.
Плешивый немец показал, где взять инструмент.
Кемал выбрал себе удобный, не очень тяжелый лом и, прикинув его в руке, вдруг словно обжегся мыслью: а ведь это оружие!
Он краем глаза посмотрел на конвойных. Старики уже тотальные. Ничего не стоит стукнуть ломом по голове, завладеть автоматами и тогда…
У него даже дух захватило.
Но солдаты оказались не такими уж простаками. Один из них, ефрейтор, в очках с толстыми стеклами, поймав взгляд Кемала, снял с плеча автомат и сказал что-то второму, кривоногому, с острым морщинистым лицом. Тот тоже взял автомат на изготовку и присел в сторонке, внимательно присматриваясь к пленным.
Принялись за работу. Кирками, ломами раскалывали глыбы, откапывали, освобождая проход вниз. Известковая пыль щекотала ноздри, оседала на взмокших лбах.
Кемал тихо сказал Каджару по-туркменски:
– Слушай, а что если прихлопнуть конвойных и дать ходу?
Каджар, вогнавший кирку в щель, не разгибаясь, посмотрел на него снизу вверх.
– А куда побежишь – думал?
Кемал присел возле него, заговорил с жаром:
– Да разве мало развалин в городе? Спрячемся, переждем до темноты, а там ищи-свищи.
– А с собаками ты никогда дело не имел?
– Так у нас же автоматы будут – перебьем.
– Не так просто, Кемал, – Каджар положил ладонь на его колено. – Вреда от такого дела будет больше, чем пользы. И сами не спасемся, и товарищей подведем.
Они не заметили Хайдара, который подошел и слушал.
– Ой, не доведешь ты нас до добра, Кемал, – испуганно прошептал он. – Подумай, что предлагаешь.
– А что – ерунду предлагаю? – разозлился Кемал. – Сражаться предлагаю! А трусы пусть не мешают.
– Аг, ну тебя, – обиделся Хайдар. – Заваришь кашу, а расхлебывать всем придется.
Он отошел, а Каджар сказал серьезно:
– Смотри, Кемал, не наделай глупостей. Без меня ничего не предпринимай. Понял?
– Ладно. – угрюмо буркнул Кемал и с силой ударил ломом по обломку стены.
К ним подошел весь покрытый пылью, но таинственно улыбающийся Никодим Арсентьевич.
– Ребята, – оглянувшись, негромко позвал он. – Смотрите – картошка. На темных его ладонях лежали темные обгорелые комки.
– А ну? – Каджар разломил картофелину, откусил, улыбнулся. – Подгорела малость, но пойдет. Где взяли?
– Там подвал, – захлебываясь от радости, возбужденно заговорил Никодим Арсентьевич, – картошки уйма! Видно, пожар был, обгорела, но внутри хорошая!
Кемал, почти не очищая, жадно съел несколько картофелин.
– Чарджуйские яблоки, а не картошка! – восхищенно сказал он. – Заберем, сколько сможем. Ребят в бараке угостим.
– Там, в этом подвале, может, еще что есть? – спросил Каджар.
– Не знаю, – виновато развел руками Никодим Арсентьевич, – темно очень. С краю пошарил – картошка. А дальше не пролезть, завал.
– Не беда, – улыбнулся повеселевший Кемал, – пробьем дорогу. Покажите – где.
Они осторожно стали расширять лаз.
Когда пленные сели передохнуть, остроносый конвоир подошел поближе, остановился – ноги калачиком – и, показав пальцем на Кемала, спросил что-то по-немецки. Его и без того изборожденное морщинами лицо стало при этом совсем сморщенным, и нельзя было понять, улыбается он, сердится или просто собирается чихнуть.
– Спрашивает: сколько лет? – перевел Каждар.
– О! – неопределенно сказал немец, узнав, что Кемалу всего восемнадцать, и посмотрел на него долгим взглядом.
«Считает мальчишкой», – с обидой подумал Кемал и вдруг вспомнил, что собирается убить его и что, не будь Каджара, морщинистый старик уже лежал бы где-нибудь в развалинах с проломленным черепом.
«Ничего, – подумал Кемал, – повоевать мне довелось и еще наверняка придется. Фрицев на мой век хватит».
– Не смотри, что молод, – развеселившись, сказал он конвоиру. – Я уже и повоевать успел.
Немец не понял и засмеялся.
Тогда Кемал встал, вскинул руки, будто прицеливался из автомата, сделал страшные глаза и крикнул:
– Фашист – та-та-та-та! Ферштейн? – это слово он уже знал, так же, как «хальт», «хенде хох», «шнель».
Морщины на лице солдата чуть разгладились, взгляд стал серьезным.
– Их нихт фашист, – негромко сказал он.
Кемал понял и засмеялся:
– Ишь ты! Отказываешься, значит? Почуяли, что жареным запахло! Гитлер капут – поэтому нихт?
– Их нихт фашист, – упрямо повторил немец, не отведя взгляда от озорных глаз Кемала.
– Ладно, кончай, – примирительно сказал Каджар, поднимаясь. – Давай работать.
Проход в подвал был готов.
– Давайте, я первый, – сказал Кемал и повернулся к Каджару:
– Дай зажигалку.
Ступени круто шли вниз. Под ногами дробилась и осыпалась битая штукатурка. Зажигалка то и дело тухла. Не хватало только сорваться и сломать себе шею.
– Ну, как? – услышал Кемал нетерпеливый голос Никодима Арсентьевича.
– Да погодите вы, – с раздражением ответил Кемал. – Ни черта не видно.
Он снова щелкнул зажигалкой. Желтое дрожащее пламя выхватило из темноты полки, заваленные отрезами какой-то материи. Кемал даже остановился, пораженный. Ох, ты, вот живут люди! Небось свой магазин имеют. Или так – на черный день.
Ступеньки кончились, и он, пригнувшись под нависшим сводом, шагнул к полкам. Протянул руку к отрезу и тут же отдернул ее, – пальцы наткнулись как бы на кучу легкой пыли, от прикосновения ткань бесшумно рассыпалась прахом. Видно, все это богатство опалило жаром.
– Буржуи проклятые, – проворчал Кемал и стал осматриваться, отыскивая съестное.
Никодим Арсентьевич пролез в щель где-то правее входа, там и должна была быть картошка. Кемал сделал несколько шагов вправо и увидел то, что искал: куча припорошенных известью картофелин лежала под проломом у самой стены подвала.
– Есть! – крикнул обрадованный Кемал, снял свою кургузую шинель, потом гимнастерку, завязал рукавами ворот и стал набивать ее картошкой. Шинель он надел поверх нательной рубахи.
– Вот, – тяжело дыша сказал Кемал, передавая набитую картошкой гимнастерку товарищам. – Будем возвращаться, разложим по карманам, угостим наших.
Он сказал «нашим» и сразу вспомнил товарищей по стрелковой роте, воюющих сейчас где-то, и знакомую полевую кухню, и знаменитую кашу, которой славился повар Пахомов, которого все называли почему-то Пахомычем. Сердце сжалось от минутной тоски. Эх, сейчас бы вместе с ними, пусть даже в самом жарком бою, в пяти шагах от смерти… «Лучше бы убило меня тогда, – с болью подумал Кемал, вспомнив, как попал в плен. – А то оглушило, и очутился среди врагов». Но он тут же поправил себя: не среди врагов, а среди своих товарищей, оказавшихся по несчастью в плену. И улыбнулся: какое это чудесное слово – товарищ…
Здесь, за колючей проволокой, под дулами автоматов, они в подавляющем большинстве своем оставались верными законам армейского товарищества, жили по принципу, который приняли сердцем: сам погибай, а товарища выру-чай. В душе они оставались солдатами, пусть даже безоружными, готовыми в любой момент пойти в смертельный бой. Собственно, они и вели этот бой, невидимый, тайный, но не менее опасный бой с лютым врагом. Даже такие, как Никодим Арсентьевич, которых сломил страх, все-таки не шли на предательство, оставались верными солдатскому долгу в этих страшных условиях лагерной жизни и смогут прямо глянуть в глаза своим, когда они придут. Даже Хайдар… Впрочем, с Хайдаром надо было еще разобраться, он не внушал доверия, и к нему все еще приглядывались.
– Чем же занимается хозяин дома? – услышал Кемал голос Никодима Арсентьевича.
Каджар спросил конвойных по-немецки. И уже по тому, как посерьезнели лица конвойных, Кемал понял, что фашист занимается отнюдь не торговлей тканями.
– Этот тип, – сказал Каджар, сдвинув брови, – делает передвижные газовые камеры.
– Душегубки? – голос у Кемала дрогнул.
Каджар кивнул.
В это время в глубине сада показалась знакомая плотная фигура хозяина. Немцы заметив его, вскочили и хрипло закричали на пленных:
– Лос! Лос! Шевелись!
Застучали ломы и кирки.
Немец подошел, остановился, широко расставив ноги в начищенных ботинках и крагах, и заложил руки за спину. Стекла пенсне отсвечивали, и глаз было не видно. Он молчал, но его гитлеровские усики недовольно шевелились.
В это время из подвала с трудом, боком, вылез Хайдар. Он не удержался, решил сам посмотреть, что хранится внизу, и теперь, не видя еще хозяина, радостно заговорил:
– Вот, братцы, где…
Он стоял на четвереньках и отряхивал шинель. И тут увидел блестящие краги. Он медленно, наполняясь страхом, стал поднимать голову и встретил стеклянный взгляд фашиста. Не вставая с колен, Хайдар протянул к нему руку и разжал черную ладонь, на которой лежала обгорелая картофелина. Говорить он не мог и только замотал головой, стараясь, видимо, показать, что ничего дурного он не сделал, только достал эту картофелину…
Немец молча шагнул к нему и сильно ударил кованым ботинком в лицо.
Хайдар всхлипнул и повалился навзничь, обливаясь кровью. Теперь он видел только ноги, обутые в блестящие краги, и, теряя власть над собой, закричал:
– Не убивайте! Я не виноват! Я сдался добровольно, я буду служить вам…
Но немец уже уходил своей твердой размеренной походкой.
Никодим Арсентьевич нагнулся, над Хайдаром, поднял его голову, стал вытирать тряпкой окровавленное лицо.
Хайдара бил озноб. Он всхлипывал и смотрел вокруг глазами, из которых медленно уходил страх.
– Хайдар! – позвал Кемал. – Ты что, правду сказал?
Хайдар остановил на нем непонимающий взгляд.
– Ну, то, что добровольно сдался в плен, – пояснил Кемал, напряженно ожидая ответа.
Хайдар вдруг вырвался из рук Никодима Арсентьевича и сел.
– Отвяжись! – истерически закричал он. – Умник! Праведник! Учить меня будешь?
– Оставь его. Знаешь, у русских есть поговорка: «Не тронь… вонять не будет». Потом разберемся.
Придя а себя, Хайдар пожалел о случившемся. Немец все равно ничего не понял, а перед своими он себя разоблачил. «Поди, докажи теперь, что не добровольно сдался. Надо было сразу сказать, что просто так сболтнул, от страха, чтобы немца обмануть, а я вместо этого накричал на Кемала».
Хайдар со злостью вгонял в трещину лом и раскачивал глыбу. Тревожные мысли не давали ему покоя.
Как быть теперь? В лагере ему не поздоровиться, это ясно. Среди немцев действует антифашистская организация, предателям они не прощают. Запросто могут придушить ночью… А что, если пойти к эсэсовцам?
Он даже оглянулся тайком, словно боялся, что прочтут его мысли. Но никто не обращал на него внимания.
– Лос! Шевелись!
Снова по песчаной дорожке шел к развалинам хозяин.
– Работай! Работай, ребята! – закричал Хайдар, холодея от ужаса. – Лос!
Кемал стоял на уцелевшей стене. Собственно, делать ему здесь было нечего, взобрался он на стену с единственной целью получше осмотреть двор. Он мог спрыгнуть, но в последний момент решил остаться, гордость не позволила показать свой страх перед фашистом.
Немец шел не спеша, тяжело печатая шаг. На этот раз он даже не взглянул на пленных, направляясь к воротам. Может быть, ему позвонили по телефону, и теперь он шел по важному делу, которое занимало его целиком.
Он поравнялся со стеной, и Кемал сверху увидел его светлую плешину, два блеснувших стеклышка пенсне, скрепленные золотой дужкой на крупном носу. И словно что-то толкнуло Кемала. Он не успел ничего подумать и даже почувствовать, – просто нагнулся, взял почти целый кирпич и со всей силы бросил его вниз.








