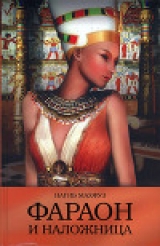
Текст книги "Фараон и наложница"
Автор книги: Нагиб Махфуз
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Прощание
Ладья плавно устремилась вниз по течению в сторону острова Биге, в его каюте лежал паланкин с бесценным грузом. Лекарь встал у головы фараона, а Таху и Софхатеп – у его ног. Впервые на барже царило горе, она везла дремавшего, отдавшегося воле судьбы повелителя, над его лицом парила тень смерти. Оба советника молчали, они стояли, не отрывая глаз от бледного лица фараона. Время от времени он открывал отяжелевшие веки и смотрел на них, затем снова беспомощно закрывал глаза. Судно приближалось к острову и наконец причалило к основанию ступеней, ведущих к саду золотого дворца.
Таху наклонился и шепнул Софхатепу на ухо:
– Пожалуй, одному из нас следует войти первым, чтобы этой женщине было легче перенести столь тяжелый удар.
В этот страшный час чувства других потеряли значение для Софхатепа, и он резко сказал:
– Поступай, как считаешь нужным.
Однако Таху не сдвинулся с места. Пребывая в смятении и нерешительности, он проговорил:
– Это страшная весть. Кто же осмелится сообщить ее этой женщине?
Софхатеп решительно ответил:
– Чего ты испугался, командир? Тем, кого постигло такое испытание, как нас, не время думать о предосторожностях.
Сказав эти слова, Софхатеп спешно покинул каюту, поднялся по ступеням к саду и по тропинке достиг пруда, где рабыня Шейт преградила ему дорогу. Рабыня не ожидала такой встречи, ибо видела его очень давно. Она открыла рот, собираясь заговорить, но он опередил ее и выпалил:
– Где твоя хозяйка?
– Моя бедная хозяйка, – заговорила та, – сегодня не может найти покоя. Она ходила по комнатам, блуждала по саду до тех пор, пока…
У Софхатепа иссякло терпение, и он прервал ее:
– Женщина, где твоя хозяйка?
– В летнем павильоне, сударь, – ответила рабыня, сильно обидевшись.
Софхатеп поспешил к летнему павильону, вошел и откашлялся. Радопис сидела в кресле, обхватив голову руками. Почувствовав, что кто-то вошел, она обернулась и тут же узнала его. Она резко вскочила, ее охватили тревога и дурные предчувствия.
– Первый министр Софхатеп, где мой повелитель? – спросила она.
Софхатеп был столь удручен, что ответил, словно во сне:
– Он скоро явится.
Она радостно прижала руку к груди и восторженно сказала:
– Как я волновалась за своего господина. До моих ушей дошла новость о страшном бунте, затем я больше ничего не слышала и осталась наедине с собой, мое сердце терзали мрачные опасения. Когда явится мой повелитель?
Тут Радопис вдруг вспомнила, что фараон не имел обыкновения посылать к ней кого-то перед своим приходом, и ее снова охватила тревога. Прежде чем Софхатеп успел что-либо сказать, она спросила:
– Но почему он прислал тебя?
– Терпение, моя сударыня, – бесстрастно ответил первый министр. – Меня никто не присылал. Горькая правда заключается в том, что мой повелитель ранен.
Последние слова казались ей жуткими, окрашенными в кровавый цвет, и она с ужасом уставилась на опустошенное лицо первого министра. Из глубин ее существа вырвался жалобный стон. Софхатеп, чьи чувства притупило горе, сказал:
– Терпение, терпение. Моего повелителя принесут в паланкине, как он того желал. Стрела поразила его в этот осененный предательством день, который начался с праздника и завершится ужасным погребальным обрядом.
Радопис не могла оставаться здесь ни мгновения дольше и выпорхнула в сад, как цыпленок, которого собираются забить. Но, едва выйдя за дверь, она застыла на месте, ее глаза впились в паланкин, который рабы несли к ней. Уступая им дорогу, она прижала руки к голове, которая кружилась от этого ужасного зрелища. Радопис вошла следом за рабами. Те осторожно опустили паланкин посреди летнего павильона и удалились. Софхатеп тут же последовал за ними, в павильоне остались он и она. Радопис подбежала к паланкину, встала перед ним на колени, сцепила пальцы и начала заламывать руки от беспросветного отчаяния. Она вглядывалась в его печальные и медленно угасавшие глаза. Радопис начала задыхаться, ее блуждающий взгляд остановился на том месте, где стрела вошла в грудь. Она заметила пятна крови, торчащую из груди стрелу и содрогнулась от невыразимой боли. Радопис воскликнула голосом, прерывавшимся от боли и ужаса:
– Тебя ранили. О, какой ужас!
Фараон лежал неподвижно. Он то приходил в сознание, то терял его. Он утомился и обессилел. Короткое плавание отняло у него последние силы, которые быстро таяли. Однако когда фараон услышал ее голос и увидел любимое лицо, в нем шевельнулось едва заметное дыхание жизни, и тень смутной улыбки тронула затуманенный взор.
Радопис почти никогда не видела фараона безразличным, жизнь бурлила в нем и стремилась найти выход, словно порыв ветра. Она чуть не обезумела, видя его таким. Казалось, будто он давно иссох и состарился. Горящими глазами Радопис посмотрела на стрелу, которая привела к этому несчастью, и поморщилась от боли.
– Почему стрелу не извлекли из груди? Позвать лекаря.
Фараон собрал остатки иссякавших сил и слабым голосом ответил:
– Это бесполезно.
В ее глазах мелькнуло безумие, она упрекнула его.
– Бесполезно, любимый? Как ты можешь говорить так? Разве наша жизнь для тебя больше ничего не значит?
Испытывая страшную усталость, фараон протянул руку, коснулся ее холодной ладони и шепнул:
– Это правда, Радопис. Я прибыл умереть на твоих руках в этом дворце, который мне дороже любого другого места в мире. Не печалься о нашей судьбе, лучше подбодри меня.
– Мой повелитель, ты сам принес мне весть о своей смерти. Что за ужасный вечер приготовила судьба? А я ждала его, мой любимый, сгорая от страсти, соблазненная надеждой. Я мечтала, что ты придешь с вестью о победе, а ты принес мне эту стрелу. Как я могу подбодрить тебя?
Фараон с трудом сглотнул и молил ее голосом, больше напоминавшим стон:
– Радопис, забудь о страданиях и приблизься ко мне. Я хочу заглянуть в твои лучистые глаза.
Он хотел увидеть, как свежее лицо Радопис сияет от счастья и восторга, и унести в могилу этот очаровательный образ, но она испытывала муки, какие никому больше не было под силу вынести. Ей хотелось кричать и стонать, рвать и метать, дать волю измученной душе, искать утешения в бреду забытья или в адском огне. Как же ободриться, успокоиться, смотреть, храня выражение лица, которое фараон любил и обожал больше любого другого лика в этом мире?
Все еще глядя на нее с грустью, он сказал:
– Радопис, это не твои глаза.
С горечью и печалью в голосе она ответила:
– Это мои глаза, повелитель, только иссяк родник, даривший им жизнь и свет.
– Увы, Радопис! Забудь ради меня в этот час о своих страданиях. Я хочу увидеть лицо любимой Радопис и услышать ее нежный голос.
Неуместная просьба фараона ранила ее в самое сердце, но она не могла не выполнить его желание в столь мрачный час. Превозмогая себя, Радопис изобразила слабое подобие улыбки. Не говоря ни слова, она нежно коснулась его, как поступала, когда он прежде лежал рядом с ней. На бледном и исхудавшем лице фараона появилось довольное выражение, его губы раскрылись в улыбке.
Если бы Радопис оставили наедине со своими чувствами, весь мир стал бы тесным, для того чтобы дать волю охватившему ее безумию, но она уступила страстному желанию фараона и не могла наглядеться на его лицо. Радопис было трудно поверить, что это лицо скоро исчезнет навсегда, а она больше никогда не увидит его в этом мире, сколько бы ни страдала, вздыхала или плакала от горя. Исчезнет его лицо, жизнь, любовь, останутся лишь воспоминания о далеком и смутном прошлом. Как это нелепо, ведь она вопреки разбитому сердцу будет верить, что он когда-то был для нее и прошлым, и будущим. И только потому, что эта шальная стрела угодила ему в грудь. Как могла эта жалкая стрела разбить все ее надежды, которым в этом мире стало невыносимо тесно? Радопис издала тяжелый и горестный вздох, пробудивший жизнь в ее разбитом сердце. Фараон расставался с остатками жизни, все еще теплившимися в его груди, и издал предсмертный хрип. Силы убывали, руки и ноги слабели, чувства угасали, глаза тускнели. Судорожно вздымалась грудь, пока жизнь и смерть вели в ней отчаянную и неравную битву. Вдруг лицо фараона исказила боль, он открыл рот, будто собираясь звать на помощь. Он держал руку, которую она протянула ему, в его глазах появилась невыразимая боль.
– Радопис, подними мне голову, подними мне голову, – молил он.
Дрожащими руками она взяла голову фараона и уже собралась приподнять его, как он издал страшный стон, и его рука безжизненно упала. Так закончилась неистовая борьба между жизнью и смертью. Радопис тут же опустила его голову и крикнула от мучительной боли, но крик тут же угас, ее голос оборвался, будто у нее вырвали легкие, язык окаменел, уста лишились подвижности. Она безжизненным взором уставилась на лицо, которое когда-то принадлежало человеку, и застыла на месте.
Ее крик передал горестную весть, прибежали три человека, которых она не заметила, и встали у паланкина. Таху печально взглянул на лицо фараона, его собственный лик покрыла мертвенная бледность. Он молчал. Софхатеп тоже подошел к усопшему и поклонился в глубокой почтительности, его глаза застилали слезы, они струились по щекам и падали на землю. Дрожащим, исполненным печали голосом, нарушившим тишину, он изрек:
– Мой хозяин и повелитель, мы передаем тебя в руки самых высоких богов, по чьей воле в этот день начнется твое путешествие в вечное царство. С какой радостью я отдал бы свою бесполезную старость ради твоей нежной юности, но воля Господа непререкаема. Прощай, мой благородный повелитель.
Софхатеп взял покрывало своей худой рукой и медленно накрыл усопшего. Затем он снова поклонился и тяжелыми шагами вернулся на прежнее место.
Радопис продолжала стоять на коленях, она совершенно растерялась и предалась печали, ее безутешный взгляд был прикован к безжизненному телу. Будто сама смерть, тревожное спокойствие проникло в ее существо, она не проявляла никаких признаков жизни. Радопис не плакала, не кричала. Мужчины неподвижно стояли позади нее, опустив головы. Тут вошел раб, несший паланкин, и объявил:
– Пришла придворная дама царицы.
Все повернулись в сторону двери и увидели, что вошла женщина с печальным ликом, и поклонились ей в знак приветствия. Та ответила кивком, бросила взгляд на обмякшее тело и повернулась к Софхатепу.
Он подал голос, исполненный горести:
– Фараон умер, почтенная сударыня.
Придворная дама какое-то время молчала, будто сраженная этой вестью, затем сказала:
– Благородное тело следует доставить в царский дворец. Первый министр, таково желание ее величества царицы.
Направляясь к двери, придворная дама дала знак рабам. Те подбежали к ней, и она велела им поднять паланкин. Когда рабы подошли и наклонились к шестам, чтобы поднять паланкин, Радопис, не ведавшая о происходившем вокруг, вдруг с ужасом догадалась о том, что последует, и охрипшим, полным неверия голосом властно спросила:
– Куда вы собираетесь унести его?
Радопис бросилась на паланкин. Софхатеп подошел к ней и сказал:
– Во дворце желают отдать последний долг священному телу усопшего.
Ошеломленная Радопис взмолилась:
– Не отнимайте его у меня. Подождите. Я умру на его груди.
Придворная дама смотрела на Радопис и, услышав ее слова, отрезала:
– Грудь фараона не создана для того, чтобы стать чьим-либо местом последнего упокоения.
Софхатеп наклонился к разбитой горем женщине и, нежно взяв за руки, поднял ее, а рабы понесли паланкин. Радопис удалось высвободить руки и оглядеться, горестное выражение ее лица говорило, что она никого не узнавала среди тех, кто присутствовал. Радопис закричала прерывавшимся голосом, напоминавшим предсмертный хрип:
– Куда вы его уносите? Это его дворец. Это его летний павильон. Как вы можете так унижать меня перед ним? Жестокие, безжалостные люди, моему повелителю не понравится, если кто-то посмеет меня обижать.
Придворная дама не обращала на нее внимание и покинула павильон, рабы последовали за ней, неся паланкин. Мужчины вышли в подавленном состоянии и молчали. Радопис была на грани безумия. На мгновение она застыла, затем бросилась за ними, но почувствовала, как кто-то грубо схватил ее за руку. Она пыталась вырваться, но ее усилия оказались тщетны.
Радопис пришла в ярость, обернулась и оказалась лицом к лицу с Таху.
Гибель Таху
Не веря своим глазам, Радопис уставилась на него так, будто не узнала. Она пыталась высвободить руку, но Таху крепко держал ее.
– Отпусти меня, – злобно сказала она.
Таху начал медленно качать головой, будто говоря: «Нет, нет, нет». Его лицо казалось ужасным и пугающим, в глазах мелькнул безумный огонь.
– Они держат путь туда, куда тебе ступать не следует.
– Отпусти меня. Они унесли моего повелителя.
Таху сердито уставился на нее и резким голосом, будто отдавая приказ, сказал:
– Не пытайся идти наперекор желаниям царицы. Теперь правит она.
Гнев Радопис утих и сменился страхом. Она больше не сопротивлялась. На этот раз она сдалась и, нахмурив лоб, смущенно покачала головой, будто пытаясь собраться с мыслями, разбегавшимися во все стороны. Радопис вызывающе взглянула на Таху, словно не веря своим глазам, и спросила:
– Разве ты не видишь? Они убили моего повелителя. Они погубили фараона.
Слова «они погубили фараона» зловеще прозвучали в его ушах, они показались столь жуткими, что он им не внял. Гроза, бушевавшая в его груди, стихла.
– Да, Радопис, – произнес Таху. – Они погубили фараона. До сегодняшнего дня я никак не мог бы поверить, что одна стрела способна лишить фараона жизни.
Радопис с наивностью, граничившей с глупостью, спросила:
– Как ты мог допустить, чтобы его отняли у меня?
С Таху случился припадок безумного и ужасного хохота.
– Ты хочешь отправиться следом за ним? – спросил Таху. – Радопис, ты совсем обезумела. Ты совсем забыла о последствиях, печаль, должно быть, омрачила твое сознание. Проснись, соблазнительница. Теперь на троне Египта восседает женщина, которой ты выказала непозволительное пренебрежение. Ты отняла у нее мужа, низвергла ее с вершины славы и счастья в пучину горя и забытья. Царица может немедленно прислать сюда людей, которые доставят тебя к ней в кандалах и отдадут палачам, не ведающим, что такое пощада. Они сбреют с твоей головы шелковистые волосы и выколют твои черные глаза. Они отрежут твой точеный нос и изящные уши, после чего провезут тебя на телеге по улицам города. Во время этого отвратительного спектакля тебя, искалеченную, покажут твоим очернителям, которые будут злорадствовать. Городской глашатай прошествует впереди тебя и, крича во всю глотку, будет зазывать всех поглазеть на обольстительную шлюху, которая сбила фараона с пути и поссорила его с собственным народом.
Таху говорил так, будто утолял дикую жажду мести, его глаза излучали устрашающий свет, но его слова не тронули Радопис, будто между ним и ее чувствами возникла преграда. Храня странное молчание, она смотрела на какой-то незримый предмет, затем пожала плечами с откровенным презрением. Гнев и негодование вспыхнули в его сердце при виде такой холодности и отстраненности. Гнев передался руке Таху, он крепко сжал руку Радопис, испытывая безудержное желание изо всех сил ударить ее по лицу, разнести его на кусочки, насладить свои глаза, когда оно станет безобразным и из всех пор и отверстий вырвутся струйки крови. Он долго смотрел на ее спокойное и безразличное лицо, не решаясь осуществить свое демоническое желание. Тут Радопис взглянула на него, но в ее глазах не осталось признаков жизни. Таху заволновался, горячность спала, на его лице появилось выражение испуга, будто его застали на месте преступления. Он ослабил хватку и издал тяжелый вздох.
– Я вижу, что тебя больше ничто уже не волнует, – сказал он.
Радопис слушала его, но вдруг произнесла:
– Нам следовало пойти за ними.
– Нет, не следовало, – сердито ответил Таху. – Мы оба больше никому не нужны. После сегодняшнего дня никто не хватится нас.
Наивно и спокойно она повторила:
– Она отняла его у меня, она отняла его у меня.
Таху догадался, что она имеет в виду царицу. Он пожал плечами и сказал:
– Ты завладела им, когда он был еще жив. Она вернула его себе мертвым.
Радопис странно посмотрела на Таху.
– Ты дурак, полный дурак. Разве ты не знаешь? Эта вероломная женщина убила фараона, чтобы снова заполучить его.
– Кто эта вероломная женщина?
– Царица. Это она выдала наш секрет и взбунтовала народ. Именно она убила моего повелителя.
Таху молча слушал ее, его уста собирались в издевательской, дьявольской ухмылке. Когда Радопис умолкла, он разразился сумасшедшим, жутким хохотом.
– Радопис, ты ошибаешься, – сказал Таху. – Царица не предавала и не убивала его.
Таху посмотрел Радопис в лицо и приблизился на шаг, она уставилась на него взором, полным оцепенения и недоумения, когда он продолжил:
– Если тебе так хочется узнать, кто изменник, то он стоит перед тобой. Радопис, это я изменник. Я предал фараона.
Его слова не произвели на Радопис того впечатления, которое он ожидал. Они даже не вывели ее из оцепенения. Радопис лишь чуть покачала головой из стороны в сторону, будто желая стряхнуть затянувшийся сон и безразличие. Таху охватил гнев, он грубо взял Радопис за плечи и стал отчаянно трясти ее.
– Проснись, – заорал он. – Разве ты не слышишь, что я говорю? Я – предатель. Таху – изменник. Я причина всех бед.
Тело Радопис неистово содрогнулось, она начала метаться и вырвалась из его рук. Она отстранилась на несколько шагов, посмотрела на его испуганное лицо, в ее глазах промелькнули страх и безумие. Его гнев и раздражение отступили, он почувствовал, как голову и тело охватила слабость. Глаза Таху помрачнели, он тихо и печально сказал:
– Я произношу эти зловещие слова столь искренне, ибо уже хорошо понимаю, что не принадлежу этому миру. Разорваны все узы, связывавшие меня с ним. Радопис, нет сомнений, что мое признание привело тебя в ужас, однако это правда. Мое сердце разбила отвратительная жестокость, мою душу терзают невыносимые муки с той самой безумной ночи, когда я навеки потерял тебя.
Таху умолк, чтобы дать своему встревоженному сердцу успокоиться, затем продолжил:
– Но я тешил себя надеждой, набрался терпения и смирился с неизбежным, решив выполнить свой долг до конца. Затем наступил тот день, когда ты вызвала меня в свой дворец, дабы убедиться в моей преданности. В тот день я утратил рассудок. Моя кровь закипела, меня охватило странное безумие. Безумие толкнуло меня в руки затаившегося врага, и я выдал ему наш секрет. Вот так верный командир стал подлым изменником и всадил своим товарищам нож в спину.
Таху отдался власти чувств, пока вспоминал свое предательство, его лицо искажали гримасы боли и горя. Его снова охватил гнев, и он жестоко посмотрел в ее испуганные глаза.
– Женщина, ты – источник порока и смерти. Твоя красота стала проклятием для всех, кто хоть раз видел тебя. Она истязала невинные сердца и принесла смерть во дворец, где кипела жизнь. Твоя красота потрясла древний и почитаемый трон, взбудоражила мирных людей и отравила благородное сердце. Воистину, твоя красота – воплощение зла и проклятия.
Таху умолк, хотя гнев все еще кипел в его душе. Видя, что ей больно и страшно, он почувствовал облегчение и удовольствие.
– Испытай мучительную боль и унижение, взгляни смерти в лицо. Никто из нас не должен жить. Я давно умер. От Таху не осталось ничего, кроме его славных, расписанных гербами военных форм. Что же касается того Таху, который участвовал в завоевании Нубии и чья храбрость на поле брани заслужила хвалу Пепи Второго, Таху, командира стражи Меренры Второго, его закадычного друга и советника, то его больше нет.
Таху быстро оглядел павильон, и на его лице промелькнуло выражение нестерпимой боли. Он больше не мог вынести удушающей тишины и Радопис, застывшей подобно безжизненной, но прекрасной статуе. Он глубоко вздохнул, подавляя чувство горечи и отвращения.
– Всему приходит конец, но я не откажу себе в самом суровом наказании, – произнес он. – Я отправлюсь во дворец и позову всех, кто хорошо думает обо мне. Я объявлю им о своем преступлении и разоблачу изменника, который выдал своего повелителя, хотя был его правой рукой. Я сорву награды, украшающие мою грудь, я отброшу в сторону свой меч и погружу этот кинжал в свое сердце. Прощай, Радопис, прощай жизнь, которая требует от нас гораздо больше, чем заслуживает.
Сказав эти слова, Таху удалился.
Конец
Едва Таху успел покинуть дворец, как ялик Бенамуна бен Бесара причалил к садовой лестнице. Молодой человек выбился из сил, его лицо побледнело, одежда покрылась пылью. Волнения в городе, свидетелем которых он стал, безудержный гнев взбунтовавшихся людей совсем расстроили его нервы. Лишь с огромным трудом ему удалось пробраться к своему жилищу. Сцены, виденные им, блекли по сравнению с ужасами, очевидцем которых он стал на обратном пути. Юноша вздохнул с большим облегчением, пока шел по тропинкам сада белого дворца на острове Биге. Еще немного, и он войдет в летний павильон. Бенамун был у цели и, полагая, что в павильоне никого нет, шагнул через порог. Однако вскоре он обнаружил свою ошибку, заметив Радопис. Та лежала на диване под своим великолепным портретом, а Шейт на корточках сидела возле ее ног. Но обе хранили жуткое молчание. Он застыл в нерешительности. Шейт почувствовала его присутствие, Радопис повернулась к нему. Рабыня встала, кивнула в ответ на приветствие Бенамуна и вышла из павильона. Просияв от радости, молодой человек приблизился к Радопис, но, когда заметил выражение ее лица, похолодел от тревоги, зародившейся в его сердце, и лишился дара речи. Юноша уже не сомневался, что до его богини дошел слух о событиях в городе и сообщения о страданиях народа оставили печать на ее красивом лице, накинули на него грубое покрывало отчаяния. Он встал на колени, наклонился к Радопис и страстно поцеловал кайму ее одежд. Бенамун смотрел на нее ясными, полными сочувствия глазами, точно говоря: «Я с радостью принял бы на себя твои страдания». Выражение облегчения, появившееся на ее лице, не ускользнуло от него. Его сердце восторженно забилось, лицо зарделось. Едва слышно Радопис сказала:
– Бенамун, тебя долго не было.
– Я пробирался сквозь бушующее море людей, – ответил юноша. – Абу сегодня вспыхнул, языки пламени взмыли высоко, горящие уголья разлетались во все стороны, наполняя воздух пеплом.
Молодой человек засунул руку в карман, достал небольшой флакон и протянул ей. Радопис взяла его и крепко сжала в руке. Она почувствовала, как холод от флакона пробегает по телу и застывает в сердце.
– Мне кажется, что ваша душа страдает больше, чем ей по силам вынести, – услышала Радопис голос юноши.
– Страдания заразительны, – ответила она.
– Тогда берегите себя. Вам не следует печалиться. Почему бы вам не отправиться в Амбус на какое-то время, пока здесь снова не воцарится относительное спокойствие?
Радопис слушала его с деланым вниманием, странным выражением глаз, будто на этом свете видит человека в последний раз и больше никого не встретит. Мысль о смерти овладела ею в такой степени, что она чувствовала себя чужой в этом мире. Она была настолько подавлена, что не ощущала ни капли сострадания к юноше, стоявшему перед ней на коленях, парившему в мире надежд, не подозревавшему, какая судьба скоро настигнет его. Бенамуну казалось, будто она обдумывает его предложение, в его сердце зародилась надежда, пробудились его желания.
– Амбус, моя госпожа, – город, где царят спокойствие и красота, – взволнованно говорил юноша. – Там перед глазами открывается лишь безоблачное небо, поющие птицы, скользящие по воде утки и сочная зелень. Счастливая и беззаботная жизнь избавит ваше сердце от всех страданий, причиной которых стал несчастный и бурлящий Абу.
Вскоре Радопис устала слушать Бенамуна, ее мысли возвращались к таинственному флакону, она страстно желала, чтобы скорее наступил конец. Взгляд Радопис застыл на том месте, где совсем недавно стоял паланкин. Ее сердце громко взывало к тому, чтобы она распрощалась со своей жизнью немедленно и прямо здесь. Решив отделаться от юноши, она сказала:
– Бенамун, твое предложение замечательно. Дай мне подумать немного наедине с собой.
Лицо Бенамуна засияло от радости и надежды.
– Мне придется долго ждать? – спросил ее молодой человек.
– Бенамун, ждать тебе придется недолго.
Он поцеловал ей руку, поднялся и вышел.
Почти тут же вошла Шейт. Радопис уже собиралась встать, но, прежде чем рабыня успела вымолвить слово, она снова отослала ее.
– Принеси мне кувшин пива, – велела она. Рабыня вышла.
Шейт вернулась во дворец. Тем временем Бенамун достиг пруда и отдыхал, сидя у самого края. Юноша пришел в восторг: ведь скоро исполнится его надежда и он увезет свою несравненную богиню в Амбус, далеко от бед, нависших над Абу. Тогда она будет принадлежать ему, и он станет счастливым. Бенамун молил богов не покидать ее в минуты уединения и помочь ей найти верное решение, которое принесет счастье.
Он больше не мог сидеть, встал и начал неторопливо обходить пруд. Совершив первый круг, юноша заметил Шейт с кувшином в руке, направлявшуюся к павильону. Он провожал ее взглядом, пока та не скрылась за дверью. Юноша решил снова сесть, но едва успел это сделать, как услышал леденящий душу крик, донесшийся из павильона. Он вскочил, перепугавшись до смерти, и понесся к павильону. Бенамун увидел, что Радопис лежала там, рабыня стояла на коленях возле нее, звала ее, трогала щеки, щупала пульс. Бенамун подбежал к ней, у него дрожали ноги, в глазах были неподдельная тревога и страх. Юноша опустился на колени рядом с Шейт, взял руку Радопис и почувствовал, что та излучает ледяной холод. Казалось, будто Радопис уснула, только ее лицо стало бледным с синеватым оттенком. Губы, лишившиеся крови, чуть раскрылись, локоны черных волос рассыпались на груди и ковре. Юноша ощутил сухость во рту. Задыхаясь, он спросил рабыню хриплым голосом:
– Шейт, что случилось с ней? Почему она не отвечает?
Рабыня откликнулась голосом, похожим на стон:
– Я не знаю, сударь. Войдя сюда, я застала госпожу в том положении, в каком ты сейчас ее видишь. Я позвала ее, но она не откликнулась. Я подбежала к ней и стала трясти ее, но она не очнулась, и ничто не говорит, что сознание вернулось к ней. О боже, моя госпожа. Что с тобой случилось? Какая напасть привела тебя в это состояние?
Бенамун не вымолвил ни слова и долго смотрел на женщину, которая лежала на полу, храня внушающую страх неподвижность. Пока глаза юноши блуждали по телу Радопис, он заметил, что под ее правой рукой лежит злополучный флакон. Пробки на нем не было. Юноша издал жалобный стон и дрожащими пальцами взял флакон. Внутри осталось лишь несколько капель. Бенамун отвел глаза от флакона и взглянул на Радопис. Он обо всем догадался. Юношу начало трясти, содрогания разрывали его стройное тело на части. Он простонал от мучительной боли. Рабыня взглянула на него.
– О боже, какой ужас! – воскликнул Бенамун голосом, проникнутым страхом.
Шейт уставилась на него и, чувствуя недоброе, тревожно спросила:
– Что так ужаснуло тебя? Говори, юноша. Я чуть с ума не схожу и не знаю, что делать.
Бенамун пропустил ее слова мимо ушей и обратился к Радопис, будто та слышала и видела его:
– Почему ты лишила себя жизни, моя сударыня? – вопрошал он.
Шейт вскрикнула и стала бить себя в грудь.
– Что ты говоришь? Откуда тебе известно, что она лишила себя жизни?
Юноша изо всей силы швырнул флакон о стену, тот разбился на мелкие кусочки. Он растерянно и отчаянно причитал:
– Почему ты решила сгубить себя ядом? Разве ты не обещала, что серьезно подумаешь о том, чтобы поехать вместе со мной в Амбус, подальше от тревожного юга? Ты решила обмануть меня, дабы покончить с собой?
Рабыня взглянула на осколки разбитого стекла, оставшиеся от флакона, и, не веря тому, что услышала, спросила:
– Откуда моя госпожа взяла яд?
Безутешно пожав плечами, Бенамун ответил:
– Я сам принес ей его.
Рабыню охватил гнев, и она закричала на юношу:
– Несчастный, как ты мог такое сделать?
– Я не подумал, что яд ей понадобился для того, чтобы погубить себя. Радопис обманула меня так же, как сделала это только что.
Рабыня была ошеломлена. Она отвернулась от Бенамуна, разрыдалась и, бросившись к ногам хозяйки, начала целовать их и орошать слезами. Молодой человек испытывал безысходное отчаяние, он выпученными глазами уставился на лицо Радопис – на нем уже запечатлелся вечный покой. В своем отчаянии он не мог понять, как забвение может стереть красоту, какую солнцу раньше не доводилось озарять, и как столь кипучая жизнь способна остановиться, облачиться в эту бледную и высохшую кожу, которая скоро обнаружит признаки разложения. Ему страстно хотелось увидеть Радопис воскресшей хотя бы на миг, ее грациозную походку, радостную улыбку на восхитительном лице, таком любящем и манящем. Тогда он мог бы умереть, унести с собой последнюю сцену из этого мира.
Стенания Шейт сильно раздражали его, юноша упрекнул рабыню:
– Прекрати голосить, Шейт! – Бенамун указал на свое сердце и сказал: – Вот где следует хранить благородное горе. Это пристойнее, чем плакать и стенать.
Однако в сердце рабыни мелькнул слабый проблеск надежды. Посмотрев на юношу сквозь застланные слезами глаза, она с мольбой спросила:
– Сударь, разве не осталось надежды? Быть может, с ней приключился ужасный обморок?
Но тот ответил полным горечи тоном:
– Ничто не вернет ей жизнь. Радопис мертва. Любовь погибла. Все мои надежды рассыпались прахом. О, как же мечты и заблуждения посмеялись надо мной! Но теперь все осталось позади. Ужасная смерть пробудила меня ото сна.
За горизонт погружались последние лучи солнца, кроваво-красное лицо светила исчезало в горящей багрянцем дымке. Надвигался мрак, облачая мир в траурные одежды. Подавленная горем Шейт не забыла о своем долге к телу усопшей хозяйки. Она хорошо понимала, что не сможет оказать ему подобающие на острове Биге почтение и заботу, пока кругом таятся враги ее хозяйки, выжидая удобного момента, когда можно будет выместить свою злобу на мертвом теле. Рабыня доверила свои опасения молодому человеку, сердце которого пылало огнем. Рабыня спросила, не удастся ли им перевести тело в город Амбус, чтобы передать его в руки бальзамировщиков, затем похоронить в семейном мавзолее семьи Бенамунов. Юноша всем сердцем отозвался на ее предложение. Шейт позвала несколько рабынь, и те принесли паланкин. Они положили тело на него и накрыли покрывалом. Рабыни отнесли паланкин в зеленую ладью, которая тотчас поплыла вниз по реке к северу.
Юноша сидел у головы тела Радопис, недалеко от Шейт. Царила мертвая тишина. В ту печальную ночь, когда неспокойные волны несли ладью к северу, Бенамун странствовал в далеком царстве снов: вся жизнь мелькала перед глазами юноши, видения быстро сменяли друг друга. В них отражались его надежды и мечты, боль и страсть, радость и счастье. Юноша думал, что судьба увенчает его жизнь счастьем. Из глубин разбитого сердца Бенамуна вырвался вздох, он не сводил глаз с завернутого в саван тела, о которое разбились его надежды и мечты. Они погибли, рассеялись, разбежались во все стороны, точно сладкие сны, когда бьет час пробуждения.








