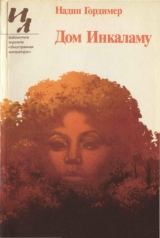
Текст книги "Дом Инкаламу (сборник)"
Автор книги: Надин Гордимер
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
– Стало быть, участок купили вы? – спросила я.
– Это дом моего отца, он лет семь как помер.
– Джойс! – воскликнула я. – Значит, вы – Джойс.
Она засмеялась – застенчиво, словно ребенок, которого вдруг заставили встать перед классом.
– Я Нонни, младшенькая. Джойс – она постарше, я – после нее.
Нонни. Сколько раз я катала ее на своем велосипеде, и ножонки ее, от колен вниз, свисали с руля. Я назвала себя, исполненная готовности обменяться семейными новостями. Впрочем, ведь мы никогда не дружили семьями. Она ни разу не была у нас дома. Я сказала только:
– Не могла проехать мимо, не посмотрев, стоит ли еще дом Инкаламу Уильямсона.
– Ну да. Сюда много кто ездит – поглядеть на дом. Только сейчас там такой развал – ужас.
– А где остальные? Джойс, и Бесси, и Роджер?
Оказалось, они живут теперь в разных городах и она не о всех знала точно, кто где.
– Что ж, прекрасно, – сказала я. – Теперь в этих местах все по-другому; дел хоть отбавляй.
Я рассказала ей, что присутствовала на празднествах по случаю провозглашения независимости. Приятно было сознавать – как бы в отместку минувшему, – что теперь у нас с нею немало общего, чего никак не могло быть в прежние времена.
– Вот и славно, – сказала она.
– …Ну а вы, значит, так и остались здесь. Единственная из всех нас! А в нем уже давно не живут?
Дом незримо присутствовал у нас за спиной.
– Мы жили там с матерью, а выехали – ой, когда же это? – лет пять назад. – Она улыбалась, приставив руку лодочкой ко лбу: свет резал ей глаза. – А что делать там человеку, так далеко от дороги? Я и открыла лавку вот тут. – Улыбка ее словно бы приобщала меня к ее миру, и он открывался мне: пустынная дорога, знойное утро, один-единственный клиент с брошенным наземь велосипедом. – А куда денешься? Надо попробовать.
– Где же другие участки Инкаламу? Мне помнится, за рекой у него была большая табачная плантация.
– A-а… Ну, та уплыла задолго до того, как он помер. А что с другими участками – не знаю. Просто нам вдруг говорят: их у него больше нет – продал, что ли, или еще чего, не знаю. Другую табачную плантацию оставил братьям – да вы их знаете: два старших брата, они не от моей матери, они от второй; ну а потом оказалось, плантацию уже забрал банк. В общем, не знаю. Понимаете – отец, он с нами про дела никогда не говорил.
– Но у вас же остался этот участок.
– Мы с ней принадлежали к новому поколению, она и я.
– Вы, безусловно, могли бы его продать. Цены на землю опять поднимутся. Сейчас ведется разведка по всему району – от столицы до бокситных рудников. Продайте участок – да, продайте – и можете ехать куда вздумается.
– Так ведь у нас только дом. Всего и земли – от дома до дороги. Вот этот кусочек, – рассмеялась она. – Все остальное он спустил. Только и оставил нам с матерью что дом. А жить-то надо.
– В точности как мой отец, все то же самое, – посочувствовала я ей. – У нас было большое хозяйство в десять тысяч акров и еще участок возле Лебише. Если бы он сумел удержать хотя бы участок у Лебише, мы бы очень разбогатели – ведь там обнаружили платину.
Но разумеется, ее отец и мой – это было совсем не то же самое.
– Да неужели? – участливо проговорила она, подражая моему университетскому выговору и поставленному голосу.
Мы улыбались друг другу; я – сидя в большой американской машине, она – стоя рядом с нею. Девочка с бантами в волосах держалась за материнскую руку; на ее личико то и дело садились мухи.
– А переоборудовать дом под гостиницу, видимо, нельзя.
– Там такой развал! – она вдруг заговорила извиняющимся тоном беспечной хозяйки, которую застали врасплох, когда в доме было не прибрано. – Построила я для нас этот вот домик, и мы сразу сюда перебрались. А там и сейчас полно рухляди.
– Да, и еще – книг. Столько книг. Их пожирают муравьи. – Я улыбнулась девочке, как улыбаются чужим детям те, у кого нет своих. За спиною у Нонни рядом с лавкой виднелся домишко наподобие тех, что у белых стоят на задворках для черных слуг. – А разве на книги нет охотников?
– Прямо не знаем, что с ними делать. Так их и бросили. Это надо ж, такую уйму книг он собрал, мой отец.
Что ж, чудачества Инкаламу мне были известны.
– А как школа при миссии в Балонди? Ее основательно перестроили, да?
Как мне помнилось, там училась Джойс и кто-то из ее братьев, а может, и все дети Инкаламу. В наше время то была школа только для черных детей, но теперь с этим покончено. Впрочем, ее это, как видно, не особенно занимало. Она только сказала с вежливым интересом:
– Да, кто-то на днях что-то такое говорил.
– Ведь и вы когда-то учились в той школе, правда?
Она коротко рассмеялась – над самой собою – и качнула руку девочки.
– Да я никогда отсюда не уезжала.
– Никогда? Право же…
– Отец меня сам учил немножко. Даже где-то учебники завалялись – там, в этой груде. Право же.
– Ну что же, надеюсь, дела в вашей лавке пойдут хорошо, – сказала я.
– Эх, мне бы лицензию на коньяк. А так что – только пиво продавать можно. Мне бы лицензию на коньяк, понимаете… Верно вам говорю, тогда б я мужчин сюда привадила….
Она хихикнула.
– Ну так, чтобы попасть к трем на рудник, мне пора двигаться, – сказала я.
Она по-прежнему улыбалась – просто чтоб сделать мне приятное; у меня даже закралось подозрение, что она вообще меня не помнит – да и откуда ей помнить? Ведь когда я сажала ее на руль своего велосипеда, ей было не больше, чем сейчас ее дочке. Но она вдруг сказала:
– Схожу в лавку, приведу мать.
Она повернулась вместе с девочкой, и, пройдя через тень веранды, обе скрылись в лавке. Но почти сразу же вышли – вместе с сухонькой чернокожей женщиной, согнувшейся то ли от старости, то ли в глубоком поклоне, не скажу точно. Она была в головном платке и длинной широкой юбке из бумажной ткани, синей с белым, в мелких узорах – в дни моего детства штуки такой материи можно было видеть на прилавке каждой лавочки. Я вышла из машины, пожала ей руку. Не глядя на меня, она хлопнула в ладоши и почтительно склонила голову. Была она очень худа, узкую грудь обтягивала севшая от стирки желтая кофта, застегнутая стеклянной брошкой в форме цветка; нескольких лепестков не хватало, и эти пустоты в венчике зияли, словно дыры от выпавших зубов.
Теперь они все трое стояли передо мной. Я повернулась к девочке – та терла глаза руками, вокруг которых вьюнком обвились колечки волос.
– Значит, теперь, Нонни, у вас у самой дочка. Она усмехнулась, подтолкнула ребенка ко мне.
– Что у тебя болит, детка? – спросила я девочку. – У нее что-то с глазами?
– Да. Красные все и чешутся. У меня тоже, но не так сильно.
– Это конъюнктивит, – объяснила я. – Она вас заразила. Надо бы обратиться к врачу.
– Не знаю, что это. У нее уже две недели так.
Тут мы обменялись рукопожатием, и я решила про себя ни в коем случае не прикасаться к лицу, пока не вымою рук.
– Значит, вы в Калондве, на рудники.
Мотор уже работал. Она стояла скрестив руки на груди – в обычной позе покидаемых.
– Между прочим, насколько мне известно, старый доктор Мэдли снова в этих краях; он там, в Калондве, работает в медицинском центре ВОЗ [16]16
Всемирная организация здравоохранения.
[Закрыть].
Когда все мы были детьми, Мэдли был единственный врач в нашем округе.
– Да, да! – подхватила она преувеличенно заинтересованным тоном вежливой собеседницы. – А знаете, он ведь не знал, что отец помер, приехал его навестить!
– В таком случае я передам ему, что видела вас.
– Да, передайте. – Чтобы заставить девочку помахать мне на прощание, она отвела ее вялую пухлую ручку от глаз, приговаривая. – Баловница ты, баловница.
Я вдруг вспомнила:
– Кстати, как теперь ваша фамилия?
Прошли те времена, когда никто не потрудился б спросить у женщины – если только она не белая, – как ее фамилия по мужу. А говорить о ней как о дочери Инкаламу мне не хотелось. Благодарение богу, она теперь избавлена и от него, и от той доли, которую он и ему подобные ей уготовили. Все это сгинуло, сгинул и сам Инкаламу.
Она теребила сережки и, стараясь бодриться, улыбалась – не в тяжком смущении, а задушевно, застенчиво, как человек, признающий свою вину.
– Да чего там, просто мисс Уильямсон. Скажите ему – Нонни.
Я вырулила на магистраль осторожно, чтоб не обдать их пылью, и, набирая скорость, видела в зеркальце, что она все сгибает своею рукой ручку девочки, заставляя ее махать мне вслед.
Перевод С.Митиной
Любовники городские
I
Доктор Франц-Иосиф Лейнсдорф – геолог. Он всецело поглощен своей работой, ушел в нее, как говорится, с головой, и год за годом она затягивает его все больше, заслоняя от него пейзажи, города и людей, где бы он ни жил, будь то Перу, Новая Зеландия или США. И таким он был всегда, как могла бы подтвердить его мать в Австрии, откуда он родом. Еще кудрявым малышом он отворачивался от нее к своим камешкам и образцам породы, так что видела она его только в профиль. И немногие развлечения, которые он иногда себе позволяет, тоже с тех пор почти не изменились – поехать в горы покататься на лыжах, послушать музыку, почитать стихи. Райнер Мария Рильке однажды гостил у его бабушки в охотничьем домике среди лесов Штирии, и мальчика приобщили к стихам Рильке в самом нежном возрасте.
Пласты за пластами, страна за страной – и вот уже почти семь лет он живет в Африке. Сначала Берег Слоновой Кости, а последние пять лет – Южная Африка. Контракт ему предложили потому, что здесь недостает квалифицированных кадров. Политика стран, в которых он работает, его не занимает. Его специальность внутри специальности – исследование подземных водных потоков, но горнорудную компанию, пригласившую его на важную, хотя и не административную должность, интересует только разведка полезных ископаемых. А потому он много времени проводит в поле (здесь это вельд), разведывая новые залежи золота, меди, платины и урановых руд. Когда он не в разъездах, а дома («дома» в данном случае и в данной стране означает в этом городе), он живет в предместье, в двухкомнатной квартире с декоративным садом, и делает покупки в универсаме, удобно расположенном как раз напротив. Он не женат – пока еще. Во всяком случае, именно так определили бы его семейное положение сослуживцы, а также стенографистки и секретарши в правлении горнорудной компании. И мужчины и женщины сказали бы, что он красив, но в иностранном духе. Нижняя половина его лица словно бы принадлежит пожилому человеку (губы у него узкие, их уголки опущены, и как бы тщательно он ни брился, щетина все равно проглядывает, точно порошинки, впившиеся в кожу вокруг рта и на подбородке), а верхняя часть, наоборот, выглядит очень молодо: глубоко посаженные глаза (серые, говорят одни, а другие говорят – карие), густые ресницы и брови. Непонятный взгляд, такой сосредоточенный и задумчивый, что порою кажется пылким и томным. Это-то и имеют в виду женщины в правлении, когда говорят, что в общем он привлекателен. Хотя этот взгляд словно бы сулит что-то, он ни одну из них ни разу никуда не приглашал. По общему убеждению, его, скорее всего, ждет невеста, которую ему подыскали там, у него на родине, в Европе, откуда он приехал. Эти образованные европейцы обычно предпочитают не превращаться в эмигрантов – их равно не привлекают ни остатки колониального господства белых, ни романтическое служение Черной Африке.
Однако жизнь в странах слаборазвитых или только-только начинающих развиваться имеет одно несомненное преимущество – квартиры сдаются с обслуживанием. Доктору фон Лейнсдорфу остается только самому покупать продукты и готовить себе ужин, если ему не хочется идти вечером в ресторан. Ему достаточно зайти в универсам по дороге от машины до двери, когда он возвращается домой во второй половине дня. Он катит тележку вдоль полок, на которых все необходимое для удовлетворения его скромных потребностей красуется в виде консервных банок, коробок, тюбиков, бутылок, упакованного в целлофан мяса, сыра, фруктов, овощей… У касс, куда сходятся в очередь покупатели, на стойках лежат всякие мелочи, о которых вспоминают в последнюю минуту. Тут, пока кассирша, цветная девушка, нажимает кнопки кассового аппарата, он берет сигареты, а иногда пакетик соленого миндаля или плитку нуги. Или пачку лезвий, если вспоминает, что его запас подходит к концу. Как-то вечером, зимой, на стойке не оказалось лезвий той марки, которую он предпочитал, и он сказал об этом кассирше. Обычно от этих цветных кассирш трудно добиться толку: они берут деньги и бьют по кнопкам с педантичностью, которая сопутствует малограмотности, четко устанавливая пределы, в которых они обслуживают покупателей. Однако эта кассирша внимательно оглядела полку с лезвиями, извинилась, что не может пойти справиться, и сказала, что постарается, чтобы «к следующему разу» ассортимент был пополнен. Дня два спустя, когда он подошел к ней, она его узнала и сказала очень серьезно:
– Я спрашивала, только на складе этих лезвий нет. Вам придется взять другие. Но я спрашивала.
Он сказал, что это пустяки.
– Когда их доставят, я отложу для вас несколько пачек. Он поблагодарил ее.
Всю следующую неделю он провел в поле и вернулся в город только в пятницу, когда уже темнело. Он шел от машины к дому, нагруженный чемоданом, парусиновыми сумками, планшетом, и вдруг в гуще толпы на тротуаре кто-то робко преградил ему путь. Не глядя, он сделал шаг в сторону, но тут она заговорила:
– Мы получили лезвия… Всю неделю я не видела вас в магазине, но отложила несколько пачек на случай, если вы придете. Так вот…
Теперь он ее узнал. Он в первый раз видел ее во весь рост. И в пальто. Для цветной она была невысока и хорошо сложена. Пальто казалось коротковато, но из-под него не выставлялся пышный зад. От холода ее скулы приобрели оттенок спелого абрикоса. Щеки были чуть впалыми, гладкая кожа маленького, тонко очерченного лица отливала атласной желтизной, точно древесина некоторых деревьев. Волосы курчавились, но были стянуты на затылке в небольшой пучок и упрятаны под дешевым искусственным шиньоном, какие (он это заметил) в универсаме лежали рядом с бритвенными лезвиями среди прочих мелочей. Он поблагодарил ее, но сказал, что торопится – он только что вернулся из поездки, – и в подтверждение кивнул на свою ношу.
– Очень тяжело! – сказала она. – Но, если хотите, я могу сбегать и взять их для вас. Если хотите.
Он сразу понял, что она имеет в виду только одно: она вернется в универсам, купит лезвия и принесет их сюда, где он сейчас стоит посреди тротуара. И наверное, поэтому он сказал ласковым, но требовательным тоном, каким обращаются к услужливым подчиненным:
– Я живу как раз напротив, в «Атлантиде». Вот в этом доме. Не могли бы вы занести их мне? Квартира семьсот восемнадцать на седьмом этаже….
Она еще ни разу не бывала внутри дорогих многоквартирных домов, рядом с которыми работала. Сама она добиралась домой на автобусе, а потом на поезде, потому что жила к западу от города, хотя и по эту сторону черных пригородов, в квартале, предоставленном людям ее цвета кожи. В вестибюле «Атлантиды» был бассейн с папоротниками – настоящими, а не пластмассовыми – и даже крохотный водопад, низвергаемый на камни электрическим насосом. Она не стала ждать лифта с табличкой «Грузовой», а вошла в лифт для белых, и туда же, ведя на поводке собачку, длинную, как сосиска, вошла белая женщина, но не обратила на нее никакого внимания. Коридоры, ведущие к дверям квартир, были все застеклены, и нигде не дуло.
Он прикинул, что за услугу ей следует дать двадцать пять центов, – будь она черной, хватило бы и десяти. Но она сказала:
– Нет, нет…. пожалуйста, вот… – и, стоя перед его распахнутой дверью, неловко всунула ему в руку сдачу с денег, которые он дал ей на лезвия. Она улыбалась – в первый раз – с достоинством, отказываясь от чаевых. Было очень трудно понять, как обходиться с этими людьми в этой стране, – понять, чего они ждут. Вот она смущенно отказалась взять двадцать пять центов, однако продолжала стоять перед дверью, очень скромно, засунув кулачки в карманы дешевого пальто, потому что пришла с холода, а ее стройные и, пожалуй, красивые ноги были аккуратно сдвинуты, колено к колену, лодыжка к лодыжке.
– Может быть, выпьете чашечку кофе…
Нельзя же было пригласить ее в кабинет, служивший также гостиной, и предложить ей чего-нибудь покрепче. Она пошла за ним на кухню, но, когда пододвинула единственный стул, чтобы выпить кофе за кухонным столом, он сказал:
– Нет, отнесите его туда. – И провел ее в большую комнату, в которой среди книг и бумаг, среди папок с научной перепиской (и коробок из-под сигар со снятыми с конвертов марками), среди стеллажей с пластинками, среди образцов минералов и горных пород он жил совсем один.
Ее это нисколько не затрудняло, и она избавила его от необходимости заходить в универсам: раза два-три в неделю делала за него покупки и приносила ему домой. Он только оставлял список и ключ под ковриком перед дверью, она заходила за ними в обеденный перерыв, а после работы приносила все купленное на кухню. Иногда он бывал дома, иногда нет. Он купил коробку шоколадных конфет и оставил с запиской на кухне – по-видимому, такой знак благодарности был приемлем.
Ее взгляд вбирал в квартире все, хотя ее тело старалось скрыть ощущение своей неуместности здесь и сжималось на предложенном ей стуле, застывая в неподвижности, словно снятое гостем пальто, которое остается лежать там, где его бросили.
– Вы коллекционируете?
– Это образцы. Они нужны мне для работы.
– Мой брат прежде коллекционировал. Бутылочки. С виски и коньяком. Отовсюду. Из разных стран.
Когда он второй раз пригласил ее выпить кофе и начал его молоть, она сказала:
– Вы всегда это делаете? Когда варите кофе?
– Ну разумеется. Вам не нравится? Слишком крепко?
– Просто я не привыкла. Мы покупаем его готовым. Ну, знаете, в бутылке. И доливаем в молоко или кипяток.
Он засмеялся и сказал наставительно:
– Так это же не кофе. Подделка, для запаха. У меня на родине мы пьем только настоящий кофе, и всегда свежесмолотый. Чувствуете, как он благоухает, когда его мелют?
В вестибюле ее остановил швейцар и спросил, что ей тут нужно. Прижимая к груди пакеты, наглядно подтверждающие правдивость ее слов, она сказала, что работает в семьсот восемнадцатой квартире на седьмом этаже. Швейцар ничего не сказал, когда она пошла к лифту для белых. Ведь все-таки она не черная, а из семьи с очень светлой кожей!
В одном из списков он написал «серая пуговица для брюк», и, выкладывая пакеты из взятой в универсаме сумки, она сказала:
– Ну так дайте мне штаны. Сейчас. – И, сидя с ними на его диване, как всегда шершавом от рассыпанного трубочного табака, она втыкала иглу и продергивала нитку по четырем дырочкам пуговицы уверенными и выразительными движениями правой руки, которые возмещали бедность и скованность ее речи. Улыбаясь, она открывала крестьянский, деревенский (определил он про себя) просвет между передними зубами, который ему не нравился. Но теперь, когда лицо было повернуто вполоборота, глаза сосредоточенно опущены, а нежные губы почти сомкнуты, это большого значения не имело. Он сказал, глядя, как она шьет:
– Вы хорошая девушка, – и погладил ее по плечу.
Каждый раз, когда они под вечер вставали с постели, она, одевшись, перестилала ее, прежде чем уйти. Однажды, неделю спустя, вечер уже наступил, а они все еще были в постели.
– Ты не могла бы остаться на ночь?
– Но моя мама, – сказала она.
– Позвони ей. Придумай что-нибудь.
Он был иностранцем. Он прожил в стране пять лет, но не понимал, что там, где она живет, домашних телефонов у людей нет. Она встала и начала одеваться. Ему не хотелось, чтобы это теплое тело обдал ночной холод улицы, и он мешал ей, отвлекая ее прикосновениями, но ничего не говорил. Когда ее тело скрылось под одеждой и она взяла пальто, он сказал:
– Но ты должна что-нибудь устроить.
– Мама, мама! – Он не понял, почему ее лицо стало испуганным, растерянным.
Вряд ли все-таки эта женщина считает свою дочку чистой и нетронутой девственницей…
– Но почему? Она ответила:
– Ей будет страшно. Очень страшно, что нас поймают.
– А ты ничего ей не говори. Скажи только, что служишь у меня.
В этой стране, где он работал сейчас, на чердаках многоквартирных домов обычно были комнаты для прислуги, нанятой жильцами.
– Я так и сказала швейцару, – ответила она.
Она молола кофе всякий раз, когда, работая по вечерам, он просил сварить ему чашку. Сначала она ничего ему не готовила и только молча наблюдала, как он сам готовит простые блюда, которые предпочитал, пока не научилась делать все точно так, как ему нравилось. Она перебирала его образцы, сначала просто любуясь: «Какое красивое было бы ожерелье или кольцо!» Потом он показывал ей строение каждого из своих камней и объяснял, как они образовывались на протяжении долгой жизни Земли. Он называл минералы и рассказывал, для чего они нужны. Каждый вечер он сидел над своими бумагами и писал, писал, а потому было неважно, что они никуда не могут пойти вместе. По воскресеньям она садилась в его машину в подвальном гараже, и они уезжали за город и останавливались перекусить где-нибудь в глухом уголке Магалисберга, где никого не было. Он читал или осматривал скалы; вместе они карабкались к горным озерцам. Он учил ее плавать. Она никогда не видела моря. В воде она вскрикивала и взвизгивала, показывая просвет между зубами, как будто (подумал он) была среди своих. Иногда он обедал у кого-нибудь из сослуживцев. Она шила, слушала радио, и он, возвращаясь, находил ее уже в постели, теплую, спящую. Он обнимал ее, не говоря ни слова, и также молча она отвечала на его объятие. Однажды он одевался, собираясь на обед в своем консульстве, и, глядя, как он смахивает волоски, прилипшие к плечам смокинга, который так ему шел, она представила себе огромный зал в сиянии люстр и под ними людей, танцующих какой-то танец из исторического фильма – рука об руку, величаво. Она подумала, что, наверное, он заедет за своей дамой и та сядет в машину на ее место. Они не целовались на прощанье, когда кто-нибудь из них уходил, но на этот раз, прежде чем взять сигареты и ключи, он неожиданно остановился и сказал ласково:
– Не скучай. – И добавил. – А почему бы тебе не навестить своих, раз мне надо уйти вечером?
Он говорил ей, что после рождества уедет к матери в родные леса и горы вблизи границы с Италией (он показал ей на карте). Она не говорила ему, что ее мать, не зная, что доктора бывают разные, решила, будто он врач, а потому она рассказывала матери про детей доктора и про жену доктора, очень добрую даму, которая очень рада, что кто-то не только убирает квартиру, но и помогает в приемной.
Она удивлялась его способности работать далеко за полночь после целого дня на службе. А она вставала из-за кассы в универсаме такой усталой, что начинала засыпать еще за ужином. Он объяснил, стараясь, чтобы ей было понятно, что работа кассирши однообразна, не требует никаких умственных или физических усилий, не пробуждает мыслей, а потому ничего ей не дает, его же работа для него – самое интересное в жизни, она заставляет его напрягать все внимание, пускать в ход все умственные способности и постоянно вознаграждает его, предлагая все новые и новые увлекательные задачи, а не только удовлетворение от найденных верных решений. Позже он сказал, отложив бумаги и прервав долгое молчание:
– А какую-нибудь другую работу ты пробовала?
– Раньше я работала на швейной фабрике, – сказала она. – Спортивные рубашки, знаете? Но в магазине больше платят.
Он добросовестно читал газеты тех стран, в которых жил, и, конечно, знал, что предприятиям розничной торговли в этой стране лишь совсем недавно было разрешено нанимать цветных, а потому даже место за кассой знаменовало продвижение вверх. Если же на подобные профессии по-прежнему не будет хватать белых, то у такой девушки появляется надежда еще чуть-чуть продвинуться, уже в категории служащих. Он начал учить ее печатать на машинке. Он понимал, что по-английски она говорит не слишком свободно, но ему, иностранцу, ее акцент не резал слуха и не напоминал, кто она такая, как напоминал бы человеку его образования и положения, чьим родным языком был бы английский. Он поправлял ее грамматические ошибки, но не замечал других, не столь очевидных, так как сам иной раз оказывался повинен почти в тех же грехах. И потому, что он был иностранцем (хотя и необыкновенно умным, как ей представлялось), она меньше смущалась из-за слов, в правописании которых путалась, когда печатала их. Сидя за машинкой, она думала о том, как будет перепечатывать его заметки, а не только варить ему кофе по его вкусу и молча обнимать его в постели или даже ехать в его машине ("пусть только по безлюдным воскресным улицам), сидя рядом с ним.
Однажды летним вечером незадолго до рождества (он уже купил и спрятал немножко слишком броские, но дорогие часы, которые, по его мнению, должны были ей понравиться) раздался стук в дверь, заставивший ее выбежать из ванной, а его – вскочить из-за рабочего стола. По вечерам к нему никто никогда не приходил: у него не нашлось бы друзей столь близких, чтобы навестить его без предупреждения. Стук был громким, требовательным, непрерывным, и стало ясно, что положить ему конец можно, только открыв дверь.
Она стояла на пороге ванной и глядела через коридор в большую комнату, на него. Большое мохнатое полотенце не закрывало ее плеч и босых ног. Она не сказала ни слова, даже ничего не прошептала. Вся квартира словно содрогалась от неторопливых, размеренных ударов.
Он, наконец, сделал движение в сторону коридора, но она кинулась к нему, ухватилась за него обеими руками и отчаянно замотала головой. Ее губы раскрылись, но зубы были стиснуты, и она ничего не сказала. Втащив его в спальню, она схватила что-то из лежавшей на кровати стопки чистого белья, прыгнула в стенной шкаф и сунула ему в руку ключ. Хотя по рукам и ногам у него бегали холодные мурашки, ему стало противно и стыдно при виде того, как она забилась за его костюмы и пальто. Это было отвратительно, нелепо.
– Выйди оттуда, – сказал он вполголоса. – Так невозможно! Выходи.
– Куда? – прошептала она. – Куда мне деваться?
– Неважно! Вылезай же!
Он протянул руку, чтобы вытащить ее. Затравленно, на пределе отчаяния она прошептала, показав щель между зубами:
– Я выброшусь в окно.
Она насильно сунула ему в руку ключ, словно рукоятку ножа. Он закрыл дверцу перед ее лицом, с силой повернул ключ в замке и опустил его в карман брюк, где лежала мелочь.
Сняв цепочку, он повернул ребристую ручку английского замка. Трое полицейских, двое из них в штатском, стояли перед дверью с терпеливым видом, словно это не они стучали в нее несколько минут. Крупный брюнет с пышными усами протянул руку, на которой поблескивал позолоченный перстень, и показал какое-то удостоверение.
Доктор фон Лейнсдорф спросил негромко, чувствуя, как к его рукам и ногам вдруг прихлынула кровь:
– В чем дело?
Им известно, сказал сержант, что здесь находится цветная девушка.
– Я знаю это, я слежу за вашей квартирой три месяца.
– Кроме меня, тут никого нет, – сказал доктор фон Лейнсдорф, не повышая голоса.
– Я знаю, я знаю, кто здесь. Пошли…
Сержант и его помощники осмотрели гостиную, кухню, ванную (где сержант, взяв флакон с лосьоном для освежения кожи после бритья, внимательно изучил французскую этикетку) и направились в спальню. Помощники переложили стопку чистого белья с кровати на стул, завернули одеяло, сдернули простыни и подали их сержанту, а он начал рассматривать их под лампой. Они переговаривались на африкаанс, которого доктор фон Лейнсдорф не понимал.
Сержант сам заглянул под кровать и приподнял длинную оконную занавеску. Убедившись, что стенной шкаф (у которого не было ручек) заперт, он что-то сказал на африкаанс, но потом вежливо перешел на английский:
– Дайте нам ключ.
Доктор фон Лейнсдорф ответил:
– Мне очень жаль, но я забыл его у себя на работе. Я всегда по утрам все запираю и ключи беру с собой.
– А, бросьте! Давайте ключ. Он снисходительно улыбнулся.
– Но ключ лежит в столе в моем рабочем кабинете.
Помощник достал отвертку, и он смотрел, как они вставили ее между дверцами и нажали резко, но не сильно. Замок щелкнул.
Когда они начали стучать в дверь, она вышла из ванны голой. Но теперь на ней были джинсы и рубашка с длинными рукавами, открытым воротом и узором из бабочек на левой стороне груди. Ноги у нее по-прежнему были босыми. В темноте и тесноте она кое-как сумела надеть вещи, которые схватила с кровати, но туфель она не взяла. По-видимому, она плакала (на щеках остались следы слез), но теперь ее лицо было насупленным и она тяжело дышала: ее грудь под рубашкой вздымалась, диафрагма судорожно сокращалась. Из-за этого она выглядела рассерженной, но, возможно, в шкафу попросту было душно и она старалась отдышаться. Она не смотрела на доктора фон Лейнсдорфа. И не отвечала на вопросы сержанта.
Их забрали в участок, и там их раздельно осмотрел полицейский врач. Его белье, как раньше простыни, забрали, чтобы сделать анализ. Когда ее раздели, выяснилось, что под джинсами на ней надеты мужские трусы с фамилией доктора фон Лейнсдорфа на аккуратно пришитой метке прачечной. В спешке она схватила их вместо своих.
Теперь, стоя перед полицейским врачом в мужских трусах, она заплакала.
Он вежливо не обратил на это внимания и, передав трусы, джинсы и рубашку за дверь, сделал ей знак лечь на высокий, покрытый белой простыней стол. Он раздвинул ее ноги, положил их на упоры, ввел ей внутрь твердый холодный инструмент и начал его развинчивать все шире и шире. Ее ноги и бедра сотрясала неудержимая дрожь, а врач осматривал ее, брал другие инструменты и марлевые тампоны.
Когда она вышла из этой комнаты в приемную, доктора фон Лейнсдорфа там не было. Его, по-видимому, куда-то увезли. Остаток ночи она провела в камере, как, наверное, и он, но рано утром ее отпустили, и какой-то белый отвез ее домой к матери. Он объяснил, что он – помощник адвоката, которого нанял для нее доктор фон Лейнсдорф. Сам доктор Лейнсдорф, сказал он, тоже был утром отпущен под залог. Но он ничего не сказал о том, увидит ли она снова доктора фон Лейнсдорфа.
Он и она предстали пред судом по обвинению в нарушении закона о нравственности, совершенном ими в йоханнесбургской квартире… декабря 19.. года, и судье были вручены показания, которые девушка дала полиции: «Я жила у этого белого мужчины в его квартире. Иногда он совершал со мной половой акт. Он давал мне таблетки, чтобы я не забеременела».
Репортерам воскресных газет девушка сказала: «Я сожалею о горе, которое причинила моей матери». Она сказала, что ее мать работает в прачечной и их, детей, у нее девять. Она ушла из школы после третьего класса, потому что у них не было денег, чтобы купить гимнастический костюм и школьную форму. Она работала швеей на фабрике и кассиршей в универсаме. Доктор фон Лейнсдорф учил ее перепечатывать на машинке его заметки.








