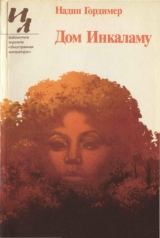
Текст книги "Дом Инкаламу (сборник)"
Автор книги: Надин Гордимер
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Эдгар Ксиксо рассказывал между тем, что его вызывали в Особый отдел полиции на допрос.
– А ведь я никогда не состоял ни в одной политической организации, никогда ни в чем не обвинялся, и им это известно. Знакомых среди политических эмигрантов в Лесото у меня тоже нет. Я и не собираюсь ни с кем там встречаться, но ездить туда и обратно мне необходимо: у меня торговое агентство, продаю всякое оборудование для алмазных копей, и дело могло быть прибыльное, да вот…
– Может, надо кое-кого подмазать, – заметил Джейсон Мадела, накладывая себе салат.
Ксиксо испуганно вскинулся:
– А если нарвешься на такого, кто не берет, тогда ведь… Да еще при моей профессии, я же юрист!
– Чутье, – бросил Мадела. – Научиться этому нельзя.
– Объясните мне… – благодарственным жестом Серетти отказался от второго куска утки, предложенного хозяйкой, и, повернувшись к Маделе, продолжал. – Вы считаете, что взятки играют большую роль в повседневных отношениях между африканцами и представителями власти? Разумеется, я не о политическом отделе полиции, а о белом государственном аппарате вообще. Таков ваш личный опыт?
Мадела отпил вина и, поворачивая бутылку, чтобы разглядеть этикетку, ответил:
– Нет, я не назвал бы это подкупом – в том смысле, в ка-понимают у вас. А так, по мелочам… Когда у меня транспортная контора, приходилось к этому прибегать. Водительские права для шоферов и все такое. Выискиваешь какого-нибудь молодого клерка из африканеров: зарабатывают они мало и не прочь получить шиллинг-другой – все равно кого. Среди них попадаются понятливые. Можно бы, наверное, найти кого-нибудь чином повыше в Управлении по делам банту. Но тут надо суметь распознать подходящего человека… – Он поставил бутылку на стол, улыбнулся Фрэнсис. – Слава богу теперь я со всем этим разделался. Вот если только надумаю предложить какое-нибудь из моих снадобий бюро стандартов, а? – И он рассмеялся.
– Джейсон нарушил монополию белых на выпрямитель для волос, – весело пояснила Фрэнсис. – Но, что очень мило с его стороны, сам он не питает никаких иллюзий насчет качества своей продукции.
– Зато очень верю в ее будущее, – подхватил Джейсон. – Сейчас вот подумываю, не начать ли экспортировать в Штаты свои таблетки для мужчин. По-моему, как раз приспело время дать американским неграм приятное сознание, что они могут вновь обрести чуточку старой Африки – самую малость, во флакончике, а?
Ксиксо терзал утиную ножку с таким видом, будто это и было то неодолимое препятствие, о котором он только что рассказывал.
– Понимаете, я им все твержу: ну покажите мне в моем досье хоть что-нибудь такое…
Молодой журналист Спаде Бутелези вставил обычным для него брюзгливым тоном:
– А может, это потому, что к тебе перешла лавочка Самсона Думиле?
Всякий раз, как в разговоре упоминалось новое для него имя, Серетти напряженно прищуривался.
– Ну да, в этом все дело! – жалобно подтвердил Ксиксо, глядя на него. – Человек, на которого я работал, некто Думиле, проходил по одному из политических процессов, ему дали шесть лет; но ведь я взял у него только благонадежную клиентуру; даже контора моя в другом здании, а с прежней у меня нет ничего общего; и все-таки дело именно в этом.
Фрэнсис вдруг вспомнился Сэм Думиле, как он сидел у нее вот тут, на этой самой веранде, три – а может, всего два? – года назад, рассказывал, что позапрошлой ночью в дом к нему ворвалась полиция, и оглушительно хохотал, повторяя слова своей маленькой дочки, объявившей полицейскому: «Папа очень сердится, когда играют его бумагами!»
Джейсон поднял бутылку, молча показывая хозяйке, что собирается налить всем, и она сказала:
– Да, да, пожалуйста… А что с его детьми?
Хотя Джейсон и понял, кого она имеет в виду, он счел нужным вежливо уточнить:
– С детьми Сэма?
Но тут заговорил Серетти, обращаясь к Эдгару Ксиксо:
– Действительно ужасная история. Бог ты мой! Видимо, вам из этого дела не выпутаться, как ни старайтесь. Бог ты мой!
И Эдгар Ксиксо усиленно закивал в ответ. Так что Джейсон продолжил негромко, чтобы слышно было одной только Фрэнсис:
– Наверно, они у кого-нибудь из родни. У него сестра в Блумфонтейне.
На десерт были свежие манго со сливками – фирменное блюдо хозяйки дома.
– Манго а-ля Фрэнсис, – сказал американец. – Это одно из моих африканских открытий, которое я буду рекламировать.
Но Джейсон Мадела заявил, что у него манго вызывает аллергию, и принялся за сыр. Откупорили еще бутылку вина, специально к сыру, и тут снова раздался общий смех (Роберт Серетти поспешил обратить его на себя): как выяснилось из разговора, Спаде Бутелези почему-то решил, будто Серетти имеет отношение к некоему американскому фонду. Но все были настроены на благодушный лад едой, выпивкой, ярким солнцем, в лучах которого слоями плыл табачный дым, и не мешали Бутелези изливаться, хотя то, что он говорил, было им давно известно. А тот, не желая, чтобы заготовленная им тирада пропала зря, атаковал Серетти: пусть устроит ему стипендию, тогда он сможет докончить свою пьесу. В который раз они выслушали содержание и основную идею пьесы – «прямо из жизни тауншипа», как без конца твердил Бутелези, уверенный, что это – единственно необходимое условие авторской удачи. Ведь он терпеливо, по многу раз соединял и вновь разъединял различные компоненты, добросовестно извлеченные им из книг тех африканских писателей, которым удалось напечататься: к тому же он и сам африканец; стало быть, для успеха ему требуется одно: чтобы кто-то взял его под свое покровительство, что же еще?
И хотя Серетти не имел отношения ни к какому фонду, он вежливо поинтересовался:
– Фрэнсис, вы вообще-то знакомы с этой пьесой? Я хочу сказать, – тут он вновь повернулся к молодому журналисту, чье круглое лицо под влиянием выпитого стало более простым и открытым, – настолько ли она готова, чтобы можно было ее кому-нибудь дать прочесть?
Неожиданно для себя Фрэнсис ободряюще улыбнулась:
– Да, я видела первоначальный набросок; он потом над ним основательно поработал, верно ведь, Спаде?.. И даже, кажется, состоялось чтение?..
– Я вам ее непременно принесу, – объявил Бутелези и записал название гостиницы, где остановился Серетти.
Они вновь перешли на веранду – пить кофе с коньяком. Было уже около четырех, когда гости поднялись и стали прощаться. Серетти просто сиял.
– Джейсон Мадела обещал подбросить меня в город, так что не утруждайте себя, Фрэнсис. Я говорю ему: американцам трудно будет поверить, что мне довелось побывать здесь, у вас, на таком вот ленче. До того было приятно, по-настоящему приятно. Мы все чудесно провели время. Джейсон говорит, несколько лет назад такие встречи были делом обычным, но теперь мало кто из белых отважится пригласить африканцев и мало кто из африканцев отважится принять приглашение. Я получил истинное удовольствие… Надеюсь, мы вам не очень надоели – так засиделись… Мне исключительно повезло.
Фрэнсис проводила их до садовой калитки – все оживленно болтали, смеялись; последние реплики и слова прощания донеслись до нее уже из-за деревьев, которыми была обсажена улица белого предместья, где она жила.
Когда она вернулась, опустевшая веранда еще полнилась гулом голосов, словно башня после того, как отзвучит бой курантов. Кто-то оставил полупустую пачку сигарет, а кто же это наломал спичек и построил из них шалашики? Фрэнсис вынесла поднос на кухню и тут заметила записку – пять слов на обороте счета, снятого с металлического шпенька: «Надеюсь, вы славно провели время»
Подписи нет. Написано шариковой ручкой, свисающей на ниточке с кухонной стены. Но она знала, от кого это: видение из прошлого побывало здесь и снова исчезло.
Помещение для слуг – Амоса и Бетти – находилось в глубине двора за завесой из дикого винограда. Она позвала Бетти и спросила, не заходил ли кто-нибудь. Нет, никого не было.
Должно быть, в послеполуденной тишине он услыхал голоса, а может, просто увидел возле дома машины и ушел. Интересно, понял он, кто у нее здесь собрался? И почему ушел – чтобы не подвергать ее опасности? Хотя Фрэнсис, разумеется, никогда с ним об этом не говорила, он, вероятно, знал: степень риска, который она позволяет себе, строго дозирована, очень строго. Скрыть это от такого человека, как он,было просто немыслимо. Тут ей представилась усмешка, которую вызвал у него подбор гостей: Джейсон Мадела, Эдгар Ксиксо и Спаде Бутелези – да, да, и Спаде Бутелези. Но, может быть, она ошибается, может, ему и самому хотелось к ним присоединиться, и вовсе не было у него той укоризны, того презрения, которые почудились ей в выражении его лица, во всем его облике, когда он предстал перед ее мысленным взором. «НАДЕЮСЬ, ВЫ СЛАВНО ПРОВЕЛИ ВРЕМЯ»…
Возможно, он только это и имел в виду.
Фрэнсис Тейвер знала, что Роберт Серетти скоро уезжает, но когда именно, ей известно не было. Каждый день она говорила себе: «Надо бы позвонить ему, сказать до свидания».
Но она ведь уже попрощалась с ним – в тот день после ленча. Просто позвонить, сказать: «До свидания»… В пятницу утром, когда она уже была совершенно уверена в том, что не застанет его, Фрэнсис позвонила в гостиницу, и оказалось – он еще здесь. В трубке послышался осторожный, негромкий голос американца. Сперва она смешалась. Он говорил, что так рад ее слышать, а она все повторяла:
– Я думала, вы уже уехали… Наконец она решилась:
– Мне хотелось вам только сказать – ну, по поводу ленча. Чтобы вы не обманывались насчет тех людей…
Он вставил:
– Фрэнсис, я так вам обязан, право же, вы были великолепны.
– …про них не скажешь, что они «липа», нет, в том-то и дело, что они вполне реальные, вы меня поняли?
– О, этот ваш друг, ну, такой рослый, красивый, он – чудо. Знаете, в субботу вечером мы с ним ездили… – Серетти явно гордился приключением, но не хотел употреблять в телефонном разговоре слово «шибин» [10]10
Кабачки для африканцев, существующие без разрешения властей.
[Закрыть].
– Нужно, чтобы вы поняли, – настаивала она. – Потому что коррупция, разложение – вещь реальная. Даже эти люди – они смогли стать тем, что они есть, именно потому, что обстоятельства сложились так, как у нас сейчас. «Липовые» они в том смысле, что порождены нынешней конъюнктурой… А она разлагает людей, и вот это уже – очень реально. Мы все – ее порождение.
Возможно, в телефонном разговоре ему было трудно следить за ходом ее мысли, и потому он ухватился за подвернувшееся словцо:
– Да-да, тот самый, который «конъюнктура», – ему удалось протащить меня в такое веселое местечко, такое веселое!
Но Фрэнсис повторила:
– Я хочу только, чтобы вы не обманывались…
Настойчивость и тревога в ее голосе заставили его смолкнуть, ему тоже стало не по себе, хоть он и не мог понять, о чем идет речь.
– …насчет нас всех, – закончила она.
До него дошло только одно: что-то не так, причем что-то запутанное и сложное, но он знал, что скоро уедет отсюда и уже не успеет во всем этом разобраться, да и вообще, чтобы разобраться, нужно, наверное, здесь родиться и прожить всю жизнь. И потому она услыхала в ответ лишь успокаивающие слова:
– Все было чудесно… Ей-богу, чудесно. Надеюсь, мне все-таки доведется еще раз сюда приехать – ну если, конечно, меня впустят…
Перевод С.Митиной
Встреча в пространстве
Каждое утро Клайва посылали в булочную, и французские ребятишки внезапно возникали откуда-то из сумрака стен, словно бродячие кошки, и шли за ним по пятам. Понять, о чем они говорят между собою, он не мог, но почему пересмеиваются – догадывался: ведь он чужак. Всякий раз, выходя из дому, он ждал: вот сейчас ему станет жутко и в то же время как-то противно оттого, что они идут за ним следом; у каждой улочки, у каждой подворотни, у каждой щели его подстерегал страх: сейчас, сейчас они появятся. В булочную они заходить не решались. Скорей всего, запрещал булочник – ведь сразу видно, что они бедные, а бедные дети воруют, это Клайву было известно – вот хоть бы черные ребятишки там, дома, в Южной Африке. На родине он не бывал в булочной ни разу: рассыльный-африканец приезжал на велосипеде с тележкой; проносил хлеб через задний двор, держа его над головой и увертываясь от лающих собак, и клал на кухонный стол две булки и буханку обдирного. Так же было с фруктами и овощами: зеленщик, старый индиец Валлабхбхай, подъезжал на фургончике к задней калитке и его подручный-негритенок заносил все, что нужно, прямо в кухню.
Но здесь, во Франции, говорили родители, одно из развлечений – делать покупки самим в лавчушках, что прячутся в расщелинах горбатых улиц. Они заставляли Клайва снова и снова повторять французские слова, которые он должен сказать в булочной, но там он все равно ничего не говорил, просто показывал пальцем: мне вон это, а потом протягивал на ладони деньги. У него даже появлялось такое чувство, будто он вовсе не Клайв, а другой человек, немой. Дня через три, получив сдачу, он уже тыкал пальцем снова – на этот раз в сдобную булочку с вареньем. Теперь его встречали как постоянного покупателя: продавщица что-то приветливо ему говорила улыбалась, склонив голову набок, но он не поддавался, молча протягивал на ладони монетку.
Иногда одновременно с компанией мальчишек, которые всякий раз за ним увязывались, появлялся еще один: громко поздоровается с остальными через улицу на их языке, пройдется с ними немножко, поболтает, но сразу видно было, что он не из них. Может, потому, что он богаче, решил Клайв. Хотя на нем были такие же хлопчатобумажные шорты и парусиновые туфли, как у других, он был обвешан разными штуковинами в кожаных футлярах – фотоаппарат и еще какие-то две… А потом он стал по утрам появляться в булочной. Станет рядом с Клайвом, будто тот не только «немой», но еще и невидимка, и вскинув голову с блестящей каштановой гривой, обводит взглядом знатока выставленные на прилавке торты, а сам весело так, по-свойски болтает с продавщицей – наверно, об этих самых тортах. Он неожиданно возникал и в других местах, но один. Как-то Клайв увидел его в самом начале подземного перехода (им сразу можно было попасть из верхней части деревни в нижнюю, и воняло там, как в школьной уборной): мальчишка стоял, привалясь к сырой стене. Другой раз он выскочил из обшарпанного розового домика, перед которым стояли высокие, как из арабских сказок, горшки – похоже было, что он следил за Клайвом из окна. А еще как-то на виду у Клайва он прошелся, покачивая для равновесия руками, по гребню стены, под которой была площадка, где булочник с другими мужчинами гонял под вечер тяжелые шары. Наконец он появился возле виллы, где отдыхала семья Клайва: уселся на крылечке дома напротив и принялся что-то налаживать в своем фотоаппарате.
– Англичанин? – спросил он Клайва.
– Да… Не совсем… Нет. То есть говорю я по-английски, но я из Южной Африки.
– Из Африки? Из самой Африки приехал? Это же чертова даль!
– Всего часов пятнадцать, около того. Мы на реактиве летели. У нас, правда, вышло немного дольше – понимаешь, в одном двигателе что-то заело и пришлось среди ночи три часа просидеть в Кано. Ох и жарища же там! И настоящий верблюд около нас бродил.
Клайв смолк. В его семье считали, что рассказывать слишком длинно – тоску на людей нагонять.
– Я тоже кое-чего повидал интересного. Предки раскатывает вокруг шарика и часто берут меня с собой. Осенью вернусь домой, похожу немножко в школу. Лабуда. Африка, а? Фантастика! Может, выберемся туда как-нибудь. Слушай, ты в этих проклятущих «Полароидах» мерекаешь? У меня заколодило. А я тебя снял раза два, могу показать. Снимаю скрытой камерой. Повсюду тут хожу, щелкаю. У меня еще один аппарат есть – «Минокс», но я все больше «Полароидом» – проявляет прямо сам, тут же: щелкнул кого-нибудь, и, пожалуйста, сразу отдаешь человеку фото. Для потехи. Кое-что здорово интересно получилось.
– А меня ты где? На улице?
– Ну, я же повсюду щелкаю, все время.
– А в другом футляре у тебя что?
– Маг. Я и тебя запишу. Повсюду записываю – и в баре Зизи, и на площади, люди понятия не имеют; понимаешь, у меня микрофончик маленький такой, «жучок». Фан-тастика!
– А вон в этом что?
Серебристой волшебной палочкой выпрыгнула антенна.
– Транзистор, что же еще! Мой любимый транзистор. Знаешь, что я сейчас слушал? «Помоги!» Там, у вас в Африке, биттлов любят?
– Мы их в Лондоне слушали – их самих. Брат, сестра и я. Сестра купила пластинку «Помоги!», но здесь нам не на чем ее слушать.
– Надо же, везет некоторым! Видели живых биттлов, а? Я волосы отпускаю, чтобы как у них, обратил внимание? Эй, слушай, я притащу к вам маленький проигрыватель, пусть сестренка послушает «Помоги!».
– А когда ты можешь прийти?
– Когда скажешь. Я такой: одна нога здесь, другая там.
Сейчас, правда, надо тащиться на урок французского, черт бы его взял, а в двенадцать заскочить домой – эта старушенция мадам Бланш, должна покормить меня, прежде чем смотается зато потом мне лафа, могу прийти в любое время!
– Тогда давай сразу после ленча. Часа в два. Жду тебя здесь. А не мог бы ты прихватить снимки – ну те, где я?
Клайв опрометью бросился через дворик, толкнул затянутую металлической сеткой дверь, и она с треском захлопнулась за ним.
– Эй, тут есть один мальчик, говорит по-английски! Сейчас мы с ним болтали. Настоящий американец, выговор американский-разамериканский, вот услышите. А чего у него только нет! Вы бы видели: фотоаппарат «Полароид» – он меня щелкнул несколько раз, а я его даже не знал тогда, и еще «жучок», это маленький такой магнитофончик, записываешь людей, а они и не знают, и еще транзистор, ой, крохотный совсем, в жизни такого не видел!
– Значит, нашел себе приятеля. Слава богу, – сказала мать. Она нарезала для салата зеленый перец и протянула Клайву ломтик на кончике ножа, но он даже не заметил.
– Он ездит по всему свету, только иногда приезжает домой, немножко походить в школу.
– Да ну, а где он учится? В Нью-Йорке?
– Не знаю. Сказал, учится в Лабуде, что-то в этом роде. «Лабуда!» – так он сказал.
– Глупенький, это не название школы, а жаргонное словцо.
Здесь же, в комнате, служившей кухней и столовой, была душевая, и выдвижная дверь ее, замаскированная под дверцы буфета, вдруг заходила ходуном – кому-то не терпелось оттуда выскочить. Рывок – и показалась голова сестры.
– Кого ты себе нашел? Кого?
Лицо ее под хлорвиниловой купальной шапочкой все так и светилось безмерной надеждой, которую она возлагала на эту поездку.
– И мы сможем послушать твою пластинку, Джен, он принесет проигрыватель. Он американец.
– А лет ему сколько?
– Сколько и мне. Около того.
Она стянула шапочку, прямые волосы упали ей на плечи и на лицо, закрыв его до ресниц.
– Отлично, – бросила она деловито.
Отец читал «Утреннюю Ниццу», сидя у обеденного стола на стуле, чехол которого был вроде женской одежды: вокруг сиденья – желтая юбочка, жесткая спинка тоже чем-то обтянута. Когда Клайв вбежал, отец шутки ради подставил ему ногу – впрочем, безуспешно; ему подумалось, что надо бы еще как-то проявить к мальчику интерес, и, словно желая показать, что он все время прислушивался к разговору, он спросил:
– А как зовут твоего приятеля?
– Ой, не знаю. Он американец, ну, такой, знаешь – ходит с тремя кожаными футлярами.
– А… а… Так-так.
– Да он сегодня после ленча к нам придет. Отпускает волосы – под биттлов.
Это – специально для сестры; она уже добежала до середины каменной лестницы, оставив за собою вереницу мокрых следов, но сразу же обернулась на его слова.
А вот Дженни – она была уже большая и знакомила людей друг с другом по-взрослому – конечно же, сразу спросила американца, как его зовут. И ответ получила весьма обстоятельный:
– Ну, вообще-то меня зовут Мэтт – это сокращенное от Мэттью, второго моего имени. А полностью – Николас Мэттью Руте Келлер.
– Келлер-младший? – поддела его Дженни. – Келлер-третий?
– Ну почему же! Просто отца зовут Доналд Руте Келлер. А меня назвали в честь деда по матери. Ух и семьища же у нее – сила. Ее братья наполучали в войну целых пять орденов. Самый младший мой дядя, Род, – так у него дырка в спине, где ребра, такая здоровая – рука входит. Моя рука, не взрослого, – добавил он и сжал в кулак маленькую, худую, загорелую кисть. – На сколько еще у меня должна вырасти рука? Раза в полтора, а? Ну, чтоб кулак был большой, как у настоящего мужчины?
И он поднес руку к руке Клайва. Двое десятилетних с жадным интересом смерили кулаки: у кого больше.
– К твоему кулаку в придачу кулак Клайва – вот и будет Кулак Настоящего Мужчины, Удальца и Храбреца. Наша фирма высылает кулаки почтой. Не забудьте вырезать из газеты купон с нашим адресом. Достаточно вложить в конверт верх от коробки или разборчивый образец вашей подписи, – насмешливо сказал Марк, старший брат Клайва.
Но мальчики пропустили его издевку мимо ушей, а может, просто не поняли, что он над ними потешается. Не то Клайв, вероятно, улыбнулся бы, смущенно и вместе с тем горделиво – ведь блеск журнальной рекламы, которую высмеивал брат, чтобы поддеть его друга американца, падал отраженным светом и на него, Клайва. А Мэтт как ни в чем не бывало продолжал рассказывать дальше, с простодушием человека, считающего свою историю столь же обыкновенной и привычной, как привычны были для него когда-то материнские колени.
С того дня, когда новая пластинка биттлов впервые была прослушана на его проигрывателе, он зачастил на виллу. Пока родители спали после обеда, молодежи делать было нечего – только ждать. На площади, где Дженни любила прогуливаться по вечерам, ловя безмолвные взгляды местных мальчиков, не знающих английского, в эту пору была тощища, и они снова и снова ставили пластинку в просторной беседке на заднем дворе (до того, как крестьянский домик, где они остановились, стал «виллой», беседка была свинарником). Когда же пластинка надоела, Мэтт записал их голоса.
– Наговорите мне чего-нибудь по-африкански! – попросил он.
И Марк выдал ему какую-то дикую мешанину: несколько застрявших у него в памяти зулусских слов и боевой клич, каким воины приветствуют вождя; всякие предупреждения с дорожных знаков и ругательства – на африкаанс. Когда Мэтт запустил ленту, оба брата и сестра в полном упоении откинулись на спинки своих шатких стульев, едва удержавшихся на ДВУХ задних ножках, но Мэтт слушал очень серьезно, напряженно сощурил глаза, прижал кончик языка к зубам – совсем как орнитолог, которому удалось записать пение редких птиц.
– Ух сила! Вот спасибо! Фан-тастика! Войдет в мой документальный фильм. Кое-что сниму отцовской кинокамерой – думаю, он даст, а кое-что нащелкаю скрытой камерой. Сейчас пишу сценарий. Это у нас, знаете ли, семейное.
Он уже успел им рассказать, что отец его пишет книгу (точней говоря, серию книг – отдельно про каждую страну, где они побывали), а мать ему помогает.
– Работают строго по графику – начинают около полудня и сидят до часу ночи. Поэтому мне велят сматываться из дому рано утром и не показываться, пока они не встанут к ленчу. Потому же самому надо уходить из дому и под вечер: им нужно, чтоб было спокойно и тихо. Чтоб им не мешали спать и работать.
Дженни сказала отцу:
– А видел ты, какие у него шорты? Из того самого мадрас-ского ситца, который так рекламируют. При стирке получаются потеки. Купил бы ты нам здесь такие!
– Пап, а транзистор у него – чудо!
Марк сидел босой, он упер большие плоские ступни в каменные плиты дворика и задрал подбородок, подставляя лицо солнцу – словно там, дома, оно не светило ему круглый год; впрочем, купался он не в солнечных лучах, а в лучах Франции.
– Н-да, ох и портят же они своих детей, ужас! Вот вам яркий пример: фотоаппарат за пятьдесят фунтов – для него игрушка. А когда они вырастают, им уже нечего больше желать.
Клайву хотелось, чтобы говорили о Мэтте, только о Мэтте, без конца.
– Дома, в Америке, у них «мазерати», ну то есть был раньше, теперь они его продали, ведь они ездят по всему свету, – сообщил он.
– Несчастный мальчишка, – сказала мать. – Из дому его гонят, шатается по улицам, обвешанный всеми этими жалкими цацками.
– Ну уж прямо жалкие цацки! – Клайв вздернул плечи, с подчеркнутым возмущением развел руками. – За эти аппараты сотни долларов плачены – но это же так, пустячки, жалкие цацки!
– А позвольте вас спросить, мистер, сколько это – доллар?
Дженни еще в самолете выучила наизусть табличку с обменным курсом, их давали пассажирам в туристском агентстве.
– Не знаю, сколько это на наши деньги, я про Америку говорю…
– Клайв, из деревни я никуда тебе с ним отлучаться не разрешаю, слышишь? Гуляйте только по деревне, – изо дня в день повторял ему отец.
Впрочем, Клайв не отлучался из деревни и вместе с семьей – не поехал ни в музей на Антибском мысу, ни в керамические мастерские Валлори, не захотел посмотреть даже дворец, казино и аквариум в Монте-Карло.
Горная деревушка – в чьих улочках так же легко было запутаться, как в длинной и беспорядочной хронологии Европы, как в ее бесчисленных, порою смахивающих друг на друга памятниках старины, – была в их безраздельном владении, его и Мэтта. Вместе с ними здесь хозяйничали лишь бродячие кошки; люди же что-то болтали на своем непонятном языке, и, хоть мальчики делали то, что им нужно, у всех на виду, трескотня эта как бы служила им завесой, еще надежней укрывала от взглядов взрослых, и без того занятых своими делами. Они без устали ходили по деревне с утра до вечера с одной заветной целью: выныривать из-за угла, незаметно перебегать улицы, а под вечер, когда площадь заполнялась народом, появляться словно из-под земли то тут, то там и шнырять среди людей – но так, чтобы это не бросалось в глаза. Приходилось, например, незаметно пробираться от церквушки – старой-престарой, с проволочной сеткой вместо выпавших цветных стекол и слинявшей мозаикой, смахивающей на облупившуюся переводную картинку, – под окна школы, но так, чтобы их не увидели ребята. Пробираться туда надо было по утрам, когда в школе шли занятия. Ее каменное здание по виду ничем не отличалось от других домов – при нем даже спортивной площадки не было; доносившийся из окон хор ленивых голосов напоминал Клайву школы для черных детей у него на родине. Порой за друзьями увязывались деревенские мальчишки, они гримасничали, передразнивали Клайва и Мэтта, а не то молча шли по пятам, и отделаться от них не было никакой возможности. Доходило и до стычек; вскоре Клайв научился делать пальцами оскорбительные знаки, смысла которых не понимал, и выкрикивать единственное запомнившееся ему французское слово, ихнее ругательство: «Merde!» [11]11
Здесь: черт вас возьми!
[Закрыть]
А у Мэтта рот не закрывался ни на минуту: то он доверительным полушепотом говорил с Клайвом по-английски, потом вдруг голос его весело взмывал – это он приветствовал кого-нибудь по-французски, а здоровался Мэтт с каждым встречным – и, прокатившись эхом меж глухих стен, вновь понижался; Мэтт опять переходил на понятный лишь им двоим английский, и снова они заговорщически сближали головы. Но даже когда голос Мэтта понижался до шепота, его круглые темные глаза с чуть опущенными наружными уголками – это от сосредоточенности морщинок, уже наметившихся над точеным носом, – так и шныряли, не упуская ни одного человека, попадавшего в их поле зрения. Здоровался он не только с местными, но и с приезжими, которых видел впервые. То подойдет к туристской паре, осматривающей здешние достопримечательности, то к водопроводчику, поднимающему крышку люка, и с каждым заводит оживленный разговор. Клайву, который молча стоял рядом, его французский казался куда более настоящим, чем тот, на котором говорили здешние мальчишки. Болтая с кем-нибудь, Мэтт то и дело пожимал плечами и выпячивал нижнюю губу; если же люди, с которыми он заговаривал, были недовольны или удивлены тем, что им без всякого видимого повода навязывается с разговорами какой-то незнакомый мальчишка, Мэтт задавал им вопросы (что это именно вопросы – Клайв улавливал по интонации) тем наигранно-веселым тоном, каким взрослые говорят с робеющим ребенком желая его подбодрить.
Бывало и так, что когда они подходили к кому-нибудь из местных жителей, сидящих на жестком стуле у дверей своего дома, тот вставал и захлопывал за собой дверь при первой же попытке Мэтта завязать разговор.
– Все здешние – психованные, вот что я тебе скажу, – восклицал Мэтт, снова переходя на английский. – Я их всех знаю, всех до единого, и говорю тебе точно.
Старухи в перекрученных черных чулках, длинных передниках и широкополых черных шляпах – обычно они сидели на площади и лущили бобы для летнего ресторана Ше Риан – отворачивали коричневые складчатые, словно ядра грецкого ореха, лица и начинали шипеть, как гусыни, ощеривая беззубые десны, стоило только Мэтту к ним приблизиться. Мадам Риан («Когда-то она победила в конкурсе на самую популярную женщину Парижа – нет, ты представляешь? Правда, отец говорит, это было как раз во время всемирного потопа») – женщина с телосложением борца, которая так же походила на собственное изображение, глядящее с рекламных щитов, как окаменелый ствол на веточку в молодой листве, – при виде Мэтта что-то цедила сквозь зубы, кривя уголок подвижного рта.
– Я сделал с нее мировецкие снимки. Ну, правда, она немножко passe [12]12
Здесь: вышла из моды (франц.).
[Закрыть].
Однажды их все-таки погнали прочь – это когда Мэтт щелкнул парочку, целовавшуюся на стоянке автомобилей пониже замка. Клайв теперь повсюду таскал за собой свой аппарат-ящичек, но снимал исключительно кошек. Мэтт пообещал устроить так, чтобы Клайв смог снять карлика – обыкновенного здешнего жителя, а не лилипута из цирка, – он жарил на вертеле баранину в одном из ресторанчиков, где ее готовили по какому-то особому местному рецепту; но при этом Мэтт объявил: чтобы стать настоящим, большим фотографом, Клай-ву не хватает характера. Ему и в самом деле становилось неловко, стыдно и страшно всякий раз, как огромная голова карлика, непомерно большая для такого маленького человека, – сбачками, прямо как у исполнителя испанского танца, – наливалась кровью от ярости. А вот Мэтту удалось незаметно щелкнуть его «Полароидом»; мальчики сразу юркнули в какое-то парадное, где с двери свисали цветные хлорвиниловые полоски от мух, и посмотрели снимок. Казалось, огромная голова карлика болтается над щуплым тельцем, словно у куклы бибабо.
– Фан-тастика! – В голосе Мэтта не было хвастовства, просто профессиональное удовлетворение. – До этого он у меня ни разу не получался как следует, такое уж мое везение; пожили мы здесь всего с неделю, и он сбрендил, его свезли куда-то в психушку. И вот только сейчас опять стал вылезать на свет божий, это здорово, что ты успел на него поглядеть. А то уехал бы к себе в Африку и так бы его и не увидел.
Сперва в семье Клайва восхищались мадрасскими шортами Мэтта и его транзистором, охотно пользовались его элегантным маленьким проигрывателем, радовались, что Клайв нашел себе друга, но потом стали находить, что он слишком много болтает, слишком часто к ним приходит и слишком подолгу шатается по улицам. И Клайву было объявлено, что отныне он обязанучаствовать хотя бы в некоторых семейных вылазках. То они ездили куда-то за двадцать миль, чтобы поесть ухи. То с полудня до самого вечера проводили в картинной галерее.








