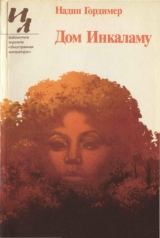
Текст книги "Дом Инкаламу (сборник)"
Автор книги: Надин Гордимер
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Да, его убило южноафриканское правительство, убил шок от переизбытка информации, но ни наша политическая горечь, ни склонность к модным терминам ни на йоту не приближают нас к пониманию того, какое сочетание сил, внутренних и внешних, толкнуло его в роковую купель в то раннее утро. Разъяснять причины этого было бы, перефразируя ту самую, официальную формулировку, «не в интересах отдельных лиц». Элиас так и не вернулся домой – вот и все.
Зато его лучший друг вернулся – в конце того же года. Проведя несколько недель в деревне, онявился ко мне; о его возвращении мне уже было известно. Труппа наша тем временем успела прогореть; видимо, об этом он главным образом и собирался говорить со мной: хотел выяснить, не причитается ли ему каких-нибудь денег из общего котла. Сообщил мне, что не прочь создать свой собственный театрик, это было бы «о’кей»; очень ему не терпится применить новые «секреты производства»; он узнал их в Штатах «на миллион долларов» (его собственные выражения). Он стал форменным толстяком и одет был крайне экстравагантно. Сверхмодерновая куртка. Пластиковые сапоги. Парик «афро» – ни дать ни взять кусок каракуля из Юго-Западной Африки. Я прошелся насчет парика (настолько-то мы с ним были близки): мол, он, может, все это время был в партизанах, а не изучал актерское мастерство во внебродвейских театрах. (Как раз тогда шел процесс южноафриканских политических эмигрантов, обвинявшихся в том, что они пытались «просочиться» на родину через Юго-Западную Африку.) И мне стало немножко стыдно за свою снисходительную попытку исправить его вкус, когда он с величайшим добродушием ответил:
– А что, приятель, занятная штучка, верно? Класс, а?
Я был слишком труслив, чтобы сразу заговорить о том, что меня по-настоящему волновало: об Элиасе. А когда этого уже нельзя было избежать, выдавил из себя какие-то банальности. Он покачал головой.
– Страшное дело, друг.
И помолчал. Потом рассказал мне, что именно так и попал домой – то есть благодаря тому, что Элиас мертв: он вернулся самолетом, воспользовавшись обратным билетом Элиаса. В пособие, которое получал он сам, расходы на переезд не включались, он должен был оплатить их из своего кармана, так что билет на самолет у него был только в один конец. Стипендия же Элиаса обеспечивала оплаченный проезд обратно на родину. Очень трудно было уломать авиакомпанию, чтобы разрешила замену. Пришлось идти к людям, распоряжавшимся фондом, из которого Элиасу выплачивалась стипендия, – они повели себя очень прилично, устроили ему это дело.
Все это он выложил мне с таким простодушием, что я, как и некоторые другие, искренне возмутился, когда поползли слухи будто он полицейский агент: у кого, мол, еще хватило бы духу вернуться по билету мертвеца, мало того – мертвеца, который, даже будь он в живых, все равно не смог бы использовать обратный билет, потому что дал подписку не возвращаться на родину? Да и вообще, кто поверит этим россказням? Дело ясное: ему он,такой же чернокожий, как другие, может свободно ездить из Южной Африки за границу и обратно. Ведь емувыдали заграничный паспорт, так? Вот то-то и оно. Почему паспорт выдали именно ему!Какому чернокожему в наше время выдают заграничный паспорт?
Признаюсь, все это злило меня, и я за него заступался: о его невиновности, доказывал я, говорит сама наивность, с которой он,чернокожий (да, именно чернокожий, потому и вынужден всю жизнь спасаться от бедствий, потому и не может позволить себе добропорядочной щепетильности и разборчивости белого), воспользовался обратным билетом Элиаса: ведь он-то жив, и билет был ему нужен; точно так же онмог бы взять пальто Элиаса, чтобы не мерзнуть. Я заявил, что не намерен избегать его (хотя некоторые члены нашей полуразвалившейся труппы ясно дали мне понять, что уклоняются от встреч с ним), и всякий раз, когда при упоминании о нем они обменивались понимающими полуулыбками, я делал каменное лицо – показывал, что в этом их заговоре не участвую. Близкими друзьями мы с ним, разумеется, не были, но он к нам захаживал. В театр ему устроиться не удалось, и он работал коммивояжером, объезжал африканские локации. Обычно он приводил с собой трех или четырех мальчуганов – насколько мы могли понять, это были его сыновья и дети друзей, у которых он жил. Мальчики были такие послушные, благонравные, тихонькие, одеты в элегантные взрослые костюмчики, и наши босоногие чада взирали на них с благоговейным трепетом. Разговаривали мы с ним все больше о его бедах – машина у него старая, того и гляди развалится; жена ушла; комиссионные выплачивают маленькие; его приглашают в Чикаго, в постоянную репертуарную труппу, но негде взять денег на возвращение в Штаты – а в это время моя жена угощала безмолвных мальчуганов тортом и мороженым или же мои дети добросовестно качали их, одного за другим, на качелях в саду. Прошло какое-то время, и мы с ним уже могли говорить о самоубийстве Элиаса. Он рассказал, что примерно за месяц до смерти Элиас, бывало, все шагал, шагал вверх по спускающемуся эскалатору в нью-йоркской подземке.
– Я думал, он просто дурачится, понимаешь? Думал, у него все о’кей. Уверен был на миллион долларов.
Онвсе еще с тоской цеплялся за американизмы. Но парика «афро» больше не носил, и, когда речь заходила об Элиасе, сжимал руками большую, красиво вылепленную голову, покрытую уже его собственными коротко остриженными курчавыми волосами, и так сидел, словно силясь додумать что-то, чего до конца все равно не додумаешь. Я понимал его, мне самому хотелось схватиться за голову, и я говорил:
– Ну, дальше.
И он вспоминал еще какие-нибудь «чудацкие выходки» Элиаса незадолго до смерти. В один из таких дневных приходов к нам он вдруг спросил:
– Сдается мне, я еще не рассказывал эту историю – про то, как он приглашал ребят из колледжа? Как в свой последний уик-энд – ну, перед этим самым – обходил всех подряд и приглашал на вечер, говорил – устраивает пирушку какую-то, что ли. Некоторые мне потом говорили, он им сказал – барбекью [4]4
Прием на открытом воздухе, во время которого подается зажаренная целиком туша (свиньи, быка и т. д.).
[Закрыть], ты ведь знаешь, что это, ну, вроде braavleis [5]5
Жаренное на вертеле мясо ( африкаанс).
[Закрыть], ясно? А Другие говорили, он обещал им устроить настоящее африканское празднество, показать, как здесь, у нас, деревенские угощают, когда в доме свадьба, или похороны, или еще что. Спрашивал, где можно купить козла.
– Козла?
– Ну да. Живого козла. Собирался зарезать его и изжарить для них – прямо там, во дворе колледжа.
Примерно в это же время онпопросил меня дать ему взаймы Полагаю, для того он и приводил с собой этих симпатичных, принаряженных детишек: хотел убедительно показать, что он семейный и положительный, прежде чем позондировать почву насчет денег. Для человека с моими возможностями сумма была весьма внушительная. Но он больше не мог объезжать локации на своей развалюхе, а тут как раз представился случай приобрести очень приличную подержанную машину. Я дал ему деньги, невзирая на то – а может, именно потому, – что о нем поползли новые слухи: на дом его друзей, у которых он жил, полиция устроила налет и арестовала всех взрослых, кроме него, обвинив их в том, что они якобы побывали на собрании запрещенной политической организации. Правда, его друзьям удалось отвести обвинение; их спасла ловкость адвоката, сумевшего доказать, что полицейский провокатор, на доносе которого основывалось обвинение, – свидетель ненадежный, то есть попросту лжец. Но им тут же вручили судебное постановление, налагающее на них лично ряд запретов; в частности, им ограничили свободу передвижения и запретили посещать собрания.
Знаменательно, что онединственный не был арестован, и закрывать на это глаза, по-видимому, невозможно. Но все-таки его друзья позволили ему остаться у них в доме; для нас, белых, это было полной загадкой – и кое для кого из черных тоже. Впрочем, когда доверие превращается в товар, который можно продать полиции, многое становится загадкой. И как ни расценивать мою маленькую демонстрацию (а взаймы я ему дал демонстративно), но ведь и в самом деле за последние год-два у нас здесь дошло до такого, что если человек с черной кожей имеет какое-то образование, если у него есть друзья среди «политических» и среди белых и при всем томему выдают заграничный паспорт, значит, он полицейский осведомитель.
И хоть я сам себе был противен – потому и дал ему деньги, – но я разделяю это мнение. Реабилитировать себя – по крайней мере, в наших глазах – такой человек может одним-единственным способом: очутиться в тюрьме.
Ну, а оноставался на свободе. Правда, он был несколько подавлен и обеспокоен участью своих друзей (говорил он об этом с тем же простодушием, с каким раньше рассказывал, как ему удалось заполучить обратный билет Элиаса) и по-прежнему стеснен в средствах, бедняга; но в общем-то не унывал. Однако дружба наша – а после смерти Элиаса между нами начиналась настоящая дружба – стала быстро чахнуть. И все из-за денег. Только из-за них; он боялся, как бы я не потребовал, чтобы он начал выплачивать долг, и потому перестал бывать у меня «на квартире», кончились эти его визиты с нарядными и благовоспитанными черными детишками. Как-то раз я получил от него напечатанное на машинке письмо, где он очень официально благодарил меня за любезное содействие и т. д. и т. п., словно я банкирская контора, и заверял, что, как он надеется, в ближайшие месяцы у него появится возможность и т. д. и т. п. В ответ я нацарапал записку: я, мол, и впрямь, черт подери, очень надеюсь, что он намерен отдать мне долг – когда-нибудь; но пока-то за каким дьяволом вести себя так, будто мы в ссоре? Да пропади всё пропадом, и нечего ему из-за каких-то несчастных нескольких кусков бегать от меня как от зачумленного.
Но больше я его не видел. Я был слишком занят своим непосредственным делом – строительный бум последних лет, сами понимаете. Я получил заказ на большой культурный центр и на торговые ряды, и мне было не до того, чтобы писать декорации для нашей старой труппы, время от времени возвращавшейся жизни. Да и он, видимо, тоже потерял с нею связь; говорили, он неплохо зарабатывает как коммивояжер и подумывает о новой женитьбе. Был и другой слух – что он даже строит себе дом в Дубе, а это – максимальное приближение к статусу обитателя солидного буржуазного предместья, какое возможно для черного, живущего в поселке черной обслуги за чертою «белого города», – если только можно причислять к буржуазии людей, не имеющих права собственности на недвижимость. В то время я уже не нуждался в деньгах, но сами знаете, как оно бывает, когда дело касается денег: все-таки меня немножко злило, что он не отдает долг, потому что сейчас он, по всей видимости, уже мог со мной расплатиться, пусть даже я и ответил бы, что деньги эти мне не нужны. А что касается дружбы, то он показал мне, чего она стоит. Дружба стала товаром, за который белый должен платить, – так же как он платит за содействие полицейских шпиков. Элиас уже пять лет как мертв, и мы живем уже в иных обстоятельствах – таких, «как они складываются на данный момент», если пользоваться юридической формулировкой, а к юридическим формулировкам прибегаешь, когда другие способы выражения становятся чересчур опасными.
И вот двести семьдесят дней тому назад разнесся новый слух, только на сей раз подтвердившийся; на сей раз уже не просто слух: онбыл схвачен ночью у себя дома и брошен в тюрьму, у нас здесь это в порядке вещей – на то существует закон о превентивном заключении сроком на полгода. Так как ончто-то собой представляет и у него много друзей и деловых знакомств, особенно среди журналистов, белых и черных, об его аресте стало известно. А если забирают человека неприметного или не представляющего особого интереса для узкого круга белых либералов, то может пройти много месяцев, прежде чем об этом станет известно кому-нибудь, кроме случайных свидетелей, оказавшихся на месте происшествия, когда его забирала полиция – у него дома или на улице. Но где сейчас он,это нам по крайней мере известно: в тюрьме. Говорят, сейчас готовится дело по обвинению в государственной измене – против него и других, задержанных одновременно с ним, и еще других, просидевших больше, чем он – триста семьдесят один день, триста десять дней (цифры эти, когда их наконец сообщают, неизменно приводятся с такой вот точностью), – и что скоро, скоро всех их будут судить за то, в чем они там провинились, а в чем именно, мы не знаем, ибо когда человека сажают по закону о превентивном заключении, то не говорят, за что, и не предъявляют ему никаких обвинений. Разумеется, у нас есть кое-какие предположения. Может, он был агентом-«двойником» и использовал laissez-passer [6]6
Здесь – право беспрепятственного въезда и выезда ( франц.)
[Закрыть], предоставляемое полицейскому шпику, чтобы делать свое настоящее дело как участник подпольного африканского национального движения? А может быть, просто неудачно выбирал друзей? Или пострадал из-за опасной преданности кому-то, хоть сам и не имел твердых убеждений? А может, все дело в каких-то личных его отношениях, о которых мы не догадывались и не имеем права судить? Видит бог: даже если не верить слухам, что онполицейский осведомитель, все равно трудно представить себе человека, который меньше походил бы на подпольщика, чем этот молодой весельчак, такой услужливый, всегда готовый вскочить и перевернуть пластинку, этот любитель модерновых курток, мечтавший сыграть в пьесе Лероя Джонса [7]7
Современный популярный американский драматург.
[Закрыть]в каком-нибудь из театриков вне Бродвея.
Впрочем, как я уже сказал, мы знаем, где он теперь: в тюрьме. И по большей части в одиночке – как говорят те, кто сидит с ним вместе. Вот уж двести семьдесят семь дней он там.
Так что мы, его белые друзья, можем очиститься от скверны слухов. Мы снова можем считать себя чистенькими. Наконец-то мы удовлетворены. Он в тюрьме. Он себя реабилитировал, не так ли?
Перевод С.Митиной
Открытый дом
Фрэнсис Тейвер значилась в секретном списке, которым обменивались иностранцы, желающие узнать правду о Южной Африке. У каждого из этих заезжих журналистов, политических и религиозных деятелей была своя программа поездки, подготовленная их консульствами и зарубежными информационными агентствами, или же ими занимался учрежденный южноафриканскими коммерсантами фонд, ставящий своей целью создать у гостей более благоприятное впечатление о стране, а иногда Государственное информационное бюро само возило их в образцовые африканские тауншипы [8]8
Поселок городского типа на окраине промышленного города, предназначенный исключительно для африканцев; находится под строгим контролем властей.
[Закрыть], университеты и пивные. Но у каждого имелся еще коротенький списочек, тщательно упрятанный среди самых-самых личных бумаг (слабонервные даже зашифровывали его), – список людей, с которыми непременно надо встретиться, чтобы получить верное представление о стране. Некоторые из этих людей упоминались в мировой печати как особенно активные противники апартеида или его жертвы: два-три писателя, редактор газеты, смело высказывающийся епископ. Другие были известны лишь в самой Южной Африке – о таких иностранцы узнавали только от своих соотечественников, приезжавших сюда до них с таким же коротеньким списочком. Большинство в этом списке составляли белые, и это ужасно разочаровывало тех, кто жаждал получить информацию из первых рук; однако в Лондоне и Нью-Йорке говорили, что встретиться и побеседовать с черными можнои сейчас – если только удастся войти в контакт с теми белыми, которые могут это устроить.
Фрэнсис Тейвер как раз и принадлежала к их числу. Причем много лет: и в сороковых годах, когда она была профсоюзным организатором, а потом возглавляла союз швейников, куда входили рабочие разных рас (пока это еще допускалось законом), и в пятидесятых, после замужества, когда была администратором смешанной черно-белой труппы (разогнанной позднее в связи с новым законодательством), вплоть до начала шестидесятых, когда она прятала от полиции своих друзей-африканцев, членов только что запрещенных политических организаций, прятала до тех пор, покуда дружба с ними не стала делом чересчур рискованным: по новым законам, на то и рассчитанным, чтобы эту дружбу подорвать, за такого рода услуги можно было без суда и следствия надолго угодить за решетку.
Теперь друзей у Фрэнсис осталось совсем немного, и она испытывала неловкость всякий раз, как в телефонной трубке слышался нетерпеливый голос американца или англичанина; очередной приезжий сообщал, что времени у него в обрез (это уж само собой), затем неизменно следовал сердечный привет от такого-то, от кого он там получил коротенький список. Всего несколько лет назад было так просто и заманчиво использовать эти приезды как повод для встречи с друзьями, которая чаще всего превращалась в пирушку. Приезжий веселился вовсю, учась танцевать квелу с черными девушками, или сидел как завороженный, стараясь оставаться достаточно трезвым, чтобы ничего не упустить, вслушивался в быструю, оживленную речь политических деятелей – африканцев, белых, индийцев, которые пили вместе и азартно спорили, и вот ведь парадокс: такой раскованности ему ни разу не доводилось видеть в странах, где общение между людьми разных рас не запрещено законом. И видя, как он заворожен, больше всего радовались именно жертвы этих законов. В те дни Фрэнсис Тейвер и ее приятелям нравилось так вот по-дружески, без всякого злого умысла чуть-чуть смещать чересчур «правильные» представления приезжих о стране. «В те дни…» – вот как она теперь мысленно их называла; казалось, все это было давно. Иной раз перед ней вставали знакомые лица – редкие вспышки света в черной пустоте, которую заполняли только газетные отчеты о судебных процессах, да слухи о деятельности кого-нибудь из друзей в эмиграции, да случайные сведения, полученные от такого-то, который в свою очередь знаком с таким-то, кому удалось поговорить через забор с одним из тех, кто находится под домашним арестом. Один из ее друзей – африканец, которому грозила тюрьма, так как он был активным деятелем Африканского национального конгресса, – «ушел в подполье»; он изредка наведывался к ней под вечер, когда был уверен, что, кроме нее, в доме нет ни души. Хотя Фрэнсис все еще выглядела моложаво, она считала «те дни» днями своей молодости, и он, этот подпольщик, был для нее видением из той далекой поры.
На сей раз голос в трубке (а говорил, несомненно, американец) звучал осторожно, негромко: человек явно был уверен, что телефонные разговоры подслушиваются. Роберт Гринмэн Серетти из Вашингтона… Пока они беседовали, Фрэнсис вспомнила, что это политический обозреватель, имевший какое-то отношение к правительству Кеннеди. Не он ли написал книгу о Плайя-Хирон [9]9
В апреле 1961 года в районе Плайя-Хирон на Кубе было разгромлено вооруженное вторжение контрреволюционных эмигрантов.
[Закрыть]? Во всяком случае, в печати были ссылки на какую-то его работу, это она помнила точно.
– А как там Брауны? Целую вечность от них ни слуху ни духу…
Разговор протекал как обычно в таких случаях; с ее стороны – расспросы об общих знакомых, от которых приезжий передал привет, с его – столь же обычная просьба: он так надеется, что ему будет предоставлена возможность повидаться с нею… Она хотела было ответить не раздумывая, как отвечала всегда: «Приходите сегодня обедать», но какой-то нелепый внутренний протест, безотчетный страх заставил ее вместо этого пригласить его на послезавтра на коктейль. Она сочла своим долгом добавить:
– Не могу ли я пока быть вам чем-нибудь полезной? Американец, судя по голосу, был человек скромный и рассудительный.
– Спасибо, весьма вам признателен, – ответил он. – Итак, жду среды.
В последнюю минуту она пригласила для встречи с ним кое-кого из белых друзей: врача с женой, работавших в туберкулезной больнице в африканском резервате, и молодого журналиста, побывавшего в Америке по одной из программ обмена. Но она понимала, чего ждет от нее заезжий иностранец, и, поддавшись нелепому – да, опять это слово, другого не подберешь, – нелепому побуждению, сама, увы, сама дала ему повод попросить ее об этом.
Американец пришелся ей по душе: маленький, уютный рыжеволосый человечек, чем-то похожий на бурундука. Когда остальные гости разошлись, она повезла его на машине в гостиницу, где он остановился; дорогой они болтали о статьях, которые он собирается написать, о людях, с которыми он успел встретиться. Удалось ли ему, например, проинтервьюировать видных деятелей Национальной партии? Да пока еще нет, но, он надеется, на той неделе в Претории ему кое-что в этом плане организуют. А еще его очень смущает (ага, наконец-то!), что ему до сих пор не удалось хотя бы словом перемолвиться ни с одним черным, если не считать коридорного, убирающего номер. Она услышала свой собственный голос, прозвучавший словно бы небрежно:
– Что ж, тут я, возможно, сумею вам помочь.
Он тотчас же ухватился за ее слова – с очень серьезной, искренней благодарной улыбкой сказал:
– Я так и думал, что сумеете. Мне бы только поговорить с несколькими людьми, пусть самыми что ни на есть обыкновенными, лишь бы они могли толково мне рассказать, что и как. Понимаете ли, те отважные белые, с которыми мне посчастливилось встретиться сегодня у вас – такие, как вы и ваш муж, – очень хорошо меня информировали, и все-таки о том, настроены африканцы, хотелось бы хоть что-нибудь услышать от самих африканцев. Если бы вы смогли это устроить, было бы просто замечательно.
Но теперь, когда все было высказано вслух, она вдруг пола на попятный – впрочем, спастись она пыталась от себя, а не от него:
– Сама не знаю. Люди больше не хотят ничего рассказывать. Если они и делают что-нибудь, то наверняка такое, о чем лучше не говорить. Я хочу сказать – те, кто остался на свободе. Белые и черные. А те, с кем вам по-настоящему стоило бы потолковать, – за решеткой.
Они сидели в машине перед его гостиницей. По ободряющему восхищенному взгляду американца, который не сводил с нее глаз, Фрэнсис поняла: ему внушили, что если кто-нибудь и может свести его с черными, так именно она, и если с ними и можно встретиться в частном доме, так только у нее. В ней заговорило тщеславие:
– Я вам дам знать, Боб. Ждите моего звонка.
Разумеется, они уже называли друг друга по имени: когда в Южной Африке встречаются родственные по духу белые, общность взглядов и грустное сознание обособленности ускоряют сближение.
– Вы скажите только – где и когда, больше ничего. В тот, первый день мне так не хотелось говорить об этом по телефону, – признался он.
Вечно этим приезжим чудится опасность…
– Да что вам-то может грозить? – Она улыбнулась не слишком приветливо. В таких случаях все они начинали торопливо объяснять, что, мол; тревожатся вовсе не за себя, а за нее, и так далее, и тому подобное. – У вас же заграничный паспорт. Вы ведь не живете здесь.
С Джейсоном Маделой она виделась редко, но, когда позвонила ему (ей вспомнилось, что его контора помещается почти рядом с «белым» городом), он принял ее приглашение с такой готовностью, словно был близким другом дома и привык заходить к Тейверам запросто, когда заблагорассудится. А еще у нее есть в запасе Эдгар, Эдгар Ксиксо, адвокат, к которому перешла практика ее старого друга Самсона Думиле. Этого можно заполучить всегда. Ну а кто еще? Можно попросить Джейсона, чтобы привел какого-нибудь устроителя боксерских матчей или азартного игрока, – ему нравилось таскать за собой такую публику туда, где можно выпить на дармовщину, – но нет, это было бы шито белыми нитками, даже если б они с Джейсоном сумели прикинуться, будто не понимают, чего от них хотят. Так что в конце концов она пригласила коротышку репортера Спадса Бутелези. А какая, собственно, разница? Черный, и ладно. Да и все равно теперь уже выхода нет.
Фрэнсис решила устроить хороший ленч, не хуже, чем в былые времена; столик с напитками и льдом поставила не на середине большой веранды, а в застекленном ее углу, чтобы маленькая компания не чувствовала себя затерянной. Волосы она только вчера выкрасила в светлый тон – примерно такой же, как был у нее когда-то свой, на их фоне выделялись искусно вытравленные седые пряди; в общем, она чувствовала, что «сделана» как раз в меру и производит приятное впечатление; яркое полотняное платье не закрывало загорелых плеч, они блестели, словно выпуклости хорошо отполированной мебели; с твердым, коричневым от загара лицом голубые глаза контрастировали неожиданно и красиво, и Фрэнсис это знала. О том же сказал ей взгляд Роберта Гринмэна Серетти – секунду-другую он смотрел на нее, стоя в залитом солнцем проеме двери; да, она еще и женщина, одна-единственная здесь и царящая безраздельно среди этих мужчин.
– Приготовьте нам всем мартини, ладно? – обратилась она к нему. – Прекрасная штука. Выпить настоящий мартини – такое удовольствие. – И пока он колдовал над бутылками с обстоятельностью, присущей людям небольшого роста, она сновала с веранды и обратно, вводя прибывающих гостей.
– Это Боб, Боб Серетти из Штатов, решил у нас побывать, а это Эдгар Ксиксо. Джейсон, познакомьтесь: вот Боб Серетти – человек, к которому прислушиваются президенты…
Смех, протестующие возгласы, а хозяйка тем временем обносила гостей напитками. Джейсон Мадела – тучнеющий, разжиревшей шеей, но все еще красивый хмуроватой красотой в стиле Кларка Гейбла, стоял, держа бокал в этакой небрежной манере, словно усвоенной на вечеринках с коктейлями. Со своей обычной миной человека, которого отвлекают от важных дум невероятно забавные реплики окружающих, он поправлял Роберта Серетти:
– Нет, нет, поймите же, в тауншипах слово «конъюнктура» употребляется в совершенно ином смысле: вот я, например, типичная «конъюнктура»… – И, ожидая подтверждения, он с многозначительной улыбкой посмотрел на Ксиксо. Тот обводил всех взглядом, выражающим готовность поддержать общее веселье.
– Ну еще бы, ведь вы – «мути»! – вставил он поспешно.
– Нет, погодите-ка, я хочу объяснить Бобу более наглядно… – Снова смех, на этот раз общий. – Это человек, для которого строгий европейский костюм – повседневная одежда, как для белого. Который ходит в контору и предпочитает изъясняться по-английски.
– Вы хотите сказать, что слово «конъюнктура» для вас варваризм и вы употребляете его в смысле «удачливый», «благополучный»? Вы это имеете в виду? Ну вы же знаете газетное выражение «благоприятная конъюнктура»? – Сидевший на стуле американец подался вперед и, подняв к ним улыбающееся лицо, глядел на них снизу вверх. – А что такое «мути»? Пожалуй, мне следовало бы делать заметки, а не трясти ваш миксер, Фрэнсис.
– Медик, – пояснил Ксиксо.
– Ой, да оставь ты, бога ради, – рассмеялся Джейсон и залпом допил джин, а Фрэнсис поднялась навстречу запоздавшему Спадсу Бутелези, молодому человеку в рубашке-сетке золотого цвета и светло-голубых джинсах, и подвела его к другим гостям.
Когда Боб Серетти и Спаде представились друг другу, американец спросил, задержав его руку в своей:
– А что же тогда такое Спаде?
На лице Спадса, довольно светлом, с мелкими чертами, будто натыканными в тестообразную массу, словно навсегда застыло настороженно-удивленное выражение. К тому времени, когда он появился, остальные успели выпить не один мартини, и голоса звучали громко.
– А Спаде хочет пива, – обратился он к Фрэнсис, и все снова рассмеялись.
Джейсон Мадела поспешил ему на выручку – этакий добрый великан, извлекающий муху из стакана с водой:
– Он у нас из интеллектуалов. Это люди совсем другой категории.
– Да разве сами вы, Джейсон, раньше к ней не принадлежали?
В вопросе Фрэнсис была укоризна, несколько нарочитая: Джейсону Маделе, безусловно, хотелось бы дать американцу понять, что он не просто коммерсант, успешно ведущий дела в тауншипах, но еще и обладатель университетского диплома.
– Милая Фрэнсис, не будем вспоминать о грехах моей молодости, – ответил он, привычно становясь в позу человека, прячущего душевную рану. – Насколько я понимаю, в этом доме мужчинам положено трудиться; ну-ка, вот с этим справлюсь я. – И он принялся вместе с Фрэнсис разделять подтаявшие и оттого сплавившиеся кубики льда. – Велите слуге принести немного горячей воды, и все будет в порядке…
– Ой, я же пренебрегаю своими обязанностями! – воскликнул Серетти. Он внимательно слушал пространный рассказ Ксиксо о том, как сложно оформить поездку в один из бывших английских протекторатов, время от времени бросая негромко: «Так, так», «Ах, вот как?» – и теперь вскинул глаза на Фрэнсис и Джейсона, безмолвно предлагая им еще по бокалу мартини.
– Ничего, ничего, разговаривайте, для того все и затеяно, – ответила ему Фрэнсис.
Он улыбнулся ей доверчивой улыбкой смышленого любимчика:
– Я смотрю, вы двое здорово орудуете возле бара. Чувствуется, что сработались уже давно.
– А и вправду, давно? – подхватила Фрэнсис оживленно, но суховато. (Вопрос должен был означать: давно ли они с Джейсоном Маделой знакомы?) И, шутливым жестом защищаясь от удара, которого якобы ждал от нее, Джейсон сказал:
– Лет десять, должно быть, но вы уже и тогда были совсем большая девочка.
Между тем оба прекрасно знали, что за последние пять лет случайно встречались всего раз десять, где-нибудь в гостях а разговаривать им довелось и того меньше.
Во время ленча Эдгар Ксиксо продолжал рассказ о мытарствах с которыми связаны его поездки в один из бывших английских протекторатов, ныне маленьких государств, недавно получивших независимость и вкрапленных в территорию Южной Африки. Он вовсе не просит заграничный паспорт, объяснял Ксиксо, просто разрешение на проезд, только и всего, бумажку из Управления по делам банту, которая позволила бы ему съездить в Лесото по делу и вернуться обратно.
– Позвольте, если я правильно вас понял, вы уже там бывали? – спросил Серетти. Он склонился над облаком пара, поднимающегося над тарелкой с супом, и смахивал на прорицателя, который вглядывается в хрустальную сферу.
– Да-да, видите ли, у меня было разрешение на поездку… – начал было Ксиксо.
– Но это штука разовая: уехал-приехал, и все, – закончил за него Джейсон с добродушным нетерпением быстро соображающего человека. – Считается, что у нас, черных, нет никакой охоты разъезжать. Скажи им, что хочешь провести отпуск в Лоренсу-Маркише, и они расхохочутся тебе в лицо. А то еще, пожалуй, и с лестницы спустят. Оппенгеймер и Чарли Энгельгард могут отправляться на своих яхтах в Южную Францию, но Джейсон Мадела…
Все рассмеялись, как он, собственно, и ожидал, а кроме того, брошенные им вскользь слова – что, мол, эти два богача, эти влиятельные белые бизнесмены, когда с ними познакомишься поближе, оказывается, люди вполне приличные – создавали впечатление, что он-то, возможно, с ними знаком. Насколько могла судить Фрэнсис, это было не исключено: Джейсон – именно тот человек, на которого пал бы выбор белой верхушки, если бы ей понадобилось сделать символический жест, демонстрирующий ее связь с черными массами. Странным образом, Джейсон Мадела действовал на белых успокоительно: его темные костюмы и крахмальные сорочки городская речь и чувство юмора – все было точно такое же как у них самих, хоть и взялось неведомо откуда, и это позволяло белым забывать о неприглядных фактах той жизни на которую были обречены он и ему подобные. А как он тактичен, как умен… Ведь не только какой-нибудь миллионер, но даже и сама Фрэнсис как бы служила наглядным свидетельством всего, чего он лишен: она белая, а значит, вольна ехать куда ей вздумается и тем самым уже виновна перед ним. Но он не включал ее в число виновных; сознание это ей льстило, и она отвечала благодарностью, неприметной для окружающих, словно передаваемый под столом вексель…








