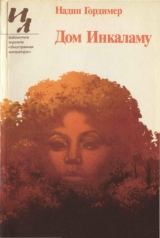
Текст книги "Дом Инкаламу (сборник)"
Автор книги: Надин Гордимер
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Об этой книге
Человек приезжает в чужую страну и хочет понять ее.
Не то, о чем ежедневно говорят по радио, телевизору, в газетах. Нет! То, о чем люди помалкивают при посторонних, но чем они живут на самом деле.
Еще на родине ему дали имя и адрес женщины, к которой следует обратиться, – она поможет разглядеть подлинную душу этой страны, сведет с людьми, и он узнает то, что тщательно скрывается властями от чужеземцев.
Но эта женщина, что она может для него сделать? Сказать, что большинство людей, которые могли быть ему полезны, уже за решеткой? И что она не хочет ставить под удар других, тех, кто пока что уцелел?..
Она зовет к себе в общем-то случайных людей. Каждый из них по-своему преуспевает, заплатив за успех своей совестью. Но конечно, преуспевать хотелось бы больше, обиды есть и у них, посетовать хочется. Показать хоть кукиш в кармане.
Гость принимает все это за чистую монету.
Хозяйку все-таки одолевает стыд, что она обманула человека, который, вероятно, этого не заслужил. Она звонит гостю, дает ему понять, что он так и не увидел тех, кого хотел. Так ничего и не узнал…
Но ему надо уезжать, времени уже нет. И не хочется расставаться с иллюзией, что ты что-то все-таки понял…
Это один из рассказов.
Да и другой начинается словами:
«Может, вы думаете, что и впрямь все поняли; но, живя за пять-шесть тысяч миль отсюда, не слишком торопитесь с выводами; вот если б вы жили здесь, то понимали бы кое-что другое…»
Чужую беду – рукой разведу. Эта мудрая присказка относится к бедам чужой страны, чужого народа, может быть, больше, чем к горестям отдельного человека: их понять еще труднее. Вот эту сложность и пытается показать Надин Гордимер.
Ее родина – одна из стран, понять которую особенно трудно. Уже много лет как власти воздвигли вокруг нее железный занавес. Далеко не каждому журналисту дадут визу на въезд.
А наших соотечественников нет там уже очень давно. Увидеть тот край их глазами мы не можем. Там нет ни наших дипломатов, ни журналистов, ни ученых.
Южно-Африканская Республика… Трансвааль. Кейптаун. Золото. Алмазы. Расизм, расизм, расизм…
Как много пишут об этой стране, и все-таки насколько же мало мир ее знает!
Пожалуй, достаточно привести только один пример. До середины 1976 года за пределами Южной Африки мало кто слышал такое слово: Соуэто. А если и слышал, то представлял себе только, что это населенный африканцами пригород Йоханнесбурга, крупнейшего во всей Африке промышленного центра.
Но в 1976-м Соуэто восстал. Как факелы, запылали дома официальных учреждений, перевернутые автобусы и грузовики. О сражениях полиции с повстанцами заговорили газеты во всех уголках земли.
И вот только тогда мир узнал, что существует громадный город, с населением в миллион двести тысяч человек, который не обозначен на картах. Это – Соуэто. Жители «черного» города – Соуэто – обслуживают жителей «белого» – Йоханнесбурга, но по числу жителей Соуэто в два раза больше Йоханнесбурга.
Как же получилось, что мир узнал об этом громадном городе лишь после того, как его жители подняли открытое восстание?
Да очень просто. За четверть века существования Соуэто власти не пускали туда посторонних, даже жителей страны, если они сами не обитали там. А иностранцы в лучшем случае могли повидать несколько центральных улиц Соуэто, да и то лишь из окна экскурсионного автобуса.
Но если даже о городе так мало знали, что уж говорить о его обитателях! Каковы эти люди? Как живут? О чем мечтают? Чему печалятся?
Конечно, на любой такой вопрос можно ответить в самой общей форме, то есть схематично. Ну а конкретно? Ведь это реальные, живые люди. И их в одном Соуэто больше, чем во многих африканских государствах, таких, как Габон или Лесото, Ботсвана, Свазиленд.
А таких городов, как Соуэто, пусть не столь громадных, в Южно-Африканской Республике не один десяток…
Это только один пример. О сложнейшей жизни большой страны мир знает мало. Социально-экономической и политической литературе, которая издается в самой Южно-Африканской Республике, особенно доверять не приходится.
Когда-то Фридрих Энгельс писал, что из романов Бальзака он «даже в смысле экономических деталей узнал больше… чем из книг всех специалистов – историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе взятых».
При самом глубоком уважении к таланту Надин Гордимер я далек от мысли о том, чтобы проводить прямую параллель с Бальзаком. Но свою родину эта женщина знает и рассказывает о ней честно, в том подлинном, единственно верном духе патриотизма, о котором когда-то писал Некрасов:
Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей.
Произведения Надин Гордимер хорошо известны в нашей стране. Да и о ней самой у нас писали не раз. С «Лживых дней», первого ее романа, изданного в 1953 году, во всех ее многочисленных романах и рассказах – и боль за судьбу родины, и мысли о причинах ее трагедии.
В отличие от многих южноафриканских писателей, Надин Гордимер не эмигрировала, хотя немало ее произведений и подвергалось запрету. Почти всю свою жизнь она провела в Трансваале, самой промышленно развитой провинции Южно-Африканской Республики, в самом большом городе Трансвааля, да и всей страны – Йоханнесбурге, «Золотом городе», центре крупнейшего в мире золотопромышленного района. Здесь, в этом бурном индустриальном котле, изо дня в день встречаются и сталкиваются люди самых разных национальностей, профессий, взглядов…
Свои наблюдения и размышления Надин Гордимер запечатлела на страницах романов «Мир чужих», «Возможность любить», «Покойный буржуазный мир» и нескольких других, в сборниках «Вкрадчивый голос змия», «Шесть футов земли», «След Пятницы, «Оглашению не подлежит» и самых последних, из которых в основном и взяты представленные в этом небольшом сборнике рассказы.
Надин Гордимер пишет не только о своей родине. И ее надежды связаны не только с верой в свой народ, но и с верой в будущее тех африканских народов, которым уже удалось освободиться от расистско-колониальных режимов. Свидетельство тому – один из рассказов этого сборника «Дом Инкаламу».
Но все же в центре внимания Гордимер – ее собственная страна. Ее романы и рассказы помогают увидеть многие черты облика Южно-Африканской Республики – те черты, которые правителям этого государства хотелось бы скрыть. А нам разглядеть поподробнее лицо одного из самых неприглядных режимов современного мира куда как важно…
С годами писательница все пристальнее всматривалась в облик своей отчизны, все глубже старалась понять характер ее обитателей. Черных. Белых. Цветных – так на Юге Африки называют метисов. Выходцев из Азии. Сложное переплетение социальных противоречий с расовыми и национальными представлениями и предрассудками. Государственную политику, ее способы разжигания противоречий, усиления расовой и национальной розни.
И в лаконичных рассказах этого сборника отлично выражены плоды размышлений Надин Гордимер. Зримо видишь, как полицейский режим калечит души людей, убивает в них все самое лучшее, подлинно человеческое, отучает быть простодушными и искренними, заставляет приспосабливаться, изворачиваться, ежеминутно кривить душой.
Видишь, как национальные и расовые предрассудки уродуют жизнь, в лучшем случае обедняют ее и крайне осложняют отношения между людьми, зачастую же приводят к поистине страшным трагедиям.
Надин Гордимер по южноафриканской расовой классификации принадлежит к высшей, привилегированной касте общества. Она – белая. И все же она борется против расизма белых, европейцев. Какое мужество для этого нужно!
Легко клеймить чужой расизм, чужой национализм. При этом вполне можно оставаться и расистом и шовинистом. На-дин Гордимер выдержала испытание на подлинный патриотизм и подлинный интернационализм. Поэтому ей веришь. Веришь, что она действительно помогает понять и далекую страну, и это сложнейшее создание природы – человеческую натуру.
Аполлон Давидсон
Пробуждающаяся Африка
Онсейчас в тюрьме, так что имени его я называть не стану. Как бы не вышло чего плохого, понимаете ли. Может, вы думаете, что и впрямь все поняли; но, живя за пять-шесть тысяч миль отсюда, не слишком торопитесь с выводами; вот если б вы жили здесь, то понимали бы кое-что другое: нам тут известно, что внешние проявления преданности друзьям – это для детишек, пусть себе держатся за руки на школьной площадке; а для нас это роскошь, ненужная и, быть может, опасная. Если я скажу, что был другом такого-то – чернокожего, который должен предстать перед судом по обвинению в государственной измене, какой ему от этого прок? А ко мне это лишний раз привлечет внимание и, как знать, быть может, окажется той, самой последней, решающей каплей… Да онбы первый со мной согласился…
Не то чтобы это сыграло такую уж важную роль, не будь заведенное на меня досье и без того достаточно пухлым; и не то чтобы онв самом деле был мне таким уж другом. Нет, вам не понять совсем другого: до чего у нас здесь все смутно, шатко. Мы до сих пор не знаем толком, что можно, а чего нельзя; как определить, что дружба, а что нет, если решительно все усиливает твой внутренний разлад – законы, и сомнения, и дух протеста, и осторожность, и, не в последнюю очередь, отвращение к себе… Разумеется, я говорю о дружбе между черными и белыми. Коль скоро ты, приятель, согласен общаться только с белыми в их загородных клубах и утопающих в зелени предместьях (если сам ты белый) или только с черными в их локациях и пивнушках (если ты черный), – это на тебя не распространяется, и ты с миром пройдешь весь жизненный путь до своего сегрегированного кладбища. Но ни он,ни я на такое не соглашались.
Я начал общаться с черными, когда был студентом, – из оскорбленного чувства справедливости, как принято выражаться в таких случаях, а еще – из острого любопытства. Для этого имелись два способа. Первый – через Добровольную студенческую трудовую организацию; члены ее, белые юноши и девушки, отправлялись на казенный счет куда-нибудь в сельскую местность, разбивали лагерь и жили там веселой коммуной, строя школы для африканских детей. Обычно в лагерь наезжало также несколько студентов из сегрегированных университетов для африканцев и цветных, и для нас была известная прелесть новизны в том, чтобы ночевать бок о бок с ними; впрочем, мы понимали, что среди наших строителей-добровольцев наверняка затесались шпики из Особого отдела [1]1
Отдел южноафриканской полиции, следящий за соблюдением так называемого «закона об охране нравственности», который запрещает «смешение рас». (Здесь и далее – примечания переводчика.)
[Закрыть], и потому мы не осмеливались заигрывать с цветными и чернокожими девушками. Другим, не столь обременительным, способом были выпивки с джазистами, художниками, журналистами и разными людьми, мнящими себя поэтами и актерами, – эти тянутся к белым отчасти потому, что такие люди вообще считают себя вправе жить как им заблагорассудится, а отчасти потому, что у белых они встречают одобрение и поддержку, столь дорогие их сердцу. Я попробовал было первый способ, но второй оказался для меня более подходящим; да и потом, с какой стати я должен помогать этому правительству, делая для чернокожих детей то, что оно обязано делать для них само?
Я – архитектор и к делам африканцев приобщился в качестве человека небесполезного, а именно стал писать декорации для смешанной драматической труппы, которую набрал белый режиссер. Вообще-то среди горожан, пожалуй, нет групп более сплоченных, чем такие вот театральные коллективы, а расовая проблема сближала нас еще больше. Я имею в виду вовсе не то, что подумали вы;одним словом, вовсе не личное мое отношение к «этим черным» и всякую такую чушь. Нет, я о том изнури-тельном напряжении, которое требовалось от нас изо дня в день, чтобы обходить расовый барьер, проскакивать под ним или брать его с маху, ибо расовые законы гробили наши постановки и отравляли нам жизнь. Нам приходилось постоянно держать в памяти, что надо выписать чернокожим актерам ночные пропуска, а то как бы их не задержали по дороге домой за нарушение комендантского часа для черных; нам приходилось часами торчать в Управлении по делам банту, чтобы выбить вид на жительство для тех актеров, кому закон предписывал «вернуться» в сельскую местность, где им «по этническому принципу» положено проживать и откуда они якобы приехали в город, хотя на самом деле они там в жизни не бывали; нам приходилось решать, кто же из нас сумеет настолько ловко разыграть из себя подхалима, чтобы выудить у комиссара по делам банту бумажку, разрешающую нашей труппе беспрепятственно переезжать из зоны поселения одной расовой группы на территорию другой, или в каком-нибудь городишке так обработать муниципального чиновника, чтобы тот уговорил свой муниципалитет предоставить нашей смешанной труппе зрительный зал, куда допускаются только белые. Жизнь чернокожих актеров была в наших руках, потому что они были черные, а мы белые, а стало быть, могли – и должны были – постоянно за них ходатайствовать. Не подумайте только, что благодаря этому отношения наши были сплошной идиллией; напротив, это приводило к бесконечным взаимным обидам и распрям. Так, одна белая женщина, которая работала у нас как каторжная – ведала и рекламой, и гардеробом, – несколько лет не разговаривала со мной за то, что я упросил ее одолжить свою малолитражку одному из наших черных парней, который не поспевал на последний поезд в локацию из-за того, что задерживался в театре, и тот парень потом продержал у себя машину субботу и воскресенье, а добраться до него женщина эта не могла никакими силами, потому что в локации, как вы сами понимаете, редко у кого есть домашний телефон, и если кто-нибудь из черных затеряется среди этих крольчатников, его не отыщешь до тех пор, пока ему самому не заблагорассудится вновь объявиться в «белой» части города. Когда же тот парень наконец объявился, то в разговоре со мной не преминул язвительно пройтись по адресу белых сук, которые «покровительствуют» черным, а сами в глубине души в каждом из них видят слугу. Но эти споры, обиды и недоразумения были не просто одним из доказательств нашей близости – как, скажем, вечеринки, веселые вылазки и романы, – нет, они были решающим ее доказательством: мы сблизились настолько, что к этим спорам, обидам и недоразумениям относились всерьез.
Онтоже одно время был членом нашей теплой компании. Сперва он работал где-то экспедитором, затем «управляющим» и вышибалой в танцевальном клубе для черных. А в свободное время исполнял какую-нибудь рольку в наших спектаклях и вообще был на подхвате; в конце концов выяснилось, что он превосходно справляется с публикой во время наших гастрольных поездок. Его обаяние (этакий молодой толстяк, броско и весело одетый) безотказно действовало на наших зрителей в локациях, чье настроение никогда нельзя было предвидеть заранее: в одном месте они являлись на спектакль в лучшей своей одежде – той самой, в которой ходили по воскресеньям в церковь, – такие чинные, застегнутые на все пуговицы, и, казалось, считали для себя неприличным засмеяться или хоть как-то отреагировать на то, что происходит на сцене, а в другом старались прорваться без билета и штурмовали двери, предводительствуемые каким-нибудь «цоци» – горластым хулиганом, который ничего и никого не желает слушать. Онбыл близким другом, так сказать, второй, пассивной, половинкой моего близкого друга Элиаса Нкомо.
Но тут я умолкаю. Как рассказать об Элиасе? Ведь я и сейчас, по прошествии пяти лет, не знаю даже, как о нем думать.
Элиас был скульптор. Служил где-то рассыльным или еще кем-то в этом духе – словом, выполнял одну из тех жалких работенок, на какие только и может рассчитывать грамотный молодой африканец в золотопромышленном городке близ Йоханнесбурга. Кто-то кому-то сказал, что он талантлив, еще кто-то направил его ко мне – по-видимому, путь каждого африканца, желающего обрести себя, поначалу неизбежно идет через белого. Не знаю опять же, как описать вам его скульптуру. Он приехал поездом на Центральный вокзал Йоханнесбурга и вышел на платформу для черных, держа в руках какой-то громоздкий предмет, завернутый в утреннюю газету. Был он в темном, такой хрупкий, круглоголовый, с маленькими ушами, брови сосредоточенно сведены; когда же он понял, что дожидающийся в машине белый, по всей вероятности, – я (о том, что я его встречу, мы условились заранее), лицо его разгладилось в широкой улыбке, виноватой и самоуверенной одновременно. Я отвез его к себе «на квартиру» (про жилье он всегда говорил не «дом», а «квартира»), и здесь он развернул свой объемистый пакет. То, что представилось моим глазам, нисколько не напоминало глыбы диорита или песчаника, какие вам приходилось видеть в музеях Нью-Йорка, Лондона и Йоханнесбурга под названием «Пробуждающаяся Африка» или «Дух предков». Передо мной был козел, а точнее некое козлоподобное существо (так же как, скажем, кентавр – существо лошадеподобное и человекоподобное), вырезанное из какого-то слоистого узловатого дерева. Оно было восхитительное, это существо (мне захотелось его потрогать), оно было трогательное – этакое воплощение эволюционного развития, зверь-человек, тонкая работа по грубому дереву, – и вместе с тем была в нем какая-то беззащитность (протянутая было рука опустилась сама собой). Я спросил Элиаса, знакомы ли ему козлы работы Пикассо. О Пикассо он слышал, но ни одной его работы видеть ему не доводилось. Я показал ему репродукцию – знаменитый бронзовый козел, тот самый, что стоит в доме художника, – и с той поры у всех его зверей был такой же дерзко-веселый пах, как у пикассовского козла; впрочем, это единственное «влияние», какому он поддался. Как я уже говорил, то или иное вмешательство белого в судьбу такого человека, как Элиас, неизбежно; мое же выражалось в том, что я всячески ограждал его от владелиц художественных галерей – меценатствующих дам, которые жаждали ему протежировать, и от тех белых художников и скульпторов, которым хотелось стать его наставниками. Я отдал ему старый гараж (да, совершенно верно, для этого мне пришлось вывести оттуда машину) и оставил его в одиночестве среди множества чурбаков.
Но в одиночестве Элиасу не работалось. Гараж так и не стал для него «квартирой». Если человек всю жизнь провел в тесном людном дворике, то для того, чтобы сосредоточиться, ему, видимо, нужны какие-то отвлечения. Этим я, в сущности, только хотел сказать, что он любил компанию. Сперва он приезжал ко мне на субботу и воскресенье, а потом, когда ему удалось продать несколько скульптур, бросил работу рассыльного и обосновался в гараже более или менее постоянно. Мы с ним вдвоем оборудовали ему «квартиру»: сделали потолок, подвели воду и так далее. То, что он жил в белом предместье, было, конечно, нарушением закона, но у людей вроде Элиаса и меня подобного рода законы лишь развивают изворотливость, и у нашего строительного инспектора не возникло никаких подозрений, когда я заявил ему, что переоборудую гараж под жилье для тещи. Но вот Элиас переехал, и жить ему стало легче, у него постоянно ночевал кто-нибудь из приятелей, я уж не говорю о девушках; иногда это были пугливые, невзрачные создания – чуть ли не судомойки или что-то вроде того, – которые величали мою жену «мадам» [2]2
Униженное обращение мулатов к белой женщине.
[Закрыть], если им случалось наткнуться на нее в саду по дороге к гаражу, а иногда актрисы из нашей труппы – размалеванные, в париках, – эти курили и болтали с моей женой, сидя с ней рядом, пока она кормила грудью малыша.
А чаще всех бывал там он,толстяк и весельчак, администратор, умевший отлично ладить с публикой; онбыл женат, но, как это нередко бывает у нас, мужчин, старая дружба значила для него больше, чем жена и дети; если это типично для черных, значит, я сам под кожей черный; а вообще-то Элиас, как и он,здорово втянулся в жизнь труппы: напримёр, сделал из папье-маше чудесных богов для пьесы одного нигерийца, «духов предков», забавных и жутких одновременно, а как-то раз, когда нам понадобился певец, неожиданно выяснилось, что у Элиаса голос и он может пропеть хвалебную песнь с той же выразительностью и легкостью, что и самый первый исполнитель негритянских песен, не помню уж, как его фамилия, и с тех пор в гараже часами гремел голос Элиаса – он пел за работой. Казалось, Элиасу лучше всего работается, когда тот, другой, рядом; онобычно сидел вытянув толстые ноги, сгибал и разгибал носки модных туфель, отряхивал очередную сверхмодную куртку, менял пластинки и произносил нескончаемый монолог, а Элиас, орудуя резцом и стамеской, время от времени отзывался – то довольным урчанием, то одобрительным хмыканием, то внезапными всхлипами тихого, почти беззвучного смеха – всё ответы, мыслимые лишь, когда разговор ведется на каком-нибудь из африканских языков. Да, они говорили по-своему, и я никогда не знал о чем.
Как ни старался я оградить Элиаса от покровителей, случилось неизбежное – ему стали протежировать (и разве не я сам сделал первый шаг в этом направлении, отдав ему свой гараж?). Одна картинная галерея объявила себя его агентом. На открытии своей персональной выставки Элиас расхаживал в пурпурной водолазке, купленной, как мне думается, по настоянию его лучшего друга, и тихонько посмеивался над собой, скорее смущенный, нежели довольный. Некий художественный критик написал о «трансцендентальных идеалах» и «пластической модальности» его скульптур, и, когда мы спрыскивали это дело, запивая коньяк пивом (в Южной Африке коньяк вовсе не считается изысканным напитком богачей, он здесь производится, и у нас не потягивают его – им накачиваются), Элиас спросил:
– Черт, слушай, друг, он сам-то смекает, что к чему, или нет?
В тот год он порядочно заработал. Затем владелица галереи и художественный критик позабыли о нем, увлекшись очередным истолкователем африканской души, и он снова остался без денег, но тут выяснилось, что у него есть еще одна покровительница и она о нем не забыла, хоть и живет на другом краю света. Как вы, видимо, уже догадались, это была американка, очень старая и очень богатая, если верить местным слухам, но, скорей всего, просто какая-нибудь пожилая вдова, обладательница приличного состояния в ценных бумагах, желающая приумножить его на ниве культуры, – скажем, коллекционируя какие-нибудь предметы искусства, вокруг которых пока нет особой давки. Она купила несколько работ Элиаса, когда приезжала в Йоханнесбург в качестве туристки. Возможно, у нее были какие-то академические связи в мире искусства; как бы то ни было, именно ее усилиями был создан фонд, обеспечивший Элиасу Нкомо стипендию для учебы в Америке.
Насколько я понимаю, ему хотелось поехать туда ради самой поездки – просто чтобы посмотреть мир. Но мне как-то не верилось, чтобы в ту пору он хотел – или мог – всерьез взяться за изучение теоретических дисциплин в художественном училище. Я всего-навсего архитектор, говорил я ему, но по опыту знаю, что за штука академизм, а то даже и самый яростный антиакадемизм (господи, спаси и помилуй нас грешных!) в лучших учебных заведениях, и что все это не для тех, кто, как выразились бы на своем жаргоне художественные критики, «обрел себя в искусстве».
Помню, он проговорил, улыбаясь:
– А ты считаешь, я себя обрел? И я ответил:
– Друг, да ты никогда себя не терял. Тот самый первый козел, завернутый в газету, – ведь это был твойкозел.
Позднее, когда ему отказали в заграничном паспорте и вопрос о его поездке основательно занимал наши мысли, мы с ним поговорили еще раз. Он хотел поехать, потому что чувствовал, как ему не хватает общего образования, общей культуры, ведь их не могли ему дать шесть классов начальной школы в африканской локации.
– Пока я живу тут, у тебя на квартире, я прочитал кучу твоих книг. Ох, друг, ничего-то я не знаю. В голове у меня не больше, чем вон у этого твоего малыша, ей-богу. Ну, подна-хватался я в политике, могу при случае ввернуть какой-нибудь термин по искусству, наклоню голову с этаким важным видом и изреку: «пластические идеалы» – это пожалуйста. Но, слушай, друг, что я знаю о жизни? Разве я знаю, почему вся эта машинка крутится? Откуда мне знать, какименно я делаю то, что делаю, а? И вообще, почему мы живем и помираем? Если я здесь застряну, то все, тогда я мог бы с таким же успехом вырезать тросточки, – добавил он.
Я понял, что он хотел сказать: по всей Африке можно видеть старичков, которые добывают себе пропитание тем, что, сидя на корточках в более или менее пристойном отдалении от какого-нибудь туристского отеля, вырезают из дерева местной породы всякие псевдоэкзотические тросточки – подделка, в сущности; но в этом смысле тросточки ненамного хуже, чем опусы скульпторов школы «Пробуждающейся Африки», столь бурно восхваляемых владелицами художественных галерей…
Тут оба мы рассмеялись, и, следуя ходу мыслей, на которые наталкивал меня его обращенный к себе самому вопрос: «Откуда мне знать, как именно я делаю то, что делаю?» (хотя у меня самого мысль шла совсем в ином направлении), я спросил, было ли какое-нибудь художественное ремесло традиционным в его семье. Я так полагал, что нет; ведь он – дитя трущоб, он рос напротив городской пивнушки, среди остовов брошенных автомобилей и жестяной утвари, изготовленной из керосиновых бидонов; странным образом это не сделало из него нового Дюшана – наоборот, он сформировался как классический, законченный экспрессионист. В его роду не было деревенских умельцев, вырезавших тросточки, зато он рассказал мне кое о каких событиях своего детства – я и понятия не имел, что мальчишки из локаций проходят через такое: оказывается, подростком его отправили в лес, где люди его племени готовили мальчиков к обряду инициации, и, по установленному обычаю, там ему сделали обрезание. Все это он обрисовал мне очень живо.
Наши попытки раздобыть ему заграничный паспорт оказались бесплодными, и вот тут, само собой разумеется, желание Элиаса попасть в Америку перешло в нечто совсем иное: теперь его дико возмущал самый факт, что его не выпускают; это превратилось у него в навязчивую идею. Причины отказа ему, конечно, не сообщили. Официальный ответ обычный: разъяснять причины такого рода решений «не в интересах государства». Может, «им» стало известно, что он «живет так, будто он белый» (эту гипотезу подбросил мне один из чернокожих актеров нашей труппы)? А может, все дело в том, что художественный критик в своем энтузиазме поспешил провозгласить его «выразителем чаяний и мук пробуждающейся африканской души»? Этого никто не знал. И вообще никто никогда не знает. Достаточно было того, что Элиас черный, а черным полагается безвылазно сидеть на отведенных им «по этническому принципу» улицах в своих сегрегированных зонах поселения, в тех районах Южной Африки, откуда, по утверждению правительства, они родом. Впрочем, я уже говорил, что постичь, как вершатся наши судьбы, просто немыслимо, – неожиданно заграничный паспорт получил лучший друг Элиаса. До меня даже как-то не дошло, что и емутоже что-то там предложили – то ли стипендию, то ли безвозмездную ссуду, то ли еще что-то; во всяком случае, онбыл приглашен в Нью-Йорк изучать режиссуру и новейшие достижения актерского мастерства (то были годы господства Метода, а не театра-лаборатории Гротовского [3]3
Известный польский режиссер-экспериментатор.
[Закрыть]). Причем онполучил паспорт «с первой попытки», как без тени зависти сообщил мне Элиас. В ту пору, когда кто-нибудь из чернокожих получал заграничный паспорт, всех нас охватывала радость, что нам удалось перехитрить кого-то или что-то – а кого, мы и сами толком не знали. Словом, они уехали вместе: он– получив заграничный паспорт, Элиас – выездную визу.
Выездная виза – нечто вроде билета в один конец. Получая ее (по собственной просьбе, но с соизволения правительства), вы даете подписку, что никогда не вернетесь ни в саму Южную Африку, ни в Юго-Западную Африку, ее подмандатную территорию. Обязательство скрепляется подписью и отпечатком большого пальца. Элиас Нкомо так и не вернулся. Сперва он писал, и довольно часто, восторженные письма о внешнем мире, куда ему удалось вырваться; он даже как будто приобрел в Штатах некоторую радовавшую его самого популярность – не столько как скульптор, сколько как самый что ни на есть настоящий, всамделишный, живой африканский негр, достаточно развитой для того, чтобы его можно было попросить высказаться о разных разностях – о красоте американок, о жизни в Гарлеме и Уоттсе, о том, как звучит лозунг «Власть черным» для выходца из… и так далее. Он присылал вырезки – из «Эбони» и даже из «Нью-Йорк таймс мэгэзин». Сообщал, что некая девица из «Лайфа» добивается, чтобы журнал напечатал статью о его работах. Как работается? Да сам он пока ни за что новое не принимался, зато художественное училище – это сила; черт подери, люди делают здесь такое!.. Бывали, разумеется, и полосы молчания; порою мы забывали о нем – а он о нас – по неделям. Потом вдруг в наших местных газетах появлялось одно из тех сообщений, которые они с особенной тщательностью вылавливают в зарубежной прессе: Элиас Нкомо выступил на митинге протеста против апартеида, Элиас Нкомо в свободном западноафриканском одеянии сидел в президиуме вместе со Стокли Кармайклом.
– А почему бы и нет? Ему же не надо беречь свою репутацию на случай возвращения, верно? – решительно вступалась за него моя жена.
Верно-то оно верно, но все-таки я тревожился:
– Дадут ему когда-нибудь поработать спокойно или нет? Я ему не писал, но он словно бы догадался о причине моего молчания: через несколько месяцев вдруг получаю вырезку из какого-то университетского художественного журнальчика (специальный номер, посвященный Африке), и там снимок с одной из деревянных скульптур Элиаса, а на полях приписка его рукой: «Знаю, ты не очень-то уважаешь тех, кто не делает ничего нового, но, кажется, здесь кое-кто находит эту старую мою вещицу недурной». Это была именно того рода сентенция, которая – произнеси он ее вслух у меня в комнате – заставила бы нас обоих расхохотаться. Я улыбнулся и решил написать ему. Но через две недели Элиаса уже не было в живых. Он утопился в реке – это произошло в ранний утренний час в каком-то из городков Новой Англии, где находилось его художественное училище.
И опять, как в тот раз, когда ему отказали в заграничном паспорте, никто не знал почему. С обычным в таких случаях самомнением я даже почувствовал себя виноватым – ведь я не ответил на его письмо. Как знать, говорил я себе, если человек очутился за тысячи миль от своей «квартиры» и ему почему-либо худо, то, быть может, такая безделица, как письмо, просто слово ободрения от друга, который в прошлом был до обидного скуп на такие слова… Самомнение, разумеется, и самое жалкое к тому же. Как будто написанное между делом письмишко, по существу, ободряющая ложь (ах, как это замечательно, что твою старую вещь похвалил какой-то захудалый журнальчик!) – это что-то такое, за что и впрямь может ухватиться человек, идущий ко дну во второй раз. Ибо до того, как утонуть в реке, Элиас, видимо, с головой погрузился в такие глубины ужаса, безысходного отчаяния, какие нам совсем неведомы. Возможно, люди кончают с собой потому, что внезапным прозрением открывают в себе такое, чего нам, остающимся жить, не хватает воли узнать о себе. Вот это и повергает в отчаяние, не так ли? То самое, что довелось узнать им. И разве не это имеют в виду окружающие, когда говорят в свое оправдание: «Право же, я так мало его знал…»? Я знал Элиаса лишь таким, каким он пожелал себя показать, живя у меня «на квартире»; да что там – как я был поражен, когда он упомянул однажды, что юнцом вместе с другими подростками своего племени около месяца провел в лесу, готовясь к обряду инициации, – это так не вязалось с моим представлением о нем! Разумеется, в меру того, что нам было о нем известно, а также собственных наших принципов и политических пристрастий мы, его друзья, как-то решили для себя, почему он с собой покончил: может, ему и в самом деле стало тошно до смерти, в прямом, ныне забытом смысле этого слова, тошно до того, что он умер, – от тоски по дому, по родной земле, куда ему не было возврата и чей образ он пытался вызвать в своем воображении, рядясь в туземные одежды, какие носят совсем не в той части Африки, откуда родом он сам; и от стыда за то, что у себя на родине, в Южной Африке, ему приходилось зависеть от дружеского участия белых, стыда, который он ощутил особенно остро, столкнувшись здесь с новой для него формой солидарности всех людей черной кожи.








