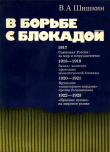Текст книги "Как Запад стал богатым (Экономическое преобразование индустриального мира)"
Автор книги: Н Розенберг
Соавторы: Л Бирдцелл
Жанр:
Деловая литература
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Макс Вебер подчеркивал другой аспект европейского права. От римского права Запад унаследовал очищенный от дискреционных, ритуальных, религиозных или магических примесей формальный, логический подход к разрешению правовых вопросов. Современная правовая мысль склонна подчеркивать и даже поддерживать неформальные и дискреционные аспекты правовых решений, но сохраняется поразительный контраст между системой права, стремящейся к тому, чтобы сделать последствия человеческих действий предсказуемыми и согласованными, и множеством других систем права, которые либо вообще не стремятся к этому, либо позволяют выходить на передний план другим, конкурирующим целям. Западная система предана идеалу предсказуемости, другие – нет. Как сформулировал Вебер: В Китае может случиться так, что человек, продавший свой дом, позднее приходит и просит пустить его назад, поскольку он обнищал. Если новый владелец дома не прислушается к древнему предписанию о братской помощи, он нанесет ущерб духу гармонии; поэтому обнищавший прежний владелец возвращается как арендатор, не платящий ренты. Капитализм не может функционировать на основе такой системы права. Нужен закон, надежный, как машины; религиозно-ритуальные и магические соображения должны быть исключены. [Мах Weber, General Economic History (New York: First Collier Books Ed., 1961), p. 252. Вебер возводит свободу христианства от влияния магии к иудаизму: "С точки зрения экономической истории роль иудаизма громадна, поскольку именно иудаизм сделал возможным христианство и определил его природу как религии, свободной от магии. Ведь господство магии за пределами тех обществ, где возобладало христианство, является одной из серьезнейших помех рационализации экономической жизни. Магия ведет к установлению шаблонов в области технологии и экономических отношений." (там же, с. 265).]
Систематизированное право увеличивало способность предсказывать поведение людей всех социальных положений и в самых разнообразных ситуациях. Это само по себе вело к сокращению торговых и инвестиционных рисков. Замена дискреционного правосудия поместных и королевских судов, сколь бы мудрыми ни были их решения, сравнительно надежной системой права явилась важным элементом развития капиталистических институтов. ["Чтобы капиталистическая форма организации производства могла оперировать рационально, нужно иметь возможность полагаться на расчет и разумное управление. И то и другое было невозможно ни в период греческих городов-государств (полисов), ни в патриархальных государствах Азии, ни в Европе во времена Стюартов и ранее. Королевская юстиция с ее милостивым прощением долгов постоянно вносила беспорядок в экономические расчеты. Требование, чтобы государственный банк Англии действовал в интересах публики, а не монарха ...было порождено условиями своего времени." (там же, с. 208)]
Векселя
Уже в XIII веке итальянские торговцы начали использовать вместо звонкой монеты векселя. Использование векселей позволяло им пересылать деньги так же, как это делаемыми, выписывая банковский чек, который и является переводным банковским векселем. В Амстердаме, а позднее в Антверпене появились рынки векселей. Фактически, они занимались предоставлением дешевого краткосрочного кредита, необходимого для развивавшейся торговли.
Система банковских депозитов развилась параллельно с рынком векселей и в связи с ним. Торговля векселями позволяла обходить церковный запрет на взимание процентов, поскольку приобретение векселя со скидкой относительно его номинальной цены толковалось не как ссудный процент, а как учет риска -предъявленный вексель могут и не оплатить. По мере распространения практики использования векселей мало известные торговцы начали помещать средства в известные торговые дома, чтобы получить возможность расплачиваться векселями, выписанными на последних. Тем, у кого скапливались соответствующие депозиты, потребовалось немного времени, чтобы сообразить, что для оплаты предъявляемых векселей достаточно держать на руках лишь небольшую часть средств, а остальное можно вполне безопасно использовать на скупку векселей со скидкой, то есть, несмотря на запрет ростовщичества, предоставлять деньги в ссуду. Таким образом, в обществе, запретившем взимание процента, возникло прибыльное и растущее банковское дело.
Страхование
Самой ранней формой страхования морских перевозок были займы, которые в случае успешного завершения экспедиции выплачивались с высокой надбавкой, а в случае утраты судна не выплачивались вовсе. Эта форма страховых займов использовалась еще в древней Греции и была известна как "bottomry and respondentia bond". В Италии страхование отделилось от финансирования, вероятно, уже в конце XII века, когда началось страхование на случай утери судна в обмен на выплату установленной премии. От XII–XVI веков сохранились очень скудные документы о морском страховании. Флорентийский статут 1523 года содержит форму страхового полиса, который не так уж сильно отличается от принятого в 1779 году Ллойдом. Сам Ллойд использовал данные конца XVII века. Торговцы, готовые идти на риск предоставления страховки, встречались в кафе Ллойда в Лондоне с грузоотправителями и судовладельцами и договаривались о величине страховой премии. Страхованием занимались те, кто либо не имел достаточных средств для возмещения всех убытков в случае утери судна, либо считал неблагоразумным принимать весь риск только на себя одного. Так что после согласования величины страховой премии полис подписывали несколько страховщиков, и каждый из них принимал на себя часть риска.
Развитие в Италии, Амстердаме и Лондоне рынков страхования на море отделило коммерческие риски от случайностей плавания и открыло торговцам возможность вкладывать в экспедиции все более крупные капиталы, не подвергая себя при этом малопредсказуемым случайностям морских перевозок. Коммерческий риск заключался в том, что цена на груз и соответственно прибыль от плавания могли оказаться меньше ожидаемых, а то и вовсе чистым убытком. Опасность того" что груз не будет продан и пропадет весь вложенный капитал, была редкой, в отличие от опасностей штормов, пиратов и иных морских рисков.
Разделение морских и рыночных рисков, когда специализированные страховщики брали на себя первые, а торговцы и судовладельцы – вторые, сделало изначально очень рискованный бизнес привлекательным для капиталов сравнительно острожных и консервативных торговцев. Это разделение рисков было очень важным для развития морской торговли. Можно придумать и другие способы разделения риска. Например, можно было бы у того же Ллойда продавать не доли в риске транспортировки по морю, а долю в самом транспорте. Но для этого ллойдовским страховщикам пришлось бы вникать не просто в риски морской транспортировки, но также в коммерческие риски каждой из разновидностей морской торговли. Разделение специалистов по страхованию морского транспорта и специалистов по страхованию рыночных неопределенностей серьезно содействовало подъему морской торговли.
Налогообложение вместо конфискации
Имея опыт жизни в конституционных системах, отрицающих право правительства присваивать без компенсации собственность граждан, большинству из нас трудно вообразить общества, в которых правительства имели такое право и часто его использовали. Подобно тому, как пастух защищает от посторонних своих овец, феодальные правители могли защищать собственность своих подданных от покушений со стороны других подданных или других правителей. Но от своих собственных суверенов индивидуумам из всех социальных классов приходилось защищать свое достояние самим. Произвольные захваты были всегда возможны, и даже размер и время сбора некоторых узаконенных пошлин были непредсказуемы. Простое благоразумие требовало, чтобы в условиях постоянной угрозы такого рода обложения все сколь нибудь значительные накопления держались в мобильной и легко скрываемой форме.
Однако такие решения были непригодными для баронов, богатство которых имело форму земли, запасов зерна, животных, хозяйственных и жилых построек. Альтернативой была опора на силу, и именно силу противопоставили английские бароны королю Джону в Раннимеде в 1215 году задолго до того, как проиграли соперничество с профессиональной армией. Результатом этого противоборства стала Магна Карта – Великая хартия, которая, как принято думать, закрепила право подданных на свою собственность и на защиту от произвольных экспроприации со стороны короны. Правда этот феодальный документ порой упрекали в чрезмерной сосредоточенности на правах крупных землевладельцев, принудивших короля его подписать, но в нем содержался ряд положений, гарантировавших также права торговцев (в том числе иностранных), и торговцам пошли на пользу права собственности, которые этим документом были закреплены как часть английского права и политической традиции. Утверждение права собственности, освобождающего от ее произвольной конфискации, было важным для развития торговли. Магна Карта обеспечила Англии существенное преимущество перед соседями.
В XV веке, когда на смену феодальному ополчению, где служили за земельные наделы, пришла профессиональная армия, которую содержали на деньги, новым централизованным монархиям понадобились постоянные и надежные источники денежных средств. Традиционные чрезвычайные сборы были средством разового пользования, и на них нельзя было рассчитывать как на постоянный источник средств отчасти из-за растущего сопротивления публики, а отчасти из-за их разрушительного, и все возрастающего по мере применения воздействия на экономическую жизнь. В результате правители отказались от права на произвол в отношении собственности подданных в обмен на право налагать регулярные, заранее обусловленные налоги.
Эффект от этого новшества можно оценить, только сравнив с положением в азиатских и исламских империях, которые не использовали его. Произвольные обложения были легким способом политических репрессий и социального контроля, которые не давали удачливым торговцам стать слишком и не по чину богатыми. Таким образом, отказ от произвольного обложения был важным шагом, позволившим каждому искать собственные пути создания и накопления богатства. Лэндс следующим образом описывает это изменение: ...правитель обнаружил, что компенсируемое присвоение осуществляется легче и оказывается в длительной перспективе более выгодным, чем конфискация, что лучше взять по закону или в результате судебного решения, чем захватить. Помимо этого он начал рассчитывать на регулярные налоги по предустановленным ставкам, а не на экстренные сборы неопределенной величины. Старые методы приносили почти заведомо меньше сборов, чем новые, а это значит, что они представляли собой в конечном итоге меньшее бремя для подданных. Но неопределенность поощряла припрятывание богатства (отбивала охоту к расходам и стимулировала тайные накопления), а в результате инвестиции отклонялись в те сферы деятельности, которые были благоприятны для такого припрятывания. Это особенно серьезно подрывало экономику великих азиатских империй и мусульманских государств Среднего Востока, где штрафы и конфискации служили не только для экстренного пополнения казны, но были также методами социального контроля, подрубая претензии нуворишей и иностранцев и устраняя угрозу для сложившейся системы власти. [David Landes, The Unbound Prometheus (Cambridge: Cambridge University Press, 1969), pp. 16–17]
Можно сказать, что в результате собственность стали прятать не от королевского сборщика податей, а от налогового инспектора. Но когда налоги собираются в заранее известные сроки и по предустановленным ставкам, у торговца есть возможность подсчитать возможные выгоды от инвестиций в недвижимость или другие блага, слишком видимые и не укрываемые от налогов, вычесть налоги и, по крайней мере, иногда принять решение в пользу налогооблагаемого богатства.
В Англии и Голландии, где королевские правительства утратили право на произвольные сборы, но не обрели права на произвольные налоги, переход к системе налогов имел громадное значение. В обеих странах власть устанавливать налоги попала в руки парламентов, где торговцы были серьезной силой, и обе страны оказались лидерами в накоплении видимых форм торгового богатства.
Глядя назад, трудно понять, как была возможна даже небольшая торговля, если торговцы не были защищены от произвольных конфискаций. Торговля нуждается в средствах, едва ли менее видимых, чем недвижимость, хотя, как правило, и более мобильных: кораблях, складах и запасах товаров – и все это в количествах, пропорциональных объему торговли. Торговля и ее материальные фонды были просто обречены на более быстрый рост там, где была свобода от произвольных экспроприации, то есть в Англии, Голландии и в тех торговых городах, которые получили подобный иммунитет через феодальные хартии.
Феодализм и ранние монархии нуждались в экспроприациях и вымогательстве из-за постоянной нужды в деньгах, главным образом для финансирования бесконечных войн. Ко времени битвы под Раннимедом над королем Джоном нависло возмущение, вызванное поборами его предшественника – Ричарда Львиное Сердце. Чрезмерно романтизированное участие последнего в крестовом походе, выкуп его из плена в Австрии, постоянные войны с Филиппом Августом Французским дорого обошлись его подданным, не принеся ничего взамен. На самого Джона давила необходимость оплачивать отпор французским королям, пытавшимся завоевать Нормандию. Французские и английские монархи прибегали также к продаже монополий, дававших возможность устанавливать грабительские цены, которые в долгосрочной перспективе вполне могли оказаться бременем более тяжким, чем нерегулярные конфискации, а во Франции почти определенно так и получилось. Здесь местные монополии в сочетании с внутренними таможенными тарифами мешали развитию французского рынка вплоть до революции 1789 года.
Практические возможности осуществления политического контроля над торговлей были ограничены физическими возможностями властей справиться с пиратами и контрабандистами, а также с опасностью того, что раздраженные капиталисты могут перенести свои капиталы и предприятия в другие страны. Похоже, что Амстердам сильно выигрывал от таких перемещений. Кроме того, изобретение векселей облегчало припрятывание наличных вне досягаемости фискальных агентов короны. "Дюжины беглых предпринимателей были рассеяны по всей Европе, чему способствовала пестрота ее политической карты" [William H. Mcneill, The Pursuit of Power (Chicago: University of Chicago Press, 1982), p. 114].
В эпоху, когда все озабочены счетами в швейцарских банках и налоговыми убежищами на Карибских островах, полезно помнить, что только в XIX веке торговцы обрели достаточно доверия к правительствам, чтобы начать инвестиции в большие, неперемещаемые фабрики, а не только в векселя, суда и перемещаемые запасы товаров.
Конечно, в некоторых случаях конфликт между финансовыми претензиями государства и стремлением поднимающегося класса капиталистов к автономии удавалось разрешить только силой оружия, как было в XVII веке в Англии и в XVI–XVII веках – в Голландии, которая несколько десятилетий воевала за свободу от финансового мародерства испанских правителей. Конфликт в Англии не исчерпывается кромвелевским периодом власти пуритан или Славной революцией 1688 года. Это был опять-таки вопрос о непреодолимой беззаконности. Нэф так описывает это: В царствование Джеймса I и Карла I, с 1603 по 1642 год, политика регулирования промышленности и прямого налогообложения практически провалилась из-за сопротивления ведущих английских торговцев и промышленников. Они использовали рост своего влияния в качестве мировых судей, муниципальных чиновников и членов палаты общин для противоборства политике, которую считали вредной для себя. Неспособность Стюартов и их Тайного Совета добиться выполнения непопулярных воззваний и декретов, выпущенных без поддержки парламента, дала английским торговцам и промышленникам преимущество над французскими в развитии тяжелой промышленности. Ослабление действенного административного контроля над экономической жизнью способствовало ранней "промышленной революции" в Англии. [John U. Nef, War and Human Progress (Cambridge: Harvard University Press, 1950), p. 15. Выражение "ранняя английская промышленная революция" соотносится с утверждением Нефа, что Англия пережила такую революцию в столетие, последовавшее за 1540 годом.]
Прекращение практики произвольных конфискаций относится к тем разновидностям правительственной политики, которые вселяют уверенность в том, что доходы от торговли и накопленное богатство останутся в распоряжении самих торгующих и накапливающих – что было обозначено Нортом и Томасом как такое определение прав собственности, при котором частные выгоды и издержки соответствуют социальным выгодам и издержкам. При всей важности такого рода политики для торговли и накопления до XIX века правительства крайне редко прибегали к ней добровольно, без давления со стороны вооруженных городских восстаний. Почти всегда правительственные решения по изменению прав собственности имели главной целью увеличение сборов. И если они оказывались благоприятными для стабильности прав собственности, то по чистой случайности, а не из убеждения, что нужно стремиться к долговременному экономическому росту. Естественно, что в политике господствовали оппортунистические мероприятия совершенно противоположного характера. [Douglass С. North and Robert Paul Thomas, The Rise of the Western World: A New Economic History (Cambridge: Cambridge University Press, 1973), p. 7: "Создание и правовая защита прав собственности есть прерогатива правительств, которым принадлежит право принуждения. Центр правительственной власти и принятия решений постепенно перемещался ко все более крупным политическим образованиям. Это движение было медленным и прерывистым, поскольку оно везде происходило в обстановке конфликта между разными центрами власти. Так что даже когда краткосрочные фискальные интересы правительства требовали развития более эффективных прав собственности (как в случае с защитой межконтинентальной торговли, которая была новым источником доходов для короны), оно – из-за конфликта с соперниками – могло предоставить только очень несовершенную защиту. Важнейшим фактором развития прав собственности является то, что правительства создавали их только ради собственных фискальных интересов. Как мы видели выше, дарование права на отчуждение (продажу – прим. переводчика) земли (ключевой шаг в развитии наследуемой без ограничений абсолютной собственности) было осуществлено в Англии, Франции, Анжу, Пуатье и других районах, только чтобы корона не утратила существовавшие к тому моменту феодальные сборы. Сходным было происхождение защиты прав собственности чужих торговцев, что можно видеть по установленным Бургундией правилам проведения ярмарок в Шалоне и Отуне (Autun). По точно таким же причинам предпринимались и такие меры, как умножение числа пошлин, произвольных конфискаций, принудительных займов и тому подобное, которые увеличивали неопределенность относительно прав собственности. Направление действий правительства зависело от его фискальных интересов.".]
В качестве исключений из общей склонности правительств ставить на первое место не разумное развитие прав собственности, а немедленные фискальные интересы, Норт и Томас указывают на администрацию Нидерландов при герцогах Бургундских и на первых Габсбургов, просвещенность которых постепенно слиняла из-за крайней нужды в деньгах на военные предприятия. ["В общем и целом политика Бургундцев и Габсбургов была направлена на объединение страны и поощрение торговли, что содействовало процветанию экономики и доходам короны. В XVI столетии семнадцать провинций империи Карла V сохраняли лояльность и снабжали корону все большими суммами, которые шли на войны за расширение империи. Благодаря процветанию, Нидерланды стали жемчужиной империи Габсбургов, и являлись самым мощным источником доходов казны... Но хотя Нидерланды терпели Карла V, они не стали мириться со все более тяжкими поборами его наследника Филиппа II. Нидерланды приняли лидерство принца Оранского и восстали, что повело к длительной борьбе, осложненной религиозными противоречиями." (там же, с. 134)]
Чтобы судить о том, действительно ли более защищенная собственность стала фактором роста торговли, следует ответить на вопрос, была ли в 1750 году собственность более защищена, чем, скажем, в 1300 году. Борьба торговцев со своими суверенами за свободу от произвольных конфискаций веками шла на фоне непрерывных войн между суверенами, и большая правовая защищенность прав собственности подрывалась грабежом и реквизициями вторгшихся армий. Однако вплоть до Французской революции европейские войны велись небольшими отрядами, и торговцы страдали от мародерства не так уж сильно. Исключением была Столетняя война во Франции, после окончания которой в середине XV века иноземные вторжения не повторялись практически до 1814 года. Другим исключением была разрушительная Тридцатилетняя война в Германии 1618–1648 годов. Так что есть все основания заключить, что войны того времени были просто не в силах подорвать правовые гарантии собственности, если они существовали. Это совершенно ясно видно на примере Англии и чуть менее отчетливо во Франции, а после XVI века в Голландии. Мы можем сделать вывод, что в период подъема западной торговли увеличивалась защищенность торговли.
Экономические объединения, не основанные на родственных связях
Несомненно, семья – древнейший из социальных институтов и, судя по всему, является древнейшей формой хозяйственной организации. Мы принимаем, как должное, участие в фермерском труде каждого члена семьи за исключением детей. В средние века все деловые предприятия были семейным бизнесом, осуществляемым на средства семьи, управленческие и технические знания для которого также предоставлялись через семейные или родственные связи. Даже в такой развитой торговой общине, как венецианская, коммерция имела основой семейные товарищества, а совместные предприятия с посторонними были, скорее, исключением из правил. Непосильные для семьи долгосрочные инвестиции в судостроение и морскую торговлю осуществлялись государством. [Фредерик Лейн описывает венецианское семейное товарищество как одну из форм организации предприятия в гл. "Family Partnerships and Joint Ventures in the Venetian Republic". См.: Frederic C. Lane and Jelle C. Riemersma, eds., Enterprise and Secular Change (Homewood, Ill.: Richard D. Irwin, 1953), pp. 86–101. Как инструмент сохранения целостности семейного состояния венецианское партнерство наследников сравнимо с английским установлением о праве старшего сына на наследование земли.]
В средние века семья была единственной удовлетворительной моделью торгового предприятия. Сами по себе феодальная система и церковь являли собой громадные иерархические системы, в которых подчиненные приносили вышестоящим ритуальные клятвы в верности и послушании. Как свидетельствует практика позднего средневековья, при всей торжественности клятв и ритуалов их оказывалось недостаточно для выработки той атмосферы доверия и надежности, без которых невозможны длительные хозяйственные начинания.
Однако в тех случаях, когда потребности торговли превосходили возможности семейных фирм и случайных партнерств, частные фирмы могли торговать и инвестировать только при наличии какой-то иной базы для взаимного доверия. Расширение после XVI века неправительственной торговли и инвестиций было бы просто невозможно без создания чисто экономической формы организации, способной сформировать эквивалентные семейным связи. Без этого для всех проектов, слишком крупных для семейных фирм, стали бы неизбежными решения в духе венецианской олигархии, где финансирование брало на себя государство.
Мы не можем знать наверняка, как возникла новая лояльность, каковы психологические источники верности новым институтам, которые были совершенно чужды моральным и религиозным структурам уходящей эпохи. Даже сегодня в каждой западной стране некоторые люди не способны ощутить свою принадлежность к ориентированным на продажу и прибыль экономическим предприятиям, и эта отчужденность есть только остаток тех чувств, которые должны были господствовать непосредственно по следам феодализма. Создание в XVII веке новой модели организации было не малым достижением. Позднее, когда коммерческие предприятия стали обычным делом, появилась возможность объяснить лояльность к организации личными связями, формируемыми долгими годами ученичества и подчиненного положения. Но при своем появлении несемейные предприятия непременно должны были использовать другие источники верности и доверия.
Идея верности предприятию предполагает само предприятие. По утверждению Зомбарта, капиталистическое предприятие включает: ...возникновение над хозяйствующими индивидами и вне их отдельного хозяйственного организма: все деловые трансакции, которые прежде совершались более или менее изолированно – по очереди или одновременно – теперь оказались объединены рамками одной хозяйственной единицы – предприятия. Эта единица представляет собой непрерывное дело, длящееся дольше, чем жизнь участвующих в нем индивидов, служащее "носителем" экономического действия. В прежние времена также бывали надындивидуальные организации, особенно в сфере хозяйственной жизни, но те организмы связывали воедино все аспекты жизни естественных человеческих групп. Длительность существования таких общин или тотальных ассоциаций обеспечивалась естественной сменой поколений. Племя, клан, семья, даже деревенская община и гильдия были примерами такого рода надындивидуальных организмов, и хозяйственная деятельность составляла только часть их существования, имела смысл только относительно всего остального. [Wemer Sombart, "Medieval and Modem Commercial Enterprise", в кн. Lane and Riemersma eds., Enterprise and Secular Change, p. 36. Данная глава представляет собой выборки из главного произведения Зомбарта Der modeme Kapitalismus.]
Верность по отношению к группе, взаимное доверие и поддержка по необходимости культивировались среди тех, кто разделял опасности военной жизни и мореплавания, и, может быть, не случайно, что в бурные годы XVI и XVII столетий английские и датские торговцы были воинами или моряками. Легко представить себе создание делового предприятия компаньонами, которые научились доверять друг другу на войне или на море, поскольку такое часто случается и в наше время. (Например, поколение, которое в свои двадцать лет участвовало в гражданской войне в США, когда ему стало сорок, изобрело схему предприятий, не базирующихся на родственных связях, – современную промышленную корпорацию.) Но существовали и другие значимые источники такого рода связей. Группы торговцев в Англии и в датских городах были относительно небольшими, нередко организованными в гильдии, и сплочены страстным участием в борьбе датчан против испанцев или английских торговцев против Стюартов. Личный статус внутри группы зависел от верности своим обязательствам и готовности их поддерживать, то есть от привычек, которые хорошо вписываются в схему поведения человека, преданного своему предприятию.
В ранних корпорациях необходимое доверие должно было связывать довольно посторонних друг другу людей. Речь шла не о доверии к близким деловым сотрудникам, но о готовности множества инвесторов положиться на честность и умение директоров и менеджеров корпорации. Каким-то образом значительное число имеющих деньги людей (тех, кто вкладывали в корпорации) должны были уверовать в то, что другие (те, кто управляли корпорацией) являются людьми честными и прилежными, что им можно верить. Такое доверие предполагает общее чувство деловой этики, и это последнее вряд ли могло быть заимствовано из учения католической церкви или у старой аристократии. Источники этой общей нравственности следовало отчасти искать в союзах торговцев, и не исключено, что в Англии и Голландии – в ведущих торговых странах того времени – эта солидарность усиливалась движением Реформации и сопутствовавшим ей нравственным порывом (подробнее мы обсудим это ниже). Само презрение церкви и старой аристократии к торговцам могло только усиливать их стремление к выработке кодекса чести, основанного на своевременной уплате долгов и верности к вышестоящим, – чего сильно не хватало в кодексе аристократической чести.
Может быть, историки, изумляющиеся возникновению не имеющих родственной основы организационных связей, тем самым выдают некую часть собственного феодального наследия: аристократическое презрение к моральным ценностям буржуа. Явно полезнее подчеркивать агрессивность и алчность постфеодальных торговцев, чем их способность к созиданию нравственных норм. Но бесспорен тот факт, что именно торговцы развили пригодную для жизни в высокоорганизованном предприятии систему нравственных норм. Никаким другим образом несемейные предприятия, осуществившие такие грандиозные проекты, как колонизация, развитие внешней торговли, строительство каналов (а позднее и железных дорог), не смогли бы снискать верность и преданность к организации, без которых реализация этих целей была бы недостижимой – а они таки нашли источники этого.
Двойная запись в бухгалтерии
Для создания отличного от семьи делового предприятия было необходимо, во-первых, вообразить такое предприятие, а во-вторых, найти способ отличать дела предприятия от семейных дел его владельцев. Это было нелегко в эпоху, когда члены семьи и работники предприятия были одно и то же, когда собственники предприятия и оно само располагались в одном строении, а все члены семьи работали на общий котел. [Говоря о развитии в Италии, Вебер утверждает: "Первоначально различия между семейным хозяйством и бизнесом не было. Такое разделение возникло постепенно на базе средневекового учета денежных счетов..., но осталось совершенно неизвестным в Индии и Китае. В семьях богатых флорентийских коммерсантов, таких как Медичи, домашние расходы и деловые операции не разделялись в учетных книгах. Баланс подводился в первую очередь для внешних сделок, а все остальное оставалось "в семейном котле" семейной общины." (General Economic History, p. 172)] В мире семейных предприятий потребность в различении между семейной и индивидуальной собственностью могла возникнуть из желания отдельных членов семьи торговать в свою пользу или владеть чем-то, не принадлежащим семье. Для этого было недостаточно просто отдельного перечисления собственности предприятия и собственности отдельного владельца. Следовало отделить запись трансакций предприятия от записи трансакций отдельного человека, и эти записи следовало соотнести с имуществом предприятия. Нужно было, чтобы успешные операции записывались как увеличивающие собственность, а неудачные – как уменьшающие ее. Очевиднейшая выгода двойной записи (в бухгалтерских книгах) заключалась в том, что торговец получал возможность контролировать точность регистрации каждой операции. Общим принципом сложной системы правил было то, что каждая трансакция одновременно фиксировалась как изменение активов (приход) и пассивов (расход). Если после суммирования записей в каждом разделе суммы не совпадали, следовало искать ошибку. Ни в самом этом принципе, ни в стремлении торговцев к точности записей нет и намека на то, что система двойной записи могла бы стать источником идеи о непрерывно существующем предприятии, которое представляет собой некоторое юридическое лицо (целостность), отличное от своих владельцев, за исключением одного момента: чтобы пассивы были равны активам нужно, чтобы пассивы включали обязательства предприятия перед третьими лицами и перед владельцами – чистую стоимость предприятия.