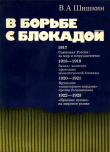Текст книги "Как Запад стал богатым (Экономическое преобразование индустриального мира)"
Автор книги: Н Розенберг
Соавторы: Л Бирдцелл
Жанр:
Деловая литература
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
Осадная артиллерия покончила с военным значением замков примерно в то же время, когда профессиональные армии доказали никчемность рыцарского ополчения. В начале XVI века научились строить крепости, способные выдерживать пушечный огонь. Но для феодальных баронов, которым было не по карману содержать артиллерию, не хватало средств и на возведение новых крепостей. К тому же в XVI веке королевская власть, по крайней мере, во Франции и в Англии, стала достаточно сильной, чтобы не позволять своей знати возводить современные крепости. Последствия этих изменений затронули экономическую, политическую и социальную жизнь. Например, вооруженные силы нового образца заставили искать ответа на давний вопрос: как их финансировать? В условиях феодальной системы предполагалось, что короли содержат себя за счет доходов от королевских поместий и сборов с королевских вассалов. К налогам, выходившим за пределы обычных феодальных пошлин, относились как к нарушению социального договора, не имеющему силы без согласия вассалов. В результате в конце XV века во Франции и чуть позднее в Англии дополнительные суммы для содержания армии нового типа пришлось собирать за пределами феодальной системы – с торговцев и с ремесленных гильдий. [Норт и Томас указывают, что в XVI веке в Нидерландах с их развитой торговлей испанцы собирали податей в десять раз больше, чем со всех своих Индий. См.: North and Thomas, Rise of the Western World, p. 129.] Французские короли, даровав налоговые привилегии знати и церкви, приобрели право собирать талию (прямой налог), эйдес (форма налога с продаж), и габель (пошлина на соль). Английские короли, не сумевшие получить полномочия на установление налогов без согласия парламента, были еще сильнее заинтересованы в доходах от продажи монополий. Таким образом, и во Франции, и в Англии мало того, что феодальные обязательства утратили свою ценность в качестве основы военной мощи, но финансирование новых военных структур осуществлялось за счет нефеодальных источников, а в результате сохранявшиеся феодальные подати утратили свою первостепенность. При всей важности этих изменений в устройстве вооруженных сил, они не были единственным фактором разложения феодальной системы. Такое же значение имели упадок бартерной экономики поместья, и вытеснение феодальной системы крепостного труда, основанной на обмене труда на землю, монетизированным сельским хозяйством. Поместная система крепостного труда уступала свои позиции медленно. Сначала у крепостных развился собственнический интерес к земле, имевший форму ожидания, что их арендные права будут возобновляться от года к году, и затем перейдут к наследникам – быть может, при уплате налога на наследство, но, тем не менее, было ожидание, что перейдут. Первоначально крестьяне не могли продавать свои владельческие права; поэтому уход из поместья означал утрату небольшого надела, который обрабатывался уже несколькими поколениями семьи и за пользование которым был уплачен немалый налог на наследство. Такого рода потеря затрудняла арендаторам уход из поместья как протест против чрезмерных поборов со стороны сеньора. При малейшей возможности крестьяне откупались от феодальных обязательств, иногда сразу и целиком, иногда – с помощью периодических денежных выплат. Такой способ избавления от феодальных повинностей и податей, в сочетании с приобретением крестьянами отчуждаемого права на возделываемую землю – не разовое событие, а длительный процесс, начавшийся в Голландии, Франции, Англии, – обозначили конец поместной системы и появление бок о бок с сохранившимися поместными хозяйствами большого монетизированного сектора, состоявшего из малых хозяйств. Эти, хотя и медленные, но революционные изменения в экономической организации сельскохозяйственного производства, сделали возможными улучшение приемов ведения хозяйства, рост производства продуктов питания и в конечном итоге – урбанизацию общества. Следует учесть и то, что вторая половина XIV столетия была эпохой катастроф, которые и сами по себе были способны разрушить любое социальное равновесие: войны, эпидемии чумы, неурожаи, и, прежде всего, беспрецедентное сокращение населения. Можно истолковывать эти катастрофы как жуткую форму реакции на давление населения, возникшего в результате завершения процесса освоения диких земель, начатого в Европе лет за 400 до того. Феодальная система, ее цены и обязательства, сплетенные в сеть бессрочных договоров, были не способны ни предупредить о фундаментальном изменении в относительной редкости труда и земли, ни вовремя приспособиться к нему. Ко всем этим событиям Западная Европа приспособилась, изменив систему. В результате такого изменения военных технологий, при котором земельная аристократия утратила свою полунезависимость и превратилась в страту придворных и политиков, Западная Европа изменила форму землевладения на такую, которая заместила систему крепостного сельского хозяйства на денежное и -далеко не случайно – начала процесс сокращения доли сельского населения и увеличения доли горожан. Как мы увидим в главе 3, в середине XIV столетия начались события, которые не могли не привести к устранению рыцарей с их замками и со всем обществом, политическую и экономическую форму которого они определяли. Эта эпоха катастроф была одновременно временем роста торговли – независимых предприятий, действовавших поверх политических и религиозных границ и традиций; возник класс профессиональных торговцев, сознающих собственные интересы и одновременно исполненных страха, зависти и подозрительности по отношению к военной и церковной аристократии. Это было время распространения новых знаний и технологий, которые стали известны в ходе торговых экспедиций или крестовых походов, были принесены беженцами из завоеванного мусульманами Восточного Средиземноморья. Короче говоря, это была эпоха изменения социальной системы, ориентированной на стабильность. Заключение Европа, встав в XV веке на путь, ведущий к богатству, оставила в прошлом весьма традиционное общество. Это общество жило, работало и торговало в соответствии с традицией и обычаем, а не в соответствии со стратегией и расчетом. Политический и экономический порядок, будь то в поместье или в гильдии, коренился в фигуре отца, в семье, роде и семейном хозяйстве. Политическая и хозяйственная власть совпадали. Король и сеньор имели те же власть и обязательства, что пастух по отношению к стаду и отец по отношению к семейному хозяйству. Эта эпоха хорошо поддается романтизации, поскольку ее институты воплощали извечное стремление человека к безопасности, воплощаемой древнейшей формой социальной организации – семьей. Именно в этой системе созрели начала нового порядка. Средневековое общество высоко ценило приключения, будь то путешествия Марко Поло, странствия пилигримов, походы крестоносцев в Святую землю или мифы о приключениях странствующих рыцарей. Политический плюрализм этого общества был результатом того, что наследники Карла Великого не сумели консолидировать политическую власть в Западной Европе, и раздробление реальной политической власти между множеством баронов создало возможности для экспериментирования с новыми формами организации торговли и военного дела. Это же обстоятельство открыло двери развитию городов, и некоторые города сумели получить статус практически независимых образований, вне феодальной системы. Начиная с Х столетия, в Европе постепенно протекал процесс урбанизации, сопровождавшийся неизбежным ростом торговли и подъемом класса торговцев. Усовершенствования в области архитектуры, музыки, искусства, литературы, ремесел и военного дела, ассоциируемые обычно с поздним средневековьем, шли параллельно с развитием городов и торговли. Начиная с большой эпидемии чумы 1347 года, этот долгий период прогресса уступил место столетию катастроф, резко сокративших население. Когда сокращение населения остановилось, и Европа начала восстанавливаться после этого периода бед, технологические изменения и усовершенствования в военном деле обеспечили переход политической власти от феодальных баронов к централизованным монархиям, и феодализм утратил почти все свое политическое значение. Кроме того, в результате процесса, длившегося два столетия (кое-где больше, в Англии и Голландии меньше), феодальное сельское хозяйство, основанное на обмене труда на землю, уступило место монетизированному сельскому хозяйству и небольшим фермам. К 1600 году, когда население Европы опять достигло уровня 1347 года, феодализм уступил место новому экономическому порядку, в основе которого лежал уже не бартер, а торговля за деньги, и цены определялись теперь не в соответствии с законом и обычаем, а устанавливались в торге между продавцом и покупателем. Но это уже тема главы 3.
3. Рост торговли до 1750 года
С середины XV до середины XVIII века происходил рост торговли, а также изобретение и развитие институтов, ее обслуживающих. Этот период закончился как раз перед началом развертывания фабричной системы производства, к середине XVIII века. К тому времени Запад уже одолел и начал теснить вспять исламский мир, который оказывал давление на Европу с VIII века до осады Вены в 1683 году. Запад к этому времени уже создал свои форпосты в Индии, разрушил цивилизации ацтеков и инков, колонизовал Южную и Северную Америки. Короче говоря, Запад уже активно двигался по дороге, ведущей к технологическому, политическому и экономическому господству, задолго до возникновения системы фабричного производства, и достиг экономических преимуществ такого масштаба, что уже тогда мир был разделен на "имущие" и "неимущие" народы. Лучшей иллюстрацией являются поездки царя России Петра Великого в Голландию в XVII веке для изучения кораблестроения и других промышленных профессий – ради успехов политики модернизации России.
Если у этих торговых успехов и была технологическая основа, то ею являлось распространение трехмачтовых парусников в конце XV века: сократив транспортные издержки, эти суда сделали возможной торговлю между отдаленными территориями, открыли доступ к отдаленнейшим уголкам Америки и Азии. Работы Галилея в начале XVII века заложили основы современной науки. В этот период Исаак Ньютон опубликовал свои Математические начала натуральной философии (Principia Mathematica), которые еще 200 лет служили основой развития физики; были изобретены телескоп и микроскоп и открыты микроскопические формы жизни. При всей важности этих событий для будущего развития технологий, они большей частью никак не были связаны с тогдашним ростом торговли. Имелись и исключения, такие как связь между астрономией и искусством судовождения. Но все-таки источники западного торгового капитализма были иными.
Рост торговли в период после XV века был одновременно количественным увеличением объемов торговых операций и качественным изменением, связанным с переходом от средневековой практики торговли на условиях, определяемых традицией и законом, к рыночной торговле, в которой цены вырабатываются соглашением между продавцом и покупателем. И в первую очередь не количественные, но качественные изменения потребовали институциональных изменений – о чем рассказывается в главе 4.
Само по себе увеличение объемов торговли было важным, поскольку делало возможной специализацию. Рост специализации, в свою очередь, требовал достаточно больших рынков, которые позволили бы реализовать возможности специализированных экономических единиц. Как гласит известное изречение Адама Смита, "разделение труда ограничивается размерами рынков". ["Разделение труда ограничивается размерами рынков" – таково название гл. 3 кн. 1 сочинения А. Смита Богатство народов.] В главе 5 мы покажем, что рост рынков стимулировал и, в свою очередь, подстегивался возвышением фабричной системы производства. Но факторы, очерченные в первой половине этой главы, работали на расширение европейской торговли за несколько веков до появления фабрик.
Качественное изменение было, до известной степени, чем-то совершенно обратным практике и верованиям прошлого. В главе 2 мы прервали описание средневековой торговли на том, что система рыночного ценообразования была совершенно несовместима со средневековыми ценностями и потому практиковалась лишь в нескольких городах, которые уже вышли за пределы феодализма и представляли собой некие трещины в системе тогдашних законов и норм. Но каким же образом это презренное исключение из практики и ценностей западного общества достигло господствующего положения в хозяйственной жизни Запада? Некоторые причины указаны во второй части этой главы.
В конце главы мы рассматриваем, как отразился на положении феодальных властителей и других классов феодального общества подъем класса торговцев, а также обсуждаем возникшую в обобщение этого процесса теорию, что историческая наука в целом есть рассказ о том, как один господствующий класс вытесняет другой.
Расширение рынков: географические открытия
Что послужило причиной расширения рынков? Наиболее частый ответ таков: причина расширения рынков – возникшая в результате великих географических открытий европейская торговля с заморскими странами. Васко да Гама чудесным образом обогнул мыс Доброй Надежды и открыл водный путь на Дальний Восток, затем открыли Новый Свет и так далее. Эти заморские рынки доставили грандиозные возможности для извлечения прибыли, что и стало стимулом для капиталистического развития.
Не менее важно, что он" создали политические возможности для капиталистического развития. К началу XVI века феодализм и поместная система уже утратили господствующее положение, но смена им еще не возникла. Не существовало достаточно развитых политических институтов, которые могли бы оградить владение заморскими территориями от посягательств торговцев. Централизованные монархии только укреплялись. Кроме того, заморские рынки были открыты для соперничества разных стран, и попытка Рима разделить заморские рынки только подстегнула протестантскую Реформацию. Короче говоря, имел место вакуум политической власти, и растущее купечество энергично воспользовалось этим для капиталистического освоения заморских рынков. Можно было бы даже сказать, что именно эта прививка агрессивного купечества хиреющему европейскому феодализму стала причиной последнего и смертельного удара по старому порядку.
Именно это объяснение предложили Маркс и Энгельс в Коммунистическом манифесте, опубликованном в 1848 году. В их понимании заморские рынки Америки, Ост-Индии и Китая создали новые потребности, которые не могли быть удовлетворены гильдиями; в свою очередь, "мануфактуры" были вытеснены "паровыми двигателями", "современной гигантской промышленностью". Их точка зрения была весьма влиятельна, и ее стоит процитировать: Открытие Америки и морского пути вокруг Африки создало для подымающейся буржуазии новое поле деятельности. Ост-индский и китайский рынки, колонизация Америки, обмен с колониями, увеличение количества средств обмена и товаров вообще дали неслыханный до тех пор толчок торговле, мореплаванию, промышленности и тем самым вызвали в распадавшемся феодальном обществе быстрое развитие революционного элемента.
Прежняя феодальная, или цеховая, организация промышленности более не могла удовлетворить спроса, возраставшего вместе с новыми рынками. Место ее заняла мануфактура. Цеховые мастера были вытеснены промышленным средним сословием; разделение труда между различными корпорациями исчезло, уступив место разделению труда внутри отдельной мастерской.
Но рынки все росли, спрос все увеличивался. Удовлетворить его не могла уже и мануфактура. Тогда пар и машина произвели революцию в промышленности. Место мануфактуры заняла современная крупная промышленность, место промышленного среднего сословия заняли миллионеры-промышленники, предводители целых промышленных армий, современные буржуа.
Крупная промышленность создала всемирный рынок, подготовленный открытием Америки. Всемирный рынок вызвал колоссальное развитие торговли, мореплавания и средств сухопутного сообщения. Это в свою очередь оказало воздействие на расширение промышленности, и в той же мере, в какой росли промышленность, торговля, мореплавание, железные дороги, развивалась буржуазия, она увеличивала свои капиталы и оттесняла на задний план все классы, унаследованные от средневековья. [К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, 2-е изд., т. 4, с. 425. Заметим, что Маркс и Энгельс термином мануфактура описывают систему производства, сменившую средневековью гильдии. Возникли новые типы специализации работников, но производство еще осуществлялось вручную, с применением простейших орудий. Маркс и Энгельс противопоставляют мануфактуру позднейшим машинным технологиям индустриальной эпохи, которые Они обозначают термином современная промышленность. "Современная" здесь обозначает состояние развития на 1848 год.]
Расширение возможностей заморской торговли, которое подчеркивали Маркс, Энгельс и многие другие, бесспорно, являлось важной частью расширения рынков, приведшего к подъему капитализма. Но налицо и некое преувеличение экономического значения заморской торговли, которое объясняется, с одной стороны, аурой экзотичности путешествий в чужие и дальние земли, а с другой -особым значением этой торговли для финансовых интересов новых национальных государств. Именно в силу своей новизны заморская торговля была совершенно открыта для эксплуатации с помощью налогов и предоставления торговых монополий, тогда как внутренняя торговля была защищена многочисленными хартиями или политическим противодействием, не позволявшим с такой легкостью взимать новые подати. В силу этого соперничающие монархии в борьбе за новые земли использовали и военные методы. Но, несмотря на драматичность новой колониальной торговли и ее значение для королевских финансов и международной политики, существовали и другие, не столь драматичные источники роста рынков, которыми до сих пор незаслуженно пренебрегали: рост населения, увеличение объемов межгородской торговли, рост городов и совершенствование транспорта.
Рост населения и расширение внутренних рынков
Важнейшим фактором приумножения торговли был рост населения Западной Европы, оказавший значительное и глубокое воздействие на все аспекты экономической деятельности. Согласно самым добросовестным оценкам, этот рост начался в позднем средневековье – с XI века, и к началу XIV века население составило более 70 млн. [Оценка в 70 млн. взята из: М. К. Bennett, The World's Food (New York: Harper Co., 1954). В книге ColinClark Population Growth and Land Use (New York, Macmillan, 1977) население Европы в 1340 году оценивается в 84,5 млн., а в 1600 году в 83,4 млн. (р. 64, table III.i).] Растущее население проникало в новые, необжитые районы, вовлекало в оборот новые земли и в целом способствовало более интенсивной эксплуатации земель. Есть основания полагать, что темпы роста населения начали замедляться в начале XIV века. [см. обсуждение этого в: David Grigg, Population Growth and Agrarian Change: An Historical Perspective (Cambridge: Cambridge University Press" 1980), p. 53]. Эпидемия чумы 1347 года в соединении с несколькими годами сильных неурожаев и Столетней войной вызвала обезлюдение Европы.
В начале XV столетия рост населения возобновился во Франции, а позднее, в этом же столетии, и в Англии [там же, рис. 8, с. 52]. Вскоре после 1600 года население опять достигло уровня 1347 года. В некоторых районах Европы подъем начался раньше, где-то – позже, но как бы то ни было, население Европы более чем удвоилось и между 1600 и 1800 годами достигло уровня в 170 млн. [Clark, Population Growth and Land Use, p. 64, table III.i]. Из этих данных о росте населения можно заключить, что объем внутриевропейских рынков увеличивался параллельно с расширением заморской торговли и открытием новых территорий.
Внимание к росту заморской торговли до сих пор затемняло роль внутриевропейского рынка. На самом деле в Европе задолго до эпохи географических открытий возникла очень интенсивная торговля. В основе ее лежали различия климата, природных ресурсов и плотности населения. Прибалтийские районы издавна служили поставщиками строевого леса (важнейшее сырье допромышленных обществ) и других лесных продуктов, а позднее – зерна. Иберийский полуостров экспортировал шерсть, растительные масла, красители, железную руду и некоторые фрукты. Уже в позднем средневековье потоки этих товаров двигались на север и на юг "из лесов, с хлебных полей, с земель богатых медью, оловом или железом, от морей изобильных рыбой к виноградникам, оливковым рощам, овечьим пастбищам, соляным заливам, к текстильным дворам, к кузнецам и корабелам, встречаясь, пересекаясь и меняя направление на великом перекрестке в Нидерландах и в других местах, вбирая то, что несли другие потоки или питая их" [R. H. Tawney, Business and Politics under James / (Cambridge: Cambridge University Press, 1958), pp. 21–22].
Много других примеров свидетельствуют о значительности межрегиональной европейской торговли в период позднего средневековья. При отсутствии холодильников и современных способов консервирования привозимые из Азии пряности были для всей Европы не роскошью, но скорее предметом первой необходимости, и торговля пряностями была одним из важнейших стимулов на заре эпохи Великих географических открытий. В Восточной Европе спрос на мясо и свободное передвижение пасущегося скота создали торговлю на достаточно больших расстояниях между пастбищами и городами. В XV веке, когда было открыто, что мясо можно консервировать с помощью соли, возникла важная отрасль торговли. Существовала торговля оружием. Милан был главным центром производства оружия в средние века. С изобретением пороха важнейшим центром производства огнестрельного оружия стал Льеж. Изобретение пушек превратило торговлю, позволявшую покупать или арендовать их, в условие выживания для тех районов, где не было своего литейного производства. [William H. McNeill, The Pursuit of Power (Chicago: University of Chicago Press, 1982), p. 113. Макнейл утверждает, что оружейники Льежа были "самыми лучшими и самыми дешевыми в Европе и во всем мире", и делает следующее наблюдение: "Только когда оружейники и капиталисты Льежа и других оружейных центров мира избавились от необходимости поставлять свои изделия по ценам, предписанным испанцами или любой другой властью, правители смогли получать то, что им требовалось, и в нужных количествах".]
Подробности того, как расширялась торговля в Северной Европе, на берегах Средиземного моря, между Северной и Южной Европой хорошо изучены и здесь нет смысла об этом говорить. [Лучшими являются обзоры: М. М. Postan, "The Trade of Medieval Europe: The North", и Robert S. Lopez, "The Trade of Medieval Europe: The South", chaps 4 и 5 соответственно in The Cambridge Economic History of Europe, M. M. Postaia Mid H. J. Habakkuk, eds., vol. 2, Trade and Industry in the Middle Ages (Cambridge: Cambridge University Press, 1952).] Стоит отметить лишь два момента в развитии торговли между городами, имевшие значительные последствия для будущего.
Во-первых, Англия, которая позднее разделила с Голландией лидерство в развитии институтов капитализма, в сущности, была на протяжении большей части средних веков экономической колонией Западной Европы. Она поставляла сырье для специализированных центров мануфактурного производства – продукты питания, руды и прежде всего шерсть для ткацких производств Нидерландов и Италии. Таким образом, уже очень давно внешняя торговля стала для Англии более важной, чем для большинства других стран Европы. Только поразительно быстрый подъем собственной ткацкой промышленности во второй половине XIV века изменил колониальный статус Англии.
Во-вторых, следует отметить ключевую роль Северной Италии в создании институтов капитализма. Многие новые подходы к организации торговли и производства в Северной и Западной Европе на деле были заимствованием, иногда с большим опозданием, практики, развитой в Северной Италии. [Обстоятельный обзор фактов, относящихся к развитию коммерческих институтов в Южной Европе в средние века, см. в: Medieval Trade in the Mediterranean World, Robert Lopez and Irving Raymond, eds. (New York: Columbia University Press, 1955).] Об этом заимствовании напоминает Ломбардская улица в Лондоне, увековечившая память об итальянских торговцах и промышленниках.
Общепризнано, что заметный рост европейской торговли начался в позднем средневековье и продолжился после краха феодализма. Нас здесь занимают не детали этого роста, но исторические зависимости между общим увеличением объема торговли, с одной стороны, и параллельным ростом городов и развитием капиталистических институтов – с другой.
Подъем купечества
Первым следствием увеличения объема европейской торговли в позднем средневековье было становление класса профессиональных торговцев – купцов. Мы уже отмечали, сколь незначительна роль профессиональных торговцев в средневековой торговле. Пока объем торговли оставался небольшим, ею можно было заниматься между делом, оставаясь при этом главным образом рыбаком, крестьянином, землевладельцем или монахом. Для них торговля была просто способом обратить произведенный продукт в деньги, а не основной профессией.
Простого увеличения объемов, торговли для возникновения профессиональных торговцев было бы недостаточно. Для тех, кто торгует произведениями собственных рук, не обязательно жить в городе. Но профессиональный торговец не может жить в деревне. Чтобы зарабатывать исключительно торговлей, нужна свобода принимать решения – когда и по какой цене покупать и продавать. Такого рода свобода, непременная для профессиональных торговцев, была совершенно несовместима с бесчисленными феодальными ограничениями, в том числе с представлениями о "справедливых" ценах.
Постан отмечает, что возникновение купечества предполагало устранение целого множества феодальных ограничений личной свободы и частной собственности: Чтобы быть профессиональным торговцем, который занимается своим делом круглый год, купцы и ремесленники должны были освободиться от многочисленных связей и повинностей, ограничивавших свободу передвижений и свободу заключения соглашений для низкопоставленных групп феодального общества. Их жилые и рабочие помещения должны были быть свободными от обязательств, обременявших сельских арендаторов; сделки между купцами не могли регулироваться феодальным обычным правом. Отсюда вытекает важная роль средневековых городов, представлявших собой нефеодальные острова в море феодализма; здесь же причина возникновения большого числа городов в XI веке – в период роста торговли и созревания феодализма. В этом же ключевая роль для возникновения и развития городов хартий или привилегий (которые были ничем иным, как гарантией на исключение из феодального порядка). Эти хартии превращали деревни и крепостные посады в города; ими отмечен путь к полноценному городскому статусу. [Postan, "Trade of Medieval Europe", p. 172]
Иными словами, торговец не мог быть одновременно крепостным, живущим в поместье и обязанным нести повинности перед сеньором. Он должен был жить в городе, за пределами поместной системы. Конечно, в средневековом мире были всегда профессиональные торговцы. Со времен финикийцев люди этой профессии никогда полностью не исчезали из жизни Средиземноморья и Европы. На протяжении средних веков Венеция, города Ломбардии и Ганзейской лиги, обитатели усыпанного островами фризского берега от Голландии до Дании и даже викинги снаряжали водные и сухопутные торговые караваны, что было бы неосуществимо без профессиональных купцов. Обычно ремесленник или владелец поместья предпочитал сразу получить плату за товары, отправляемые с дальним караваном, а иноземный купец имел еще больше оснований стремиться к расчету на месте за привезенное им. Каждый обладавший временем и навыками, чтобы доставить груз в далекий порт, продать его там, закупить то, что может быть продано дома, и вернуться назад, – был купцом, по определению. Даже в таком рутинном деле, как сбыт английской шерсти в Нидерландах, посредниками выступали купцы. Непременной частью сельской жизни были бродячие торговцы. Так что было бы ошибочным предполагать, что подъем торговли в позднем средневековье привел к повторному изобретению профессии, забытой после падения Рима. Скорее дело обстояло так, что с XI по XIV век активность купеческого сословия увеличивалась параллельно с расцветом феодальной системы, которая использовала их услуги, но при этом не предоставляла купцам законного места в жизни общества. Купцы были частью городской жизни, а сами города являлись островками в море феодализма.
Урбанизация
Рост рынков и торговых отношений был усилен расширением городских центров и углублением специализации производства в таких местах, как Нидерланды и Северная Италия. Их росту способствовал не только общий рост населения, но и увеличение доли городского населения. Как урбанизация, так и специализация производства требовали расширения сети рыночных отношений и содействовали этому. [Естественно, что объем торговых связей зависит от схемы промышленного развития. Когда надомники работают на давальческом сырье и сбывают все оптом посреднику-поставщику сырья, они сохраняют связи с землей и торговля продуктами питания получает меньшее развитие.] Городская промышленность через сеть торговых связей получает сырье из множества географически разбросанных рудников, лесов, ферм и пастбищ, и снабжает своими изделиями множество отдаленных пользователей. Деревня, которая прежде производила почти исключительно для собственного потребления, начинает производить все больше сверх собственных потребностей. Эти избытки продукции обрабатываются и перевозятся в города, и значительная часть полученных доходов расходуется на приобретение городских продуктов. Порой рост городов и производства стимулирует расширение производства сырья и продуктов питания, а иногда открытие новых природных богатств или новых торговых путей стимулирует развитие городов и производства, но чаще всего причинно-следственные связи неясны, поскольку все типы роста конкурируют друг с другом и взаимно усиливаются. Доход городов образуется из разницы между тем, что они уплачивают за потребляемые сырье и продукты питания, и тем, что они выручают от продажи конечных продуктов, плюс доход от банков, страхования, складирования товаров, оптовой торговли, предоставления правовых, медицинских, правительственных и религиозных услуг. Деревенская жизнь зависит от торговли меньше, чем городская, поскольку ферма (не говоря уже о поместье) более самодостаточна, чем городская квартира: поэтому подъем городской жизни неизбежно сопровождается подъемом торговли.