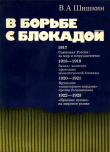Текст книги "Как Запад стал богатым (Экономическое преобразование индустриального мира)"
Автор книги: Н Розенберг
Соавторы: Л Бирдцелл
Жанр:
Деловая литература
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
В XVIII веке производительность печей с поддувом существенно выросла. Производя по 12 тонн в неделю тридцать недель в году, можно было получить за год не больше 360 тонн; но, согласно оценкам Хайда, стаффордширские печи давали в среднем около 1600 тонн в год [Hyde, Technological Change, p. 30]. Выработка железа ограничивалась гоступностью больших количеств древесного угля, который можно было заготовлять в больших лесах. Леса должны были располагаться неподалеку, поскольку дальние перевозки дерева были чрезмерно дороги, а качество древесного угля при перевозке снижалось. [Braudel, Structure of Everyday Life, pp. 362–367. В Англии ограничили вырубку лесов для выплавки чугуна уже в царствование Елизаветы, в 1558 году.] Размер печей был ограничен также мощностью привода для воздуходувных насосов – и этого ограничения было не обойти до появления двигателя Уатта. На деле один из двух первых двигателей Уатта был построен для приведения в движение воздуходувки в печи, принадлежавшей Джону Вилкинсону, мастеру железных изделий из Стаффордшира. [Первоначально потребность в более сильном поддуве воздуха была вызвана переходом от древесного угля к коксу. См.: Н. R. Schubert, "Extraction and Production of Metals: Iron and Steel", chap. 4, part 1, Oxford History of Technology, vol. 4.] Результатом было то, что целое поколение печей с поддувом (в том числе и печь Вилкинсона) были неэкономичны, вследствие их малых размеров. В XIX веке размеры и сложность печей увеличивались из-за стремления к более экономному использованию топлива. Поскольку большие печи рассеивают меньше тепла, чем малые, они более экономичны. Что касается сложности, то предварительный подогрев продуваемого воздуха потребовал разработки соответствующих устройств. Дополнительным источником экономии стали улавливание и утилизация отходящих газов. Дальнейшая экономия топлива была получена за счет соединения плавки с поддувом воздуха, в результате которой получается чугун, с последующими операциями, необходимыми для выработки стали, что позволило исключить затраты на повторный нагрев извлеченного из печи чугуна. Соединение этих процессов имело целью дальнейшее сокращение расходов на топливо. Возросшее производство чугуна и стали потребовало увеличения производства угля и железной руды, а также расширения транспортной сети как для подачи сырья, так и для вывоза готовой продукции. Даже на территории плавильных предприятий понадобились транспортные сети такой мощности и сложности, каких не знал XVIII век. Паровой двигатель был ключом к увеличению производства чугуна и стали и к снижению издержек на их производство, поскольку его мощь участвовала в добыче сырья, в доставке его водой и сушей, в работе самих печей. Новые печи до известной степени создали спрос на свою продукцию: из стали и чугуна строили паровые двигатели, железные дороги, а со второй половины XIX века и суда. Вплоть до второй половины XIX века процесс выплавки стали, требовавший добавления к чугуну небольших, тщательно дозируемых количеств углерода, был медленным и дорогим, и производство было невелико. Сэр Генри Бессемер, объявивший о своих планах в 1856 году, после нескольких лет экспериментов, улучшений и демонстраций запустил свой так называемый конвертер – огнедышащее устройство, которое выпускало не только самую дешевую сталь, но и являло собой самый захватывающий фейерверк промышленной революции. Результатом открытия Бессемера стала эпоха стали: конец XIX–начало XX века. В начале промышленной революции машины изготовлялись в основном из дерева, с некоторыми чугунными деталями и с очень небольшими упрочняющими стальными конструкциями. Вытеснение дерева чугуном и сталью привело к увеличению срока службы, к повышению скорости, точности и сложности механизмов. Стали возможными большие суда, мосты, армированные сталью небоскребы, большие паровые двигатели и множество всего остального, что оказывается более экономичным при увеличении размеров. Сталь и чугун были принципиально важны для революции в железнодорожном транспорте, поскольку именно из них изготовляли локомотивы, колеса и рельсы. Двигатель внутреннего сгорания, который позднее нашел применение в автомобилях, самолетах, в дизельных локомотивах и судах, едва ли стал бы возможен без изобилия чугуна и стали. Двигатели внутреннего сгорания нуждались в чугуне и стали потому, что они, в сущности, представляют собой воздушные насосы, и их эффективность непосредственно зависит от точности изготовления поршней и клапанов, а срок их службы определяется способностью поршней и клапанов сохранять размер и форму при длительной эксплуатации в условиях высоких – для того времени -температур и давления. Это была эпоха стали и в политике, поскольку военная сила национальных государств попала в зависимость от наличия развитой сталелитейной промышленности, которая могла бы поддерживать соперничество пушек и брони, начавшееся в 1850-х годах. Военная мощь зависела также от наличия винтовок с затвором (которые были приняты на вооружение Пруссией перед франко-прусской войной 1870 года, а затем и всеми остальными) и пушек, заряжающихся через казенную часть. Изготовление такого оружия требовало соответствующих стальных сплавов, точности штамповки и обработки стали. Текстильная промышленность В первые десятилетия промышленной революции текстильная промышленность не только в Англии, но и в Соединенных Штатах была лидером фабричного развития. Изобретатель крутильного станка Ричард Аркрайт, способствовавший созданию множества крутильных фабрик [S. D. Chapman, "The Transition to the Factory System in the Midlands Cotton-Spinning Industry", Economic History Review 17: pp. 526–543, pp. 531–532], был назван "отцом английской фабричной системы". [Чепмен указывает, однако, что Ноттингемские торговцы трикотажем опередили Аркрайта в создании фабрик. Чепмен перечисляет десять фабрик, основанных Аркрайтом в Мидленде, а позднее Аркрайт открывал еще фабрики в Манчестере и Шотландии: "Для Аркрайта и его последователей самой большой ценностью Дербишира, не считая водной энергии, было наличие рабочей силы. Будучи довольно бедным сельскохозяйственным районом, Пик-Дистрикт поддерживал довольно многочисленное население благодаря горному делу, центр которого находился в Вирксворте, в двух милях от Кромфорда. Сокращение горнодобычи к концу XVIII века создало армию женщин и подростков, нуждавшихся в заработке.".] Первые текстильные фабрики были также предметом общественного возмущения, которое привело к принятию в Англии первого фабричного законодательства. В начале XVIII века изготовляли пряжу и ткали почти исключительно на ручных или ножных станках, которые размещались в жилищах работников. Торговцы снабжали работников материалами и закупали готовые изделия. Небрежность работников, проблемы с кражей материалов и желание более тщательно контролировать процесс производства явно подталкивали к принятию фабричной системы еще до изобретения фабричных станков. ["Прежде всего следует подчеркнуть, что промышленная революция не была результатом механических изменений. Нет сомнений, что даже если бы паровая машина так и осталась мечтой Уатта, а полуавтоматические станки так и не были бы изобретены, все равно будущее принадлежало бы небольшим ткацким фабрикам, оборудованным ручными станками, все равно фабричные мастера получали бы все большую власть над производством, а торговцы все в большей степени выступали бы в роли заказчиков. Уже до изобретения каких-либо революционизирующих механических устройств духом времени была централизация управления. Ткацкие мастерские, нанимавшие по несколько квалифицированных работников, не были редкостью "в конце последнего (XVIII-го) и начале нынешнего (XIX-го) столетия" – говорит Баттерворт, описывая положение дел в Олдхеме и окрестностях, – "многие ткачи владели просторными ткацкими мастерскими, где работало не только множество взрослых работников, но и немало детей-учеников"." (S. J. Chapman, "Cotton Manufacture", Encyclopaedia Britannica, 11th ed. vol. 7, pp. 281–301) См. также его статью "Cotton: Marketing and Supply", там же и его же: The Lancashire Cotton Industry (Manchester: University Press, 1904).] Первые механические станки в хлопчатобумажной промышленности использовались для изготовления пряжи. Патент Аркрайта устанавливает примерную дату перехода – 1769 год. Поскольку его машины нуждались в механическом приводе, их внедрение сначала вызвало децентрализацию прядильного производства, которое сконцентрировалось вокруг запруд. Чепмен принимает оценку современников, согласно которой в 1788 году в Соединенном Королевстве изготовление хлопка обслуживали 143 водяных мельницы [Chapman, "Cotton Manufacture", p. 285с]. [А согласно А. Д. Тейлору: "К 1850 году хлопчатобумажная промышленность была в процессе стягивания в район угольных шахт Ланкашира или в обслуживаемые им районы; но в этом пространстве деревенская фабрика была вполне жизнеспособна". "Concentration and Specialization in the Lancashire Cotton Industry, 1825–1850", Economic History Review, N 2: pp. 114–122.] Но с изобретением парового двигателя прядение вернулось в города, где теснилась текстильная промышленность, в которой работали потребители пряжи – ткачи. Организация британской текстильной промышленности была необычна тем, что фирмы здесь специализировались на одной какой-либо стадии процесса изготовления ткани. Вместо строительства полностью интегрированных заводов, вроде сталелитейных и (как мы увидим вскоре) керамических производств, британские текстильщики размещали высокоспециализированные заводы рядом друг с другом. Развитие этих региональных текстильных комплексов было облегчено распространением паровых двигателей, вытеснивших водяной привод. [Форбс называет переработку хлопка "царством паровых двигателей" ("Power to 1850", A History of Technology, p. 156). С. Д. Чепмен довольно подробно рассматривает необычную организацию британской текстильной промышленности в своих статьях в Encyclopaedia Britannica, "Cotton Manufacture" and "Cotton: Marketing and Supply".] Механизация ткацкого дела была осуществлена позже. Первый вариант ткацкого станка Картрайта появился примерно в 1787, году, но только в начале следующего века изменения и усовершенствования сделали его вполне надежной машиной. Длительное время на этом станке можно было изготовлять только сравнительно низкокачественную хлопчатобумажную ткань. Благодаря этим станкам было расширено производство дешевого, низкосортного текстиля, и эти ткани охотно раскупались миллионами тех, кто не мог позволить себе ничего лучшего, но работавшие вручную ткачи не потеряли из-за этого своих обычных заказчиков. На развитие событий влияли и коммерческие соображения, в свете которых механическое прядение было привлекательней механического изготовления тканей. Пряжа была более однородным и менее разнообразным продуктом, и ее производство было сопряжено с меньшим рыночным риском. Вероятность того, что дорогостоящим станкам придется бездействовать в периоды слабого спроса, была невелика. В Англии даже в 1829 году еще были основания сомневаться в экономических преимуществах механических ткацких станков, несмотря на то, что их число возросло от 2 400 в 1813 году до 55 500 в 1829 году [Chapman, "Cotton Manufacture", Encyclopaedia Britannica, p. 287b]. С годами постепенно повысилась производительность ткацких станков с механическим приводом, и улучшилось качество производимых на них тканей. А. Д. Тейлор связывает упадок ручного ткачества с начавшейся в 1838 году сильной депрессией. [A. J. Taylor, "Concentration and Specialization", p. 117. В. R. Mitchell, в Abstract of British Historical Statistics (Cambridge: Cambridge University Press, 1962), pp. 185–187 пишет, что число ручных ткачей достигло максимума в 240 тыс. между 1821 и 1831 годами, а затем сократилось более чем наполовину до 110 тыс. к 1841 году. К 1851 году их число упало до 40 тыс., а к 1861 году – до 7 тыс. По его сведениям количество ткацких станков с механическим приводом было 110 тыс. в 1835 году, 250 тыс. в 1850, и 400 тыс. в 1861 году.] В 1829–1831 годах в Соединенном Королевстве работали 225 тыс. ручных ткацких станков и 60 тыс. механических, а в 1844–1846 годах – 60 тыс. ручных и 225 тыс. механических ткацких станков. Как говорит Тейлор, "если припомнить, что к 1850 году ткацкие станки с механическим приводом были втрое производительнее ручных станков, делается понятным тот факт, что в 1840-х годах первые сумели завоевать господствующее положение" [A. J. Taylor, "Concentration and Specialization", p. 117]. К 1850 году или чуть позже стало возможным изготовлять на механических станках ткани наилучшего качества, и ручное ткачество практически исчезло. ["Несмотря на усовершенствование ткацких станков с механическим приводом и постепенный перевод на них все новых видов работ, которые прежде выполнялись только ткачами-надомниками, даже в 1853 году ручные ткацкие станки чаще, чем механические использовали при "изготовлении модных, высшего качества изделий"" (там же, с. 118). Д. фон Тунзельман утверждает: "Сокращение издержек на энергию в 1850-х годах сделало выгодным изготовление пряжи и тканей существенно более высокого качества... Более дешевая энергия дала возможность повысить быстродействие станков, и это укрепило их преимущества". (J. N. von Tunzelman, Steam Power and British Industrialization to 1850 (Oxford: Clarendon Press, 1978), p. 202. Тунзельман детально перечисляет изменения ткацких станков с ручным приводом, которые постепенно укрепили их преимущества (pp. 195–202), добавляя, что ручные ткацкие станки также усовершенствовались, но при этом стали более дорогими и пригодными для использования не в домашних мастерских, а, скорее, – на фабриках, (pp. 200–202).] Переход от ручных ткацких станков к механическим был изменением в технологии, которое шло рука об руку с изменением в организации производства, выражавшимся в переносе производства из домашних мастерских под крыши фабрик. История английской текстильной промышленности изучалась столь тщательно, что в литературе о социальных и политических последствиях фабричной системы едва ли встретится упоминание о какой-либо другой отрасли и все же есть основания поставить вопрос об относительной ценности технологических и организационных преимуществ в процессе внедрения фабрик в текстильной промышленности. Конечно, в 1910 году Чепмен мог только чисто предположительно утверждать, что даже если бы не был изобретен паровой двигатель и механические ткацкие станки, все равно возникли бы текстильные фабрики – поскольку они позволяли лучше организовать производства. Но этот вопрос недавно был вновь поднят Стефеном А. Марглином [Stephen A. Marglin, "What Do Bosses Do? The Origins and Functions of Hierarchy", Review of Radical Economics (Summer 1974): pp. 60–112], и мы вернемся к нему в конце главы. Британские производители станков для текстильной промышленности в течение всего XIX столетия использовали благоприятные экономические возможности, создававшиеся как способностью британских торговцев сбывать все ткани, которые удавалось произвести, так и понижательным давлением на уровень заработной платы, которое усиливалось к концу столетия. И, пожалуй, будет ошибочным именовать их "производители станков для текстильной промышленности", поскольку их главным продуктом были не сами по себе машины, а изменения в технологии производства и удешевление производимых продуктов. Источником их прибылей было не искусство производить станки, а искусство изобретать станки, способные изготовлять пряжу и ткать лучше и дешевле, чем все другие станки в прошлом и настоящем. Они были чрезвычайно удачливы, но имена их совершенно забыты. Гончарное производство История гончарного производства хорошо иллюстрирует тот факт, что именно условия каждой отрасли определяли восприимчивость к фабричной системе. Производство керамики – одна из самых древних отраслей. Мы не можем знать, использовали ли греческие художники, расписывавшие вазы, – а среди них были первоклассные мастера, живопись которых уверенно различают эксперты, – уже готовые изделия, подгоняя к ним свою живопись, или они заказывали изделия, имея в виду замысел росписи. Но нет сомнения, что в XVIII веке размер, форма, материал и роспись изделий обдумывались как единый замысел. Это единство дизайна делало желательным соединение в одной мастерской всех последовательных этапов производственного процесса. Ведь практическое воплощение задуманного и качество будущего изделия начинаются уже на стартовых операциях – отбора, измельчения и смешивания используемых материалов, а роспись и шлифовка только завершают процесс. Конечно, это само по себе не могло бы помешать гончару и его подмастерьям выполнять в своей мастерской все операции поочередно, но были свои преимущества в разделении труда на последовательные этапы. В частности, некоторые этапы требовали большего мастерства, чем другие, и было бы расточительством использовать искусных работников там, где было достаточно менее квалифицированных. К тому же некоторые операции, такие как измельчение и смешивание материалов, лучше всего было выполнять с помощью устройств, приводимых в движение водяной мельницей (до появления парового двигателя), и уже одно это сильно отличало гончарное дело от ткацкого, где ткач сам исполнял роль силового привода. Словом, к 1787 году в Стеффордшире уже существовало множество малых керамических фабрик; каждый из двух сотен мастеров гончарного дела нанимал в среднем по сотне работников [A. and N. L. Clow, "Ceramics from the Fifteenth Century to the Rise of the Staffordshire Potteries", chap. 11, A History of Technology, p. 353]. Уже до широкого распространения двигателя Уатта производство керамики было перенесено из небольших мастерских под крыши фабрик. Первопроходцем здесь был Джошуа Веджвуд. Свою фабрику в Этрурии он разделил на цехи по типам производимых изделий, и в каждом цехе рабочие были распределены по множеству специальностей. А. и Н. Л. Клоу следующим образом описывают разделение труда в Этрурии: Постепенное умножение числа процессов, требовавшихся для производства керамики, вело, как и в других отраслях, к существенному разделению труда. Принадлежавшая Веджвуду Этрурия, которая первой прошла через специализацию, была разделена на цехи по типам изделий: полезные, для украшений, яшма, базальт и т. п. В 1790 году на производстве "полезной" керамики, были заняты 160 работников следующих категорий: отмучиватели, месильщики глины, гончары и помогающие им мальчики, изготовители плоских заготовок, лепщики тарелок, лепщики глубокой посуды, обтачивающие тарелки, обтачивающие глубокую посуду, изготовители ручек, специалист бисквитного обжига, грунтовщики заготовок, гладильщики, специалисты глянцевого обжига, измельчавшие краски девочки, художники, эмальеры и позолотчики, а кроме того – доставлявшие уголь, модельщики, изготовители форм, изготовители капсул для обжига керамики и бочары. [там же, с. 356–357]
В текстильной промышленности крутильщик производил пряжу, ткач – ткани, а в керамической – каждое изделие проходило через множество рук и ни один работник не производил готовых изделий. Гончарное дело было прообразом промышленности будущего, где устранены всякие видимые связи между трудом работника и готовым к продаже изделием, в создании которого он участвовал. Позже в этой главе мы вернемся к возражениям против такой формы организации труда. В керамической промышленности XVIII века инновации были направлены на само изделие, а не на механизацию производства. Единственными революционными изменениями были открытия технологий изготовления фарфоровой глины и костяного фарфора. Кроме того, английским гончарам пришлось перейти от дров к углю, и поэтому производство сконцентрировалось в Стефондшире, где были и глина, и уголь. Гончары опередили крутильщиков в замене водяных колес на паровые двигатели, которые использовали для смешивания и измельчения глины и красок, а позднее приспособили для вращения токарных станков и другого механического оборудования. Но это было не промышленной революцией, а скорее внедрением паровых двигателей на уже существовавших фабриках в качестве привода к уже существовавшим механизмам. Нам ничего неизвестно о столь же радикальных изменениях в гончарном производстве, как произведенные прядильными станками Аркрайта и ткацкими станками Картрайта. Фабричная система развилась в гончарном деле потому, что здесь было явно выгодно соединить преимущества единого управления многоступенчатым процессом производства (которое могло быть реализовано в мастерской только с одним универсальным работником), с преимуществами пооперационной специализации работников (требующей множество работников), и преимуществами единого источника энергии – будь то водяное колесо или паровой двигатель. Изобретение новых специализированных станков не имело такой же роли в подъеме керамических фабрик, как в распространении текстильных и металлургических заводов. Рост производства и снижение цен: причина расширения рынков? Распространение фабрик имело следствием не только проблему социальных взаимоотношений между владельцами и работниками, но и громадный рост производства. Может быть, наилучшим из доступных показателей увеличения производства тканей является импорт хлопка в Англию. В период с 1791 по 1796 год британская текстильная промышленность импортировала в среднем чуть больше 27 млн. фунтов хлопка в год, причем в 1793 году было импортировано 19 млн. фунтов, а в 1792 году – 35 млн. За 1896–1900 годы среднегодовой импорт хлопка составил 1799 млн. фунтов – рост почти в 67 раз [Mitchell, Abstract of British Historical Statistics, pp. 178, 181]. [Эти цифры нуждаются в поправке на величину реэкспорта хлопка-сырца. С учетом реэкспорта рост в XIX столетии может оказаться не 67:1, а 60:1.] Производство чугуна в чушках – другой чрезвычайно яркий показатель роста физического объема производства в эпоху, когда чугун и сталь намного шире использовались в обрабатывающей промышленности, чем в наши дни. Британское производство чугуна возрасло с 25 тыс. т. в 1720 году, до 125,8 тыс. т. в 1796 и составляло около 200 тыс. т. в 1800 году [там же, с. 131–132, а также Н. R. Schubert, "Iron and Steel", A History of Technology, p. 107] – рост в 8 раз за 8 десятилетий XVIII века. Восемьдесят лет спустя, в 1880 году, Британия производила 7749 тыс. т. чугуна – рост почти в 39 раз. Вплоть до 1800 года рост объемов производства на Западе можно объяснять реакцией производителей на спрос, созданный открытием новых каналов торговли. Но сопоставление показателей роста физических объемов производства с поразительными изменениями промышленного производства после 1800 года заставляет предположить, что где-то в начале XIX века причинно-следственные связи между расширением рынков и промышленной революцией стали взаимными, а может быть, и обратными. После 1800 года произошли революционные изменения в средствах удовлетворения экономических потребностей, и, по крайней мере, на первый взгляд, это больше затронуло сферу производства, нежели торговли. Но связь между расширением производства и расширением торговли не так уж проста и стоит того, чтобы в нее слегка вникнуть. Рост торговли, связанный с расширением старых рынков и открытием новых, умножает богатство даже при неизменности физического объема производства или неизменных физических характеристиках производимой продукции. В ортодоксальной экономической теории этот положительный эффект вытекает из теоремы, в соответствии с которой добровольный обмен не осуществляется до тех пор, пока каждая сторона не приходит к убеждению, что обмен соответствует ее интересам, а интересом в данном случае является рост экономического благосостояния торговца – то есть увеличение его богатства. Такой положительный эффект может быть продемонстрирован на примере почти любого монопродуктового хозяйства. Экономическое благополучие такой страны, как Бразилия, явно ухудшилось бы, если бы весь выращиваемый там кофе потреблялся самими же бразильцами. Богатство и благосостояние Бразилии существенно повышается благодаря обмену экспортируемого кофе на импортируемые продукты, а также благодаря нахождению новых рынков для сбыта бразильского кофе. Не будет ошибкой предположить, что Бразилии выгоднее обменивать выращиваемый кофе на импортируемые продукты, чем выращивать вместо экспортируемого кофе зерно. Нет сомнения, что начиная с XV века и до настоящего времени, рост торговли и расширение рынков внесли намного более существенный вклад в экономическое развитие Запада, чем, если бы торговля просто следовала за ростом объемов производства. Торговля повысила бы уровень благосостояния даже при неизменности объема производства, и торговля же привела бы к известному увеличению производства даже при полной неизменности технологии. А некоторые изменения технологии являлись прямой реакцией на требование возрастающей торговли. Наконец, торговля способствовала увеличению производства, поскольку создала большую часть условий и стимулов, необходимых для совершенствования технологии и организации производства, транспорта и распределения. Можно рассматривать расширение торговли в период до 1750 или 1800 года как результат удешевления транспорта, создания новых рынков благодаря инициативе торговцев, и внедрения в практику новых отношений, благоприятных для торговли. Все это давило на промышленность, требуя расширения производства для удовлетворения спроса на новых рынках, но это давление содействовало не понижению, а скорее повышению цен. В течение XIX века картина изменилась. Рост торговли подстегивался спросом фабрик на сырье и новыми рынками, которые появлялись скорее благодаря удешевлению фабричной продукции, чем в силу удешевления транспорта или изменения условий торговли. Расширение производства не было следствием роста цен: если учесть влияние войн и депрессий, XIX век предстает как эпоха снижающихся цен. Короче говоря, в этом столетии экономическое давление в пользу расширения торговли и транспортных возможностей имело причиной производство все большего объема продукции. Технологический прогресс вел к сокращению издержек производства и снижению цен. Воздав торговле должное за ее роль в повышении благосостояния Запада, обратимся к роли увеличения физического объема производства. Некоторая, и может быть, большая часть экономического роста в период промышленной революции определялась совершенствованием организации и технологии производства. Само по себе увеличение производства не привело бы к росту благосостояния, если бы не возникла система складов, магазинов, торговли, финансирования и транспорта, благодаря которым произведенное попадает в руки потребителей. Ничего такого не было бы и в том случае, если бы не рыночные отношения, благодаря которым выбор покупателей определял достойную величину вознаграждения усилий производителей. Но склады, магазины, торговцы, финансисты, транспорт и рыночные отношения были не только на Западе, и не объясняют величины объема производства на душу населения. Короче говоря, в период промышленной революции технологические и организационные усовершенствования играли более видную роль в росте богатства, чем до 1750 года. Эти усовершенствования стали возможными и базировались на торговле, рынках, отношениях собственности и других институциональных установлениях, которые уже сложились к тому времени. Но чтобы объяснить столь резкое изменение, нам придется выйти за рамки обычных экономических стимулов и включить в число возможных источников этой новизны силы и организационные отношения, специфичные именно для западной технологии и организации. Этому посвящена глава 8. Удовлетворение потребностей фабрик в капитале Целый ряд исторических выводов строится на предположении, что промышленная революция и осуществленный ею сдвиг производства на фабрики потребовали накопления значительного капитала. И на самом деле, если простая формула "потребление = производство – накопление капитала" действительно адекватно описывает процесс накопления капитала, неизбежен вывод, что многим людям приходится жертвовать текущим потреблением во имя накопления. Маркс принимал как данность, что накопление требует жертв, но утверждал, что капиталисты сумели переложить тяготы накопления на трудящихся. Другие объясняли накопление тем, что капиталисты следовали принципам кальвинизма. Правители СССР по сей день ссылаются на необходимость накопления капитала в форме производственных мощностей, чтобы объяснить свое пренебрежение производством потребительских благ. Третий мир, подобно соцстранам, вошел в обременительные долги ради финансирования новых производств, а ортодоксальные западные банкиры утверждают, что такого рода займы служат полезным экономическим целям. Все это, может быть, и так, но только не стоит подкреплять эти выводы ссылками на опыт промышленной революции в Англии. Прежде всего, отметим, что согласно историческим свидетельствам, первые фабрики требовали очень небольшого капитала. Первая фабрика Аркрайта в Кромфорде была застрахована за 1,5 тыс. фунтов, а вторая – за 3 тыс. фунтов. Внедрение к концу XVIII века паровых двигателей и многоэтажных заводов увеличило ценность крутильной фабрики до 15 тыс. фунтов, но к тому времени за плечами первых фабрикантов стоял уже двадцатилетний опыт работы, иногда весьма прибыльной. В том, что владельцы фабрик часто основывали совместные банки, можно усмотреть тот факт, что они нуждались во внешних источниках капитала, но отсюда можно вывести и то, что они располагали избыточными инвестиционными фондами или что они нуждались в тесных банковских связях для обеспечения себя оборотным капиталом. [Приводимые цифры взяты у Чепмена, "Transition to Factory System", pp. 540–542. Он перечисляет и другие прядильные фабрики, построенные между 1778 и 1792 годами, сравнимые по величине капиталовложений.] Конечно, капитал для промышленной революции не возник из воздуха. Но он не был результатом ни мучительных накоплений бережливых протестантов, ни экспроприированным у тружеников путем сильного сокращения заработной платы, ни путем снижения уровня потребления. Чтобы финансировать новые машины и новые формы фабричной организации не требовалось ни сокращения реальных доходов работников или землевладельцев, ни снижения их уровней потребления, не нужны были и общенациональные усилия по увеличению доли сбережений. Фабрики обеспечивали такой рост производства, что его более чем хватало на быструю оплату капитальных издержек, поскольку прирост доходов был большим, а потребности в капитале – умеренными. Финансирование фабрик облегчалось английской системой местных банков, обычной системой банковских депозитов, создающее предложение денег, необходимое для кредитования оборотного капитала их клиентов, который был приблизительно равен величине постоянного капитала, воплощенного в новых фабриках. Бесспорно, что запасы сырья и готовой продукции, как и производственные мощности, являлись реальными активами, для создания которых нужно было как-то изъять средства из существовавшего потока производства, может быть, за счет инфляционного воздействия роста денежного предложения, создававшегося операциями депозитных банков. Но поскольку это была эпоха стабильных или сокращающихся цен, инфляционное воздействие должно было компенсироваться другими факторами. Одним из таких факторов был рост производительности на новых фабриках и создаваемое этим понижательное давление на цены. Если выразить то же самое в терминах не "финансовой", а "реальной" экономики, то получим: если реальное производство постоянно росло за счет непрерывного потока более производительных инвестиций, тогда не было нужды в каком-либо периоде, в течение которого потребители испытывали бы сокращение своей доли в производимых благах. Мы опоздали с детальной реконструкцией этого процесса, но вполне ясно, что для финансирования потребностей промышленной революции в капитале почти или совсем не требовалось сокращения тогдашних стандартов потребления. Согласно авторитетным оценкам Фейнштейна, в 1760–1800 годах в Великобритании не было общего сокращения душевого потребления, а после 1800 года этот показатель колоссально вырос. Более того, между 1750 и 1850 годами доля валовых инвестиций в валовом национальном продукте Британии оставалась практически неизменной. [С. Feinstein, "Capital Accumulation and the Industrial Revolution", in Roderick Floud and Donald McCloskey, eds., The Economic History of Britain since 1700, vol. 1, 1700–1860 (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), p. 136. Оценки Фейнштейна показывают рост доли валовых инвестиций в ВНП, но похоже, что это произошло еще до начала периода самой быстрой индустриализации, то есть до 1790-х годов.] Другим показателем того, что промышленная революция не наложила существенных ограничений на способность западных народов порождать новый капитал, является то, что корпорации, традиционно служащие задачам аккумуляции значительных капиталов, вплоть до последних десятилетий XIX века играли очень ограниченную и особую роль. Корпорации создавались для строительства и эксплуатации шоссе, железных дорог и каналов, но в промышленности корпоративные формы распространились только тогда, когда фабричное производство уже стало основной формой производства продукции. В Европе и в Соединенных Штатах в начале и в середине промышленной революции роль предпринимателей-капиталистов выполняли торговцы, банкиры и изобретатели, нередко объединявшиеся в товарищества, но крайне редко использовавшие форму акционерных обществ для создания производственных фирм. Утверждение, что новые фабрики были созданы за счет обнищания кустарей-прядильщиков, есть в лучшем случае метафора. Экономические изменения предполагают относительное или абсолютное сокращение ценности ресурсов, направляемых в какую-либо сферу деятельности, и величины получаемых там доходов, как только эта сфера деятельности устаревает полностью или частично, будь то ручное ткачество, шитье парусов, извозчичий промысел, ремесло стеклодува или изготовление стали. Сокращение ценности людских усилий и мастерства, посвящаемых ручному ткачеству, не создает фонда ресурсов, которые могли бы быть использованы на приобретение ткацких станков с силовым приводом. Убытки ткачей были результатом изменений, а не источником капитала для этих изменений. Прежние формы деятельности никак не могли быть источником финансирования тех, которые шли им на смену. [Краткое рассмотрение того, как влияет несовершенство межотраслевой текучести рабочей силы на рост, см: John Hicks, "Structural Unemployment and Economic Growth: A "Labor Theory of Value" Model", chap. 2, The Political Economy of Growth, Dennis C. Mueller, ed. (New Haven: Yale University Press, 1983), pp. 53–56. Когда рост производительности ведет к сокращению цен, потребительские расходы перераспределяются в пользу отрасли с наибольшим относительным сокращением цен (за исключением очень специальных случаев). Если ресурсы других отраслей не могут полностью перетечь в эту последнюю, тогда (в соответствии с предположением Хикса, что дополнительные ресурсы не могут быть получены) мы столкнемся с негативным воздействием на темпы роста. Хикс не рассматривает последствия для самих нетекучих ресурсов, но и здесь последствия не могут не быть отрицательными.] Было бы ошибкой сохранить парадоксальное представление, что промышленная революция не знала болезненных проблем капиталообразования. Формула "потребление = производство – накопление капитала" искажает картину экономического роста, потому что не учитывает время. Можно допустить, что рост производства предполагает рост оборотного и постоянного капитала, либо рост производительности. Но есть причинно-следственная связь между сегодняшними темпами увеличения производства и прошлыми темпами накопления капитала. Вполне возможно, что в некоторый период, будь это один год или длительный период от 1750 до 1880 года, объем производства, накопление капитала и потребление могут увеличиваться одинаковым темпом, либо различие будет таким, что все равно окажется возможным непрерывный рост потребления. Для этого требуется лишь, чтобы текущий рост накопления капитала поглощал меньше, чем текущий прирост производства. На Западе это условие реализовалось благодаря росту производительности. Сравнение советской и западной систем хозяйства свидетельствует, что возможно чрезмерное накопление капитала. Есть серьезные основания считать, что нехватка потребительских благ неблагоприятно сказалась на интенсивности трудовых усилий, а значит, и на объеме производства в странах советского блока. Поскольку рост потребления, в конечном счете, есть главный стимул усилий, нужных для увеличения производства, никого не должно удивлять, что чрезмерное накопление капитала и недостаточное производство потребительских благ может подорвать темпы экономического роста. Урбанизация и сопутствующая аграрная революция Промышленная революция XIX века была неразрывно связана с сопутствовавшей ей аграрной революцией. Аграрная революция сократила долю населения, занятую производством продуктов питания, против 80–90% в средние века до менее 5%, и этим сделала возможной урбанизацию западных обществ. Одновременное вытеснение сельскохозяйственных работников в города обеспечивало фабрики рабочей силой. Аграрная революция, подобно промышленной, отчасти заключалась в громадном росте использования механической энергии, но эти изменения начались только после 1880 года. [Даже в то время сначала речь шла не о замене животных машинами, но об их одновременном использовании. Между 1880 и 1920 годами энерговооруженность американских ферм возросла от 668 000 л. с. до 21 443 000 л. с. В этот же период увеличивалось, хотя и более медленным темпом, число тягловых животных в городах и в селе: от 11 580 000 до 22 430 000. По данным Министерства торговли, Historical Statistics of the United States (Washington, D. C.: Government Printing Office, 1975), pt. 2, ser. S 1–14, p. 818.] Другими важными факторами аграрной революции были: рост использования удобрений, повышение качества семян, улучшение пород животных и совершенствование методов их выращивания, а также – благодаря совершенствованию транспорта – развитие региональной специализации в сельском хозяйстве. Многие изменения стали результатом применения в сельском хозяйстве методов экспериментальной и прикладной науки XIX века. Для снабжения городов продовольствием немалое значение имело и сельскохозяйственное освоение американских равнин, но, как и использование механической энергии, оно началось во второй половине XIX века, и нам придется искать объяснение предшествующего прогресса в совершенствовании методов и приемов ведения сельского хозяйства. Подобно промышленной революции, аграрная также могла бы пойти через развитие аграрных фабрик, схожих с римскими латифундиями или плантациями Южной Америки и некоторых тропических стран. Есть ряд причин, по которым на Западе аграрная революция не привела к развитию сельскохозяйственных фабрик. Одной из причин было то, что из-за сезонного характера большей части работ владельцам фермы зачастую выгоднее нанимать сезонников, чем держать постоянных работников. Кроме того, главные преимущества фабрик – возможность организации и контроля производительного труда, возможность сокращения расходов на мастеров и других управленцев, а также сокращения капитальных затрат – не всегда срабатывают даже на фабрике, размещенной в одном здании, где надзор легче, чем на ферме. Большая часть сельскохозяйственной работы выполняется отдельными людьми или очень малыми группами, почти недоступными надзору, и важнейшим условием эффективной организации аграрного производства остается самоконтроль, подстегиваемый заинтересованностью владельца или арендатора в величине урожая. Фабрики и труд Посмотрим, как изменили фабрики труд фабричных рабочих, а также и труд тех, кто там не работал, включая тех, кто из-за появления фабрик утратил источники дохода. Промышленная революция обозначила начало драматического периода улучшения в материальном положении западноевропейских и американских обществ, которое коснулось всех и каждого, в том числе и трудящихся. Это был также период улучшения биологического состояния рода людского, что выразилось в увеличении населения, в росте продолжительности жизни, в победе над множеством болезней и сокращении уровня смертности детей в первый год жизни. Это также был период замечательного интеллектуального прогресса, по крайней мере, в некоторых областях. Эта эпоха отмечена появлением общественных и быстрым прогрессом естественных наук. Пусть литературоведы судят, добавило ли это время что-либо сопоставимое с творчеством Шекспира, но в области музыки остались имена Гайдна, Моцарта, Бетховена и Брамса. В области политики 1750–1880 годы отмечены Американской и Французской революциями, а также существенным, пусть и не всеобщим, распространением права голоса и других гражданских прав. Существует, однако, обширная литература, проводящая ту точку зрения, что материальный прогресс был достигнут ценой принуждения трудящихся к громадным жертвам и что даже интеллектуальные достижения далеко не безоблачны, поскольку налицо недостаточная чувствительность к кричащим нуждам западных масс. Значительная часть этой литературы была создана в XIX веке для проталкивания законодательства, от которого ожидали улучшения условий труда на фабриках, по крайней мере, это писалось ради благих целей. Но сейчас важно не изменять мир XIX века, а попытаться понять его. В центре этой литературы была британская текстильная промышленность. В этой многажды изучавшейся отрасли появление фабрик привело к сравнительно быстрому устранению ручного труда в прядении и гораздо более медленному вытеснению ручного труда в ткачестве, В результате было много людей, лишившихся заработка и испытывавших немалые трудности. Текстильные фабрики втянули некоторую часть тех, кто лишился дохода, но кроме них сюда пришло множество безземельного деревенского люда, для кого работа на фабрике была не жертвой, а улучшением жизненных обстоятельств. В других отраслях, таких как производство чугуна и стали, в судостроении, в производстве химикатов и машин, ремесленники, мастерские которых проще преобразовывались в фабрики, легче перенесли их появление. Другие сферы хозяйства, включая строительство, оптовую и розничную торговлю, транспорт, страховое и банковское дело, право, медицину и образование, с приходом промышленной революции переживали исключительно подъем – никаких фабрик в этих областях не возникло. Это не значит, что за пределами текстильной промышленности не было потерявших работу, просто большую часть лишившихся ее составляли текстильщики, по крайней мере, они больше других представлены в литературе. В сельском хозяйстве также сокращалась потребность в рабочих руках. Оно также постоянно поставляло безработных, которые нуждались в других видах занятости, и их было намного больше, чем высвобожденных текстильщиков. Чтобы оценить, был ли фабричный труд с самого начала промышленной революции благом или пагубой для рабочих, нужно понять те условия жизни, из которых рабочие приходили на фабрики. 1. Армия труда в XVIII веке: огораживание При поместной системе работники обрабатывали господские угодья в обмен на право использовать пашню и пастбища. Лучшая земля возделывалась, а на остальной крестьяне выпасали свой скот: волов, на которых пахали; овец, с которых стригли шерсть; молочных коров, а иногда свиней. Такая система обеспечивала крестьянам некоторый дополнительный доход, если цены были высоки, а урожай – хороший; уже в XVI веке рост населения Англии и улучшение аграрных приемов привели к тому, что оба эти условия нередко, если даже не большей частью, выполнялись. К XVIII веку те же условия, которые принесли относительный достаток в жизнь мелких фермеров, подтолкнули крупных землевладельцев к огораживанию общинных земель. Хотя права на общинную землю обычно принадлежали крупным землевладельцам, крестьяне издавна имели своего рода обычные права (как правило, право выпаса), и для каждого акта огораживания требовалось решение парламента. Теоретически каждое такое парламентское решение возмещало крестьянам потерю обычных прав предоставлением части огораживаемой земли. Но крестьяне не были в достаточной мере представлены в парламенте, и есть основания полагать, что компенсация была далеко не адекватной. В любом случае, разведение животных было существенным подспорьем для крестьян, а без общинных земель оно было невозможно. Так что, помимо любых вопросов о неадекватности компенсации, в долгосрочной перспективе огораживание вело к обнищанию сельскохозяйственных работников, и это, вопреки всякой логике, сопровождалось ростом спроса на продукты питания и расширением их производства. Писавшие о движении огораживания обычно утверждают, что оно началось в период значительного процветания сельскохозяйственных работников, но стоит напомнить, что для них периоды процветания всегда длились недолго. Даже огораживание общинных земель не было изобретением XVIII века. Первый акт парламента об этом предмете был принят в 1235 году – статут Мертона. В тревожные времена чумы XIV века и в период войн Алой и Белой Роз в XV веке нехватка рабочих рук и спрос на овечью шерсть побудили многих землевладельцев вывести часть земель из обработки и отдать ее под овечьи пастбища. Переход от общинной обработки земли, когда каждая семья обрабатывала несколько полосок земли в разных полях, к небольшим отрубам также был своего рода огораживанием. К нему принято относиться одобрительно, поскольку оно шло на пользу крестьянам, приобретавшим заинтересованность в собственной земле. Но было бы ошибочным представлять крестьян как некий однородный класс; переход к отрубам не обязательно оказывался благом для тех, кто, в конце концов, стал арендатором у крупных землевладельцев, и это было чистым несчастьем для тех, кто остался вовсе без земли. В Англии и в других странах Европы в XVIII веке была широко распространена самая жалкая нищета, и именно из этой массы забытых бедняков первые фабрики черпали своих рабочих. Бродель считает бедность почти универсальным явлением, а существование "огромной массы суб-пролетариев" полагает "тормозом для социальных волнений ... во всех прошлых обществах" [Fernand Braudel, The Wheels of Commerce (New York: Harper Row, 1979), p. 506]. Мы можем определить принадлежность к суб-пролетариату через границу бедности – при всей неточности этого критерия. В соответствии с критериями, использовавшимися в Лионе в XVI и XVII веках, ниже границы бедности оказывался тот, чей дневной доход не обеспечивал минимальной потребности в хлебе. В последней четверти XVI века поденные работники Лиона оказывались ниже этой черты бедности в каждый год этой четверти века, а неквалифицированные работники опускались ниже этой черты 17 раз за тот же 25-летний период. Утверждают, что при Стюартах (XVII век) от четверти до половины населения Англии, а также сравнимая доля населения Кельна, Кракова и Лилля пребывали рядом с уровнем бедности или ниже его. [Там же, с. 507. Данные для неанглийских городов Бродель заимствовал у Р. Laslett, The World We Have Lost (London: Methuen, 1965).] Если бы бюро статистики труда США приняло подобный критерий бедности, то ниже черты бедности оказались бы американцы с доходом примерно 18 дол. в месяц, или 216 дол. в год, – точная цифра зависит от местной цены на хлеб. Для нас трудно воспринять эти цифры иначе, как абсурдную шутку, как нечто совершенно нетерпимое. Но большая часть населения мира до сих пор принадлежит к доиндустриальным обществам, где душевой доход и сейчас примерно такой же. Пожалуй, поразительней всего оценки Броделя, согласно которым в Париже в 1791 году примерно 91 тысяча человек не имели определенного места жительства или места работы [Braudel, Wheels of Commerce, p. 510]. Он рисует ситуацию как постоянную, существовавшую с XI или XII века: Похоже, что на Западе разделение труда между городом и деревней, начавшееся в XI и XII веках, оставило будущему громадное множество неудачников безо всяких средств к существованию, не имеющих никакого выбора. Нет сомнения, что виновато было общество, но еще в большей степени причиной была система хозяйства, которая не могла обеспечить полной занятости. Многие из безработных умудрялись как-то перебиваться, работая по несколько часов то здесь, то там, находя временные убежища. Но остальные – немощные, старые, выросшие и вскормленные на дорогах – не имели почти никакого опыта нормальной трудовой жизни. В этом особом аду были свои круги, именовавшиеся современиками нищетой и бродяжничеством (pauperdom, begary and vagrancy). [там же, с. 506]