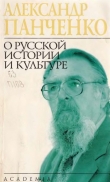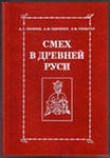Текст книги "Древнерусская литература. Литература XVIII века"
Автор книги: Н. Пруцков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 66 страниц)
В этом отношении автор «Повести о Фроле Скобееве» – «птенец гнезда Петрова». Он пишет рублеными, небрежными фразами: чего стоит хотя бы канцеляризм «иметься» – единственный глагол начальных фраз, трижды кряду употребленный! Такая манера вовсе не говорит об авторе дурно. Это не плохой стилист, а литератор, который сознательно не ценит хороший слог. Недаром И. С. Тургенев, знавший толк в словесной живописи, так отозвался о повести, прочитав ее в 1853 г. в первой книжке «Москвитянина»: «Это чрезвычайно замечательная вещь. Все лица превосходны и наивность слога трогательна».[678]678
Цит. по: Барсуков Н. И. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 12. СПб., 1898, с. 276.
[Закрыть] Что же ценит автор?
Прежде всего интригу. Он завязывает ее как мастер и чисто по-русски. Фрол Скобеев, бедный дворянин, который не может прокормиться с вотчины или поместья и потому зарабатывает на хлеб «приказной ябедой», т. е. сутяжничеством по чужим делам, – решает соблазнить Аннушку, дочь богатого и сановного стольника Нардина-Нащокина, обманом и увозом жениться на ней и получить приданое. Сближение с Аннушкой происходит «во время увеселителных вечеров, которые бывают в веселости девичеству, называемыя… Святки». В «девичьем уборе» проникает Фрол в деревенские хоромы Нардина-Нащокина. Подкупленная героем мамка затевает святочную игру: «„Изволь, госпожа Аннушка, быть ты невестою, – а на Фрола Скобеева показала, – сия девица будет женихом“. И повели их в особливу светлицу для почиву, как водится в свадьбе, и все девицы пошли их провожать до тех покоев и обратно пришли в те покои, в которых прежде веселилис. И та мамка велела тем девицам петь грамогласныя песни, чтоб им крику от них не слыхать быти… И Фрол Скобеев, лежа с Аннушкой, и объявил ей себя, что он Фрол Скобеев, а не девица. И Аннушка стала в великом страхе. И Фрол Скобеев, не взирая ни на какой себе страх, и ростлил ея девство».
Святки – это время между Рождеством и Богоявлением, от 25 декабря до 6 января (по юлианскому календарю). Как в Западной Европе, так и на Руси эти двенадцать дней проходили в буйных народных празднествах. «Сколько было истинной веселости на этих деревенских игрищах! – писал С. Т. Аксаков, вспоминая святочные вечера 1801–1802 гг. – Чудные голоса святочных песен, уцелевшие звуки глубокой древности, отголоски неведомого мира еще хранили в себе живую обаятельную силу и властвовали над сердцами неизмеримо далекого потомства! Каким-то хмелем веселья, опьянением радости проникнуты были все».[679]679
Аксаков С. Т. Собр. соч., т. 2. М., 1955, с. 70.
[Закрыть] Так было и при Фроле Скобееве. Патриарший указ 1684 г. свидетельствует, что «на Москве… в 24 числе, в навечерии Рожества Иисус Христова, ненаказаннии мужескаго полу и женска, собрався многим числом от старых и молодых, мужи с женами и девки, ходят по улицам и переулкам, к беснованным и бесовским песням, сложенным ими, многия сквернословия присовокупляют и плясания творят на разжение блудных нечистот и прочих грехопадений. И преображающеся в неподобныя от бога создания, образ человеческий пременяюще, бесовское и кумирское личат, косматые и иными бесовскими ухищреньми содеянные образы на себя надевающе, плясаньми и прочими ухищреньми православных христиан прельщают…, приводят в душепагубный грех. Також и по Рожестве Иисус Христове во двоюнадесеть днех до крещения господа нашего… таковая и бесовская игралища и позорища содевают на прелесть и соблазн православным христианом».[680]680
Полное собрание законов Российской империи, т. II (1676–1698). СПб., 1830, № 1101, с. 647.
[Закрыть]
В историко-культурном плане святки объясняются по-разному: во-первых, как пережиток языческой по происхождению аграрно-магической праздничности (общепринятое толкование);[681]681
См., например: Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. (Опыт историко-этнографического исследования). Л., 1963.
[Закрыть] во-вторых, как своего рода «простонародное православие», перевод в карнавальные формы рождественских идей и мотивов – соединения божеского и человеческого, преодоления смерти и возрождения к новой жизни»;[682]682
Понырко Н. В. Русские святки XVII века. – ТОДРЛ, т. 32. Л., 1977, с. 84–99.
[Закрыть] в-третьих, как «нечистое» время и «нечистое», магическое антиповедение, кощунственная игра, смешная и страшная, участники которой уповают на помощь «черного», изнаночного мира, находят «роковую отраду» «в попиранье заветных святынь».[683]683
Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Новые аспекты изучения культуры Древней Руси, с. 155–156.
[Закрыть] Как бы то ни было, на святках делали то, что обыкновенно считали дурным и запретным. На святочных игрищах ряженые устраивали эротические забавы (одна из них описана в нашей повести), инсценировали жениханье, пели эротические песни. Дух этого буйного веселья хорошо передает зачин одной «святковской» песни со Смоленщины:
«Повесть о Фроле Скобееве» композиционно распадается на две приблизительно равные по размеру части. Рубеж между ними – женитьба героя. После женитьбы ему еще предстоит умилостивить тестя и получить за Аннушкой приданое. В первой части сюжет развивается стремительно, действие протекает то в новгородском уезде, то в Москве. Фрол Скобеев «кочует»: он является читателю в своем доме и в доме приказчика Нардина-Нащокина, в светлице у Аннушки и «на квартире близ двора столника» в Москве, даже в нужнике («И был Фрол Скобеев в нужнике один, а мамка стояла в сенях со свечою»). Ему не сидится на месте, ему «скачется» и «пляшется», как святочному халдею. Он все время переряживается – то в девическое платье, то в кучерской наряд, с тем чтобы в чужой карете умыкнуть покорную уже возлюбленную.
Динамизм первой части – и от святочных буйных игрищ, и от художественной установки: «Повесть о Фроле Скобееве» конструируется как типичная плутовская новелла, герой которой стремится возможно скорее достичь своей цели. Вторая часть строится на других принципах. По отношению к первой она контрастна. Этот композиционный контраст воспринимается как сознательный прием, как художественное замещение непредсказуемого сюжетного поворота, узаконенного поэтикой новеллы.
Во второй части сюжетная занимательность отодвигается на задний план. Не события, а характеры, не поступки героев, а их переживания интересуют теперь автора. В первой части он был мастером интриги. Во второй он проявил себя знатоком психологии. Он – впервые в русской литературе – индивидуализирует речь персонажей, отделяет их высказывания от авторских.[685]685
См. наблюдения Д. С. Лихачева в кн.: Истоки русской беллетристики, с. 558–561.
[Закрыть] Во второй части внимание сосредоточено на поколении «отцов». Это чета стариков Нардиных-Нащокиных и стольник Ловчиков, все люди старосветские, живущие «постоянно», которым чужда нравственная непоседливость «детей». В художественном плане этой переакцентуации соответствует медленное течение сюжета, его «заторможенность» диалогами и жанровыми сценками. Даже бесшабашный плут Фрол Скобеев подыгрывает «отцам», их величавым жестам и спокойным речам. Он тоже хочет «жить постоянно», отвоевать себе место под солнцем, и добивается этого.
Датируя похождения своего героя 1680 г., автор повести, конечно, мог при этом и не вспомнить, что год спустя в торжественной обстановке царь и бояре предали огню списки разрядных книг. Это был символический акт: отныне и навсегда надлежало служить «без мест». Решившись покончить с местничеством, верхи если не упразднили сословные перегородки, то сделали их преодолимыми. Такое хронологическое совпадение, пусть даже случайное, весьма знаменательно. Отныне путь к власти и богатству был не заказан людям из «подлых» родов, таким, как Фрол Скобеев.
Апологеты «личностного» начала склонны без оговорок приветствовать этот феномен. Разумеется, для государственного и общественного здоровья полезно, когда талант в силах пробить себе дорогу. Но если судьба подымет «из грязи в князи» человека ничтожного не по одной породе, но и по натуре? Так рождается фаворитизм, так на сцене истории появляются выскочки вроде Нарышкиных, Скавронских и Гендриковых, а потом Ланских, Зубовых и Кутайсовых. Ведь люди высокого полета, Меншиковы и Потемкины, среди фаворитов не так уж часты.
Литературным воплощением этого реального типа стал Фрол Скобеев. Его девиз «Буду полковник или покойник!» точно выражает и стремление любой ценой добиться успеха, и трезвое понимание того, что Фортуна ветрена и никому не дано знать наперед, как повернется ее колесо. Фрол Скобеев – фаворит в миниатюре, из девичьей постели он соорудил мостик к богатству. Это, конечно, постель всего лишь стольничьей дочки, но и мечты Фрола дальше «полковника» не забегали.
Такова эволюция новеллы XVII в.: от усвоения принципа сюжетной занимательности к художественному освоению русской действительности.
С тех пор как в 1856 г. А. Н. Пыпин открыл в сборнике первой половины XVIII в. стихотворную «Повесть о Горе и Злочастии, как Горе-Злочастие довело молотца во иноческий чин»,[686]686
Текст цит. по изд. Д. С. Лихачева в кн.: «Изборник», с. 597–608. О работах по теме см.: Виноградова В. Л. Повесть о Горе-Злочастии (библиография). – ТОДРЛ, т. 12. М. – Л., 1956, с. 622–641.
[Закрыть] новых ее списков обнаружено не было. Очевидно, что от оригинала единственный дошедший до нас список отделен промежуточными звеньями: на это указывают, в частности, нередкие нарушения стиховой модели.[687]687
См.: Гаспаров М. Л. Современный русский стих. Метрика и ритмика. М., 1974, с. 369. М. Л. Гаспаров определяет стих Повести как «народный тактовик» (тонический стих с колебаниями междуиктовых интервалов в диапазоне 1–2–3 слогов).
[Закрыть] Очевидно, таким образом, что оригинал значительно «старше» списка. Но какова длительность этого временного промежутка, установить трудно. Персонажи «Повести о Горе-Злочастии» почти сплошь безымянные. Есть только три исключения – Адам, Ева и архангел Гавриил, но эти имена не идут к делу. Датировка всякого текста обычно опирается на разного рода реалии. В Повести таких реалий нет. Ее питательная среда – народные песни о Горе[688]688
Ржига В. Ф. Повесть о Горе-Злочастии и песни о Горе. – Slavia, Roč. X, seš. 1. Praha, 1931, с. 40–66; там же, seš. 2, 1931, с. 288–315.
[Закрыть] и книжные «стихи покаянные»;[689]689
Малышев В. И. Стихотворная параллель к «Повести о Горе и Злочастии» (стих «покаянны о пьянстве»). – ТОДРЛ, т. 5. М. – Л., 1947, с. 146–148.
[Закрыть] и лирические песни, и «покаянные стихи» по своей жанровой природе не нуждаются в реалиях, отсылающих к конкретным лицам и событиям. Такова и «Повесть о Горе-Злочастии», рассказывающая о печальной судьбе безымянного русского молодца. Если основываться на формальных критериях, пришлось бы поместить Повесть в широкие хронологические рамки, включающие и первые десятилетия XVIII в.
Между тем датировка памятника не вызывала дискуссий. Все, кто писал о нем, сходились на том, что молодец, к которому привязалось «серо Горе-горинское», – это человек XVII в. Действительно, приметы этой «бунташной» эпохи, когда ломался старинный русский уклад, – в повести налицо. Ее герой презрел заветы рода, стал «блудным сыном», отщепенцем, добровольным изгоем. Мы знаем, что это один из самых характерных для XVII в. типов. Распад родовых связей отражен в таком беспристрастном и красноречивом жанре деловой письменности, как семейные помянники. «В поминаниях XVII в. мы видим обыкновенно только ближайших родителей, т. е. отца, мать, братьев и сестер, ближайших родственников матери, реже деда и бабки. Поминания XV в., а отчасти и первой половины XVI в. обыкновенно содержат большое количество лиц многих поколений, иногда за 200 и более лет. Это с несомненностью показывает, что сознание родовой связи в XVII в. значительно ослабло и сузилось, культ почитания отдаленных предков выходил из употребления, и это являлось отражением распада старых понятий рода».[690]690
Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969, с. 20.
[Закрыть]
Типична для XVII в. и одна из речей Горя-Злочастия, искусителя, тени, двойника молодца:
Али тебе, молодец, неведома
нагота и босота безмерная,
легота-безпроторица великая?
На себя что купить – то проторится,
а ты, удал молодец, и так живешь!
Да не бьют, не мучат нагих-босых,
и из раю нагих-босых не выгонят,
а с тово свету сюды не вытепут,
да никто к нему не привяжется, —
а нагому-босому глумить разбой!
Это разудалая философия персонажей смеховой литературы XVII в., нравственное бесшабашие озорников из «кромешного мира», для которых корчма – дом родной, а вино – единственная радость. Вместе с ними, пропившись до «гуньки кабацкой», топит горе в вине молодец из «Повести о Горе-Злочастии», хотя в этой шумной толпе он выглядит белой вороной, случайным гостем.
Иначе говоря, читательское и ученое ощущение, заставляющее без сомнений и оговорок помещать «Повесть о Горе-Злочастии» в XVII в., вполне резонно. Эту датировку, одновременно импрессионистическую и дельную (такое сочетание в истории литературы весьма редко), можно подкрепить и уточнить с помощью сравнительного анализа Повести и прозы протопопа Аввакума.[691]691
См.: Панченко А. М. Протопоп Аввакум как поэт. – Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1979, т. 38, № 4, с. 307–308.
[Закрыть] Автор «Горя-Злочастия» начал свой рассказ с темы первородного греха. Это не просто средневековая инерция, согласно которой любое частное событие надлежит ввести в перспективу мировой истории. Это философский и художественный принцип Повести (см. далее).
В рассказе о первородном грехе изложена не каноническая легенда, а версия апокрифов, расходящаяся с православной доктриной:[692]692
См.: Веселовский А. Н. Разыскания в области русского духовного стиха. X. Западные легенды о древе креста и Слово Григория о трех крестных древах. – СОРЯС, т. 32, № 4, СПб., 1883, с. 396.
[Закрыть]
Человеческое сердце несмысленно и неуимчиво:
прелстился Адам со Еввою,
позабыли заповедь божию,
вкусили плода винограднаго
от дивнаго древа великаго.
Из Библии не ясно, что́ представляло собою заповедное «древо познания добра и зла». В отождествлении его с яблоней есть известное вольнодумство – такое же, как в отождествлении с виноградной лозой, которое характерно для народной фантазии и восходит ко временам богомильства. По народной традиции первые люди, выражаясь попросту, упились. Бог изгнал их из Эдема, а вино проклял. Поэтому Христу, «новому Адаму», искупившему грехопадение Адама «ветхого», пришлось и с вина снять осуждение. Христос сделал это на брачном пиру в Кане Галилейской, претворив воду в вино. «Невинно вино – виновато пьянство»[693]693
Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII–XIX столетий. Собрал и приготовил к печати Павел Симони. Вып. 1. СПб., 1899, с. 84, 128.
[Закрыть] – эта пословица XVII в. точно выражает древнерусскую точку зрения на хмельное питие. Человек должен ограничиваться тремя чашами, которые узаконили святые отцы, – теми, что выпиваются за монастырской трапезой во время пения тропарей. В соответствии с этим родители наставляют молодца из «Повести о Горе-Злочастии»: «Не пей, чадо, двух чар заедину!». Но молодец не слушает их, как не послушали творца Адам и Ева.
Такое же параллельное изображение первых людей и русских грешников XVII в. находим у Аввакума в «Снискании и собрании о божестве и о твари и како созда бог человека».[694]694
Цит. по изд.: Пустозерский сборник. Автографы сочинений Аввакума и Епифания. Изд. подгот. Н. С. Демкова, Н. Ф. Дробленкова, Л. И. Сазонова. Отв. ред. В. И. Малышев. Л., 1975, с. 103–104.
[Закрыть] Идея прямого подобия изложена Аввакумом очень похоже на «Повесть о Горе-Злочастии»: Ева, «послушав змии, ко древу приступи, взем грезн, и озоба его, и Адаму даде, понеже древо красно видением и добро в снедь, смоковь красная, ягоды сладкие, умы слабкие, слова между собою льстивые; оне упиваются, а дьявол радуется. Увы невоздержания тогдашнева и нынешнева!.. Оттоле и до днесь слабоумные так же творят, лестию друг друга потчивают, зелием нерастворенным, еже есть вином процеженым… А после друга и посмехают упившагося. Слово в слово бывает, что в раю при Адаме и при Евве, и при змее, и при дьяволе. Бытия паки: И вкусиста Адам и Евва от древа, от него же бог заповеда, и обнажистася. О, миленькие, одеть стало некому! Ввел дьявол в беду, а сам и в сторону. Лукавой хозяин накормил и напоил, да и з двора спехнул. Пьяной валяется ограблен на улице, а никто не помилует. Увы безумия и тогдашнева и нынешнева! Паки Библея: Адам же и Ева сшиста себе листвие смоковичное от древа, от него же вкусиста, и прикрыста срамоту свою и скрыстася под древо, возлегоста. Проспались, бедные, с похмелья, ано и самим себя сором: борода и ус в блевотине, а от гузна весь и до ног в говнех, голова кругом идет со здоровных чаш».
Обличения пьяниц и картины пьянства Аввакум, конечно, мог найти и не в «Горе-Злочастии»: в литературном обиходе XVII в. было сколько угодно сочинений на эту тему, в прозе и в стихах. Но изображение первородного греха как пьянства – явление чрезвычайно редкое. «Древо виноградное» в «Повести о Горе-Злочастии» и «смоковь красная» у Аввакума – примерно одно и то же для русского человека той эпохи, потому что «смоковь» означает винную ягоду. Можно предположить, что Аввакум знал «Горе-Злочастие». В таком случае Повесть возникла не позже 1672 г., когда было написано «Снискание и собрание» Аввакума.
Итак, автор «Повести о Горе-Злочастии» строит сюжет на аналогиях между грехопадением первых людей и греховной жизнью своего современника. В большинстве своем эти аналогии только подразумеваются, но они были ясны каждому, кто ходил в церковь, а в XVII в. все ходили в церковь. (Кстати, Аввакум в «параллельных местах» вовсе не столь сдержан, сколь автор Повести, так что «Снискание и собрание» можно использовать в качестве путеводителя по нашему памятнику).
Первых людей обольстил змей, который был «хитрее всех зверей полевых». «Змей» прибился и к молодцу:
Еще у молотца был мил надежен друг —
назвался молотцу названой брат,
прелстил его речми прелесными,
зазвал его на кабацкой двор,
завел ево в избу кабацкую,
поднес ему чару зелена вина
и крушку поднес пива пьянова.
Вкусив запретного плода, Адам и Ева «узнали, что наги», и сшили себе одежды из листьев. Тот же мотив наготы и переодевания есть в Повести:
От сна молодец пробуждаетца,
в те поры молодец озирается:
а что сняты с него драгие порты,
чиры и чулочки – все поснимано,
рубашка и портки – все слуплено…
Он накинут гункою кабацкою,
в ногах у него лежат лапотки-отопочки…
И вставал молодец на белы ноги,
учал молодец наряжатися,
обувал он лапотки,
надевал он гунку кабацкую.
Первые люди познали стыд, «и скрылся Адам и жена его от лица господа бога между деревьями рая», и прогнал бог Адама из рая, и заповедал ему в поте лица добывать насущный хлеб. Молодцу из Повести «стало срамно… появитися» на глаза отцу и матери, «пошел он на чюжу страну, далну, незнаему», жил своими трудами и «от великаго разума наживал… живота болшы старова». На этом кончается прямое подобие библейской истории и сюжета Повести. То, что суждено пережить молодцу дальше, – его индивидуальная судьба, его «свободный выбор».
Человеческое бытие, взятое в целом, трактовалось в средневековой Руси как эхо прошедшего.[695]695
См.: Панченко А. М. История и вечность в системе культурных ценностей русского барокко. – ТОДРЛ, т. 34. Л., 1979, с. 191–193.
[Закрыть] Крестившись, человек становился «тезоименен» некоему святому, становился «изображением» и «начертанием» своего ангела-хранителя. Эта церковная традиция в известной мере поддерживалась мирской. Считалось, что потомки как эхо повторяют предков, что существует общая для всех поколений родовая судьба. Только в XVII в. утверждается идея индивидуальной судьбы. В «Повести о Горе-Злочастии» эта мысль становится основополагающей.[696]696
Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X–XVII веков, с. 149–150.
[Закрыть]
С точки зрения автора, человека старинной закалки, верного идеалам «Измарагда» и «Домостроя», индивидуальная судьба – это «злочастие», злая часть, лихая доля, бесталанная жизнь. Эта доля персонифицирована в Горе, которое появляется перед героем после вторичного его падения, когда он решил наложить на себя руки:
И в тот час у быстри реки
скоча Горе из-за камени:
босо-наго, нет на Горе ни ниточки,
еще лычком Горе подпоясано,
богатырским голосом воскликало:
«Стой ты, молодец; меня, Горя, не уйдеш никуды!».
Теперь молодцу уже не выйти из власти своего двойника:
Молодец полетел сизым голубем
а Горе за ним серым ястребом.
Молодец пошел в поле серым волком,
а Горе за ним з борзыми вежлецы…
Пошел молодец в море рыбою,
а Горе за ним с щастыми неводами.
Еще Горе злочастное насмеялося:
«Быти тебе, рыбонке, у бережку уловленой,
быть тебе да съеденой,
умереть будет напрасною смертию!».
Власть эта поистине демоническая, избавить от нее может только монастырь, в стенах которого в конце концов и затворяется герой. Причем для автора монастырь – не вожделенное пристанище от мирских бурь, а вынужденный, единственный выход.[697]697
О том, что к исходу XVII в. монастырская жизнь в глазах среднего человека утратила притягательность и не вызывала уважения, писал Карион Истомин в стихотворении «О глаголании от людей, како в монастыре монахи живут»:
Мнози глаголют, что монаси деют,где в монастыре дела не имеют.Бутто так сидят, ничего не знают… См.: Русская силлабическая поэзия XVII–XVIII вв., с. 213.
[Закрыть] Отчего так «прилипчиво», так неотвязно Горе-Злочастие? За что дана ему полная власть над молодцем, за какие его грехи? Конечно, молодец пал, – но поднялся. Как писал один поэт середины XVII в., точно выражая православное учение,
Один бог без греха, человек живет, чередуя «падения» и «восстания», иная жизнь на земле попросту невозможна.
Обычно обращают внимание на то, что молодец, устроив свои дела на чужбине, «по божию попущению и по действу диаволю» изрек на пиру «слово похвальное», похвастался нажитым богатством.
А всегда гнило слово похвалное,
похвала живет человеку пагуба!
Тогда-то и приметило его Горе-Злочастие, так как «хвастанье» пагубно и с церковной точки зрения (это «киченье», разновидность гордыни, первого из семи главных грехов), и с точки зрения народной: «в былинах богатыри никогда не хвастают, а исключительно редкие случаи хвастовства вызывают самые тяжелые последствия».[699]699
Путилов Б. Н. Песня «Добрый молодец и река Смородина» и «Повесть о Горе-Злочастии». – ТОДРЛ, т. 12. М. – Л., 1956, с. 233.
[Закрыть] Но после «хвастанья» Горе лишь приметило подходящую жертву: «Как бы мне молотцу появитися?». Теперь время вернуться к библейским событиям и к их проекции на русскую жизнь XVII в.
Если сначала конструктивным принципом автора Повести был прямой параллелизм, то позднее он заменяется параллелизмом отрицательным. Проекция библейской истории продолжается, но это уже инверсированная проекция. Заметим, что автор повествует о первородном грехе в эпически-спокойном тоне. Это нетрудно объяснить. Как христианин, автор знает, что «новый Адам» искупил вину «ветхого Адама». Как человек, автор понимает, что своим присутствием на земле он обязан первым людям, ибо Ева – это жизнь, бог наказал Еву чадородием: «в болезни будешь рожать детей».
И изгнал бог Адама со Еввою
из святаго раю, из едемского,
и вселил он их на землю на нискую,
благословил им раститеся-плодитися…
Учинил бог заповедь законную:
велел им браком и женитбам быть
для рождения человеческаго и для любимых детей.
Горе-Злочастие заставило молодца нарушить и эту заповедь. У того «по обычаю» была присмотрена невеста, Горе уговорило порвать с нею, привидевшись во сне архангелом Гавриилом. (Персонаж этот введен в Повесть не случайно: в Евангелии он приносит Марии благую весть о рождении сына, в Повести отвращает героя от брака «для рождения человеческаго и для любимых детей»). Это – идейная кульминация произведения. Молодец погиб окончательно, бесповоротно, ему уже не встать на ноги, не сбросить иго Горя-Злочастия. Избрав личную судьбу, он избрал одиночество. Об этом говорится в песне «Добрый молодец и река Смородина», в которой много общих с Повестью мотивов:
Тема одиночества – одна из главных тем не только русской, но и западноевропейской культуры XVII в. Московский «гулящий человек» состоит в близком родстве с барочным пилигримом, заблудившимся в лабиринте мира. Разумеется, автор «Повести о Горе-Злочастии» осуждает своего героя. Но автор не столько негодует, сколько грустит. Он полон сочувствия к молодцу. Человек достоин сочувствия просто потому, что он человек, пусть падший и погрязший в грехе.