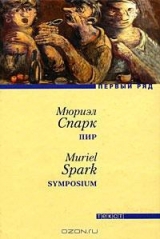
Текст книги "Пир"
Автор книги: Мюриэл Спарк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Мюриэл Спарк
Пир
...дело кончилось нанесением ран, и общество разошлось при пролитии крови.
Лукиан. «Пир»
...больше всего запомнилось ему, как Сократ побуждал двоих других признать, что гений комедии тот же, что и гений трагедии, и что артист истинный в трагедии есть и в комедии артист.
Платон. «Пир»
1
– Это насилие! – голос достиг высот, ему недоступных прежде, и дошел прямо-таки до визга, пока он озирал разгром. – Это надругательство!
Насилия не было никакого, была кража.
Он был лорд Сьюзи; титул был наследственный, и когда это объясняли занятым людям перед знакомством, тем хотелось спросить: «Ну, а сам-то он что?» И правда, сам он мало что совершил. Он приближался к опасному рубежу пятидесятилетия, к мужскому климаксу, как говорится. Два предыдущих брака и два развода пронеслись, как бури на старинных морских путях.
Хелен, нынешней леди Сьюзи, было двадцать два года. Она стояла, сонная, длинноногая, воздев руки к черной стриженой голове, и поражалась. Она была замужем за Сьюзи почти год и уж не раз подумывала смыться. Познакомились они на школьном спектакле, лорд пришел посмотреть, как дочь играет в «Смерти коммивояжера» [1]1
Пьеса Артура Миллера. ( Здесь и далее – примеч. переводчика.)
[Закрыть], на сей раз рекомендованной драматическим обществом. Хелен училась в одном классе с Перл, единственным отпрыском лорда Сьюзи, притом от второго брака. Теперь Перл была далеко, на Манхэттене, сидела за компьютером в ООН, писала, что это «не работа, а конфетка», нагоняя на Хелен зависть и досаду. У самой Хелен родители тоже были в разводе. Она скучала по отцу, видно, потому, она объясняла, ей всегда нравились старики, вот в конце концов она и клюнула на Брайана Сьюзи.
Хелен потерянно оглядывала разгром, а два полисмена, среди ночи разбудившие их сообщением, что входная дверь у них настежь, а свет горит, теперь собирались ретироваться. Оба диву давались, как это ни один из супругов не слышал ни звука.
– А шум-то был, похоже, – сказал один.
Хелен сронила с головы руки.
– Я слышала шум и не слышала, – сказала она. – Я, в общем, спала, и во сне был звук, но, возможно, это реальный звук вошел в мой сон.
– Ну что такое она говорит! – кипел Брайан. – То она ничего не слышала, то слышала это во сне.
– А-а, без разницы, – сказал полисмен. – Оно и лучше, что не спустились. Еще бы прихлопнули вас.
Они ушли, и Хелен стала нашаривать взглядом уцелевшую бутылку. Напала на какой-то портвейн. На кухне, куда не проникли вандалы, в шкафу была куча разных бутылок с выпивкой; она подцепила бутылку коньяка и намешала недавно ею открытый коктейль.
– Брайан! – она позвала. Он сидел на нижней ступеньке, уронив лицо в ладони. Она ему принесла бокал портвейна с коньяком, свою смесь, и подсела к нему на ступеньку.
– Насилие, – он стонал. – Чувство такое, будто тебя изнасиловали.
– Да? Ну, то я не знаю, – сказала Хелен. – Они взяли серебро, технику и старинное зеркало. А остальное переломали.
Дом был викторианский, трехэтажный, в тихой улочке за Кембервелл-Нью-роуд.
– А раньше тебя когда-нибудь грабили? – спросила она. Они не так давно были женаты, чтоб знать друг о друге всю подноготную.
– Нет. Терял кое-что. Слуги бывали нечестные. Домашние дела. Еще мама однажды потеряла кольцо. Но чтобы так ограбили! Полтретьего, три ночи, а я ничего не слышал. И ты ничего не слышала, согласись. Они же могли подняться и нас уничтожить.
– Надо бы сигнализацию завести, – сказала она. – Полезная вещь. Но они умеют отключать сигнализацию.
– Безумие – хранить серебро, – сказал он. – Бездна труда, а после его крадут.
– В основном там были свадебные подарки моих родственников, – сказала она. Его-то серебро было наверху, в большом сейфе в ванной.
– Ненавижу свадебные подарки, – сказал Брайан. – Будь у тебя мой опыт свадебных подарков, ты бы меня поняла.
– Да, похоже, они не сильно скрепляют брак, – сказала она.
– Что за штуку мы пьем?
– Называется возбуждающий сок.
– И они все стены обписали, – простонал он. – Это безобразие, когда обписывают твои стены и все твое достояние. Унизительно.
Хозяйка представляет друг другу тех, кто еще не знаком.
«Лорд и леди Сьюзи, то есть Брайан и Хелен, позвольте представить вам Роланда Сайкса. С Аннабел Трис вы знакомы... Эрнст Анцингер... знакомы, вот и прекрасно. Миссис и мистер Дамьен, Уильям и Маргарет...» Хозяин разливает аперитивы. Всего их десятеро. Дом в Айлингтоне. Гостиная вся сплошной беж, и в дверях лазурный просвет столовой.
Женщины здесь поразительно разные, пятеро мужчин странно похожи, только возраст разный. Хозяева – Харли Рид, американский художник пятидесяти с хвостиком, и Крис Донован, австралийка, вдова и богачка, ей сильно за сорок. Они живут вместе. Исключительно удачный и тесный союз.
Полчаса спустя компания сидит за столом. Кто-то кому-то внове, но, в общем, двое хозяев и восемь гостей куда больше известны друг другу, чем сейчас они, скажем, известны нам.
Харли Рид сидит во главе стола за этим ужином на десятерых, Хелен Сьюзи у него по правую руку, слева сидит Элла Анцингер. На другом конце стола – хозяйка, роскошная и богатая Крис Донован, и внимание ее уже узурпировал Брайан Сьюзи, сидящий справа. Худое, темное лицо, глаза выпучены. «Все стены обписали», – сетует Брайан.
Эрнст Анцингер, загорелый, успешный, слегка поседелый до времени, помещен одесную Крис Донован. В Лондон он, как всегда, наведался по делам из Брюсселя, где он заседает в одной международной комиссии по финансам Евросоюза. Жена его Элла – наискось напротив, рядом с Харли Ридом.
– Все сплошь обписали, – твердит Брайан Сьюзи.
Эрнст мечтает сбить его с темы, поскольку подают сухое шампанское в стройных бокалах, и эти подробности ограбления Брайана Сьюзи, он чувствует, тут решительно ни к чему.
Слуга, недавно обретенный из лучшей школы дворецких, вместе с взятым на вечер подручным, юным аспирантом новейшей истории, плывут вдоль стола, оба в белых куртках, вполне безучастно, но Эрнст боится, что они слышат рассуждения лорда Сьюзи, и явно вздыхает с облегчением, когда лорд переходит к деловому перечню недостающих и поврежденных предметов.
– Вот и я всегда Харли говорю, – вставляет Крис Донован, – как отвернешься от своего имущества, так и пиши пропало. Может, больше ты его никогда не увидишь.
Маргарет Дамьен – романтического вида девица с гривой темно-рыжих волос поразительного, возможно, природного цвета. Она говорит:
– Есть такие строки Уолтера Деламара:
...Смотри любовно всякий час
На все, на все...
Харли Рид поднимает бокал с шампанским:
– Предлагаю выпить за Маргарет и Уильяма, за их будущее.
Уильям Дамьен улыбается. Пьют за молодоженов.
Харли Рид на своем конце стола беседует с Хелен Сьюзи, сидящей справа. Хелен очевидно сконфужена тем, что при всем желании не может не слышать мужних пеней.
– Это на прошлой неделе было, – говорит Хелен.
– Изнасилование, – жужжит голос мужа. – Я чувствовал себя так, будто меня изнасиловали.
Хелен смотрит в тарелку с заливной семгой, бесшумно перед нею поставленную. Она берется за вилку.
Харли тоже берется за вилку и, передавая крошечные булочки Элле Анцингер, сидящей слева, меж тем продолжает беседу с Хелен.
– А случалось ли вам когда-нибудь слышать, – он спрашивает невинно, – про Святую Анкамбру?
– Святую Ан... как?
– Этой средневековой святой, – говорит Харли, – молились, особенно женщины, об избавлении от супругов. Она была португальской принцессой и не хотела идти замуж. Отец ей подобрал мужа. Она молилась о том, чтобы потерять привлекательность, и молитва была уважена. У нее выросла борода, что, разумеется, отвадило жениха. В результате отец отдал ее на распятие. В часовне короля Генриха VII в Вестминстерском аббатстве сохранилось изображение – длинные волосы, окладистая борода.
– Лучше уж я не буду молиться святой Анкамбре, – решает Хелен, чей супруг на другом конце стола продолжает перебирать свои прóтори, – еще борода вырастет.
– Очень маловероятно, – говорит Харли.
– Тогда попытаю метод Анкамбры, – сдается Хелен.
Элла Анцингер, слева от Харли, хоть и беседует с юным Уильямом Дамьеном, одним ухом ловит эту пристрелку. Элле Анцингер в беседу с Уильямом Дамьеном вставить особенно нечего, раз тема грабежа господствует за столом, Уильям же сообщает, что у жены его Маргарет во время свадебного путешествия украли во Флоренции сумочку. Длинные светлые волосы Эллы нежно дымятся вдоль щек.
– Изнасилование, сущее изнасилование! – летит с другого конца стола.
– Но вы обращались в полицию? – спрашивает Элла, заинтригованная мятежной Анкамброй.
– Да-а, – тянет Уильям. Не то чтоб у него вообще такая манера, он тянет сейчас, очевидно, оттого, что скучает. – Но сумочку нам не вернули, – объясняет он добросовестно. – Главное, там были документы. Маргарет потеряла паспорт, кредитку, пришлось идти в консульство. Такие дела.
Элла говорит:
– На что вам пришлось тратить время в медовый месяц!
– Ну, все же опыт, – тянет Уильям.
– Да, но стоило ли ради такого опыта ездить за границу? И вообще, лучше бы его никогда не было.
– Пожалуй, – Уильям устремляет взгляд через стол с легкой гримаской, призванной изобразить: «Ну сколько можно?» Но Маргарет на него не смотрит. Женщина слева от него, Аннабел Трис, поглощена другим своим соседом, Брайаном Сьюзи, и его жалобами. У нее высокий лоб, сильная челюсть. Она в голубом платье и в жемчугах.
– Вы живете в Лондоне? – Уильям спрашивает Эллу.
– Мы часто бываем в Брюсселе, муж там работает, но я надеюсь подыскать постоянную лондонскую квартиру. У меня теперь своя работа, я преподаю в лондонском университете. География, картография.
Нет, в общем, она не дура. Здесь за столом нет дураков. Харли и Крис всегда скрупулезно вымеряют интеллектуальный потенциал гостей, устраивая прием. Уильям, ободрясь, смотрит на жену, и та улыбается ему в ответ, с заливным на вилке. Она устремляет свое внимание на Роланда Сайкса, молодого человека слева.
– Возможно, – говорит она, – и в грабежах есть благо.
Роналд Сайкс, посверкивая искусственной сединой своего бобрика, замечает, что в грабеже трудно усмотреть благо, разве что для воров.
– Некоторые мистики, – говорит Маргарет, – видят высшее благо в том, чтоб отрешиться от своего любимого достояния.
– Есть разница, однако, – отрешаетесь ли вы от него сами или вас грабят, – ловко находится Роланд. – Оставя в стороне высокоморальный аспект, с обыкновенной нравственной точки зрения грабеж является преступлением, тогда как добровольный отказ от собственности отнюдь не является.
Кузина Роланда, Аннабел Трис, пытается утешить соседа, Брайана Сьюзи, убеждая его, что воры, вломившиеся к нему в дом, умственно отсталые, наркоманы, и потому скорей достойны жалости, чем осуждения.
– Э-э, но они знали, что делают, – брюзжит Брайан. – Они могли, правда, и больше напакостить, знай они цену тому, чего не взяли. Кстати, оставили на стене Фрэнсиса Бэкона. Оставили гитару жены.
– Вот именно, именно, – подхватывает Аннабел. – Важно не то, что они взяли, а то, что оставили.
– Может, сообразили, что такую картину нелегко будет сбыть, – брюзжит Брайан. – И я нисколько не удивлюсь, если гитару они оставили из солидарности со своим поколением.
– Факт тот, что они умственно ограниченные, – говорит Аннабел. – Или, возможно, отсталые исторически.
Брайан Сьюзи в недоумении. Аннабел, ассистент режиссера на телевидении, увлекается философией и психологией, отдает им массу свободного времени. И даже вывела теорию, согласно которой каждый человек психологически соответствует определенной эпохе. «Кто-то, – просвещает она Брайана, – соответствует восемнадцатому веку, кто-то двенадцатому. Всем психиатрам следовало бы изучать историю. Большинство пациентов исторически отсталые, застряли в своей эпохе, не могут отвечать на вызовы современности и мириться с ее обычаями».
– Люди, вломившиеся в мой дом, принадлежат, надо полагать, неандертальской эпохе, – не унимается Брайан. – Обписать все кругом! – Он брюзжит, он чуть ли не рявкает, нет, снисходить к ворам он не намерен. Аннабел же, отнюдь не хорошенькой, не дано умягчить его тон.
Тарелки убраны, подается следующее блюдо. Входит молодой аспирант-подручный, высокий, изящный, в темных кудрях над тонким смуглым лицом, с почти сросшимися бровями, с открытым, приятным взглядом. Он несет блюдо: откормленный фазан обложен колбасками, и рядом гарнир – горошек с морковкой. Приладив раздавальную вилку к ложке, он обносит гостей, начав с Хелен Сьюзи. За ним следует постоянный дворецкий, разливая бордо по бокалам. Юный аспирант, обслужив Хелен Сьюзи, плывет вдоль стола, по очереди склоняясь над каждой дамой. Потом, как было ему предписано, он оделяет мужчин с точно такого же блюда, дождавшегося своего часа на сервировочном столике. Вот все оделены фазаном, у всех в бокалах вино, и дворецкий водворяет на сервировочный столик блюдо с картофелем во фритюре. Все должно идти как по маслу, без промедления, минута в минуту, и чтоб никто этого не замечал. Однако, когда картофель достигает Эрнста Анцингера, дребезжит раздавальная вилка. Вилка упала на пол. «Пустяки, – говорит Эрнст, – ложкой обойдусь». Что он и делает. На самом деле заминка объясняется тем, что Эрнсту приспичило тронуть запястье юного аспиранта, занятого раздачей.
Элла Анцингер тем временем перегибается через Уильяма Дамьена к Аннабел Трис, сидящей от него слева, впрочем, и его включая в разговор. Тема грабежа отставлена ради вопроса о женской карьере.
– Нет, ну как это – не работать! И замужней женщине тоже хочется чего-то добиться в жизни, все это знают, – говорит Элла. – Вам, девушке свободной, не нужно складывать их пижамы, чистить костюмы и гладить рубашки.
– И вы правда все это проделываете? – говорит Уильям. – Тогда я дико рад, что женился. Ой, как-то мне даже не верится...
– Это правда, отнюдь не метафора, и притом довольно часто приходится, – говорит Элла.
Аннабел говорит:
– Это так возбуждает – когда трогаешь мужскую одежду... это такое удовлетворение – психологическое, я имею в виду.
– Ну, если любишь человека, наверно, – говорит Элла.
– Само собой.
2
За три недели до этого ужина в доме Харли Рида и Крис Донован Эрнст Анцигер охорашивал цветы у себя в кабинете в меблирашке, снимаемой из-за его наездов из Брюсселя.
– Элла, – сообщал он молодому человеку, который, сидя на диване, следил за его руками, – как ты знаешь, подыскивает квартиру. Ей нужно обосноваться в Лондоне из-за работы. По-моему, она будет что ни день мотаться в Брюссель, может даже разминаясь со мною. Любопытная ситуация. Элла любит ирисы и розы. Они прелестно смотрятся вместе, если правильно их поставить.
Он досказал все, что хотел, и, не дождавшись ответа, промычал какой-то зачаточный мотив. Потом сказал:
– Знаешь, Люк, а ведь мы с Эллой правда любим друг друга. Когда мы познакомились, ей было шестнадцать, мне девятнадцать. Мы оба из Манчестера.
Люк сказал:
– Элла прямо потрясающая женщина. Это невозможно отрицать.
Люк учился в аспирантуре Лондонского университета, окончив Ратджерс [2]2
Университет в штате Нью-Джерси. С 1825 года носит имя известного филантропа Ратджерса.
[Закрыть]в Штатах. Родом он был из Нью-Джерси. Учился на гранты, а деньги на жизнь добывал, прислуживая за столом в ресторанах и частных домах по несколько раз в неделю. Через три недели он подрядился помогать на званом ужине в Айлингтоне, у Харли Рида и Крис Донован.
Хрустнул ключ в замке.
– Привет, – сказала Элла. – А-а, привет, Люк, – сказала она. – Какие цветочки!
Элла была рослая, подтянутая, очень светлые волосы висели вдоль узких щек. Ей было сорок два года. Она заметно обрадовалась, увидев красавца Люка. Чмокнула его и Эрнста, рассиявшегося при ее появлении.
Это Элла представила Эрнсту Люка, несколько месяцев назад зазвав его ужинать к ним в меблирашку. Она присмотрела Люка в университетской библиотеке. В тот вечер из Брюсселя приехал Эрнст. Молодой человек пришелся по вкусу Эрнсту, он положительно его веселил, тем, например, как, хвастаясь вполне нехитрыми достижениями на академическом поприще, твердо молчал о том, чем по справедливости мог бы гордиться: как храбро он сам, без знакомств и подачек, одолевал свои университеты.
Эрнст был высокий, с проседью, с черными густыми бровями и блестящими глазами, до того темными, что невозможно определить цвет. У него был большой красивый рот, недавно запущенная седая бородка и длинноватый нос. Что ему шло. Ему было сорок пять лет. Сначала он думал, что Люк спит с Эллой в те дни и недели, когда она приезжает в Лондон одна, бросая его в Брюсселе. Он, в общем, даже не возражал, что ж, дело естественное. Но теперь ему как-то с трудом верилось, что Люк любовник жены, уж слишком явную склонность демонстрировал юноша к собственной его особе.
– Не избаловать бы его, – сказала Элла, потому что Люк к ним зачастил, особенно в дни отсутствия мужа.
Эрнст сказал:
– Не давай ему денег.
– Не буду. Он и не просит.
– Ладно. Накорми, дай выпить, и хватит с него. И пусть накроет на стол и посуду помоет.
– Все он делает, и просить не приходится. Надеюсь, он мне найти квартиру поможет.
У Эрнста с Эллой был единственный ребенок, дочь, недавно она вышла замуж и укатила в Нью-Йорк. Люк, можно сказать, заполнял брешь. Эрнст, такой блестящий, со своими способностями к языкам, предпочитал жизнь в Брюсселе, но раз Элла вздумала строить собственную карьеру в Лондоне, он был вовсе не прочь видеть Люка, наведываясь в столицу, где застревал порой на неделю. Он был вовсе не прочь в первый месяц знакомства, но теперь, два месяца спустя, он, кажется, прямо рехнулся. Старинная блажь, старинная чушь допекала Эрнста, что он ни делал, о чем ни думал, из-за края сознания лезло: Люк; на серьезных встречах, собраниях, на деловых ленчах: Люк. Я положительно на нем помешался, думал Эрнст, захлестывая на себе ремень безопасности и мча от Хитроу в потоке машин к Люку, и к Элле тоже, конечно, в свою меблирашку: «Какие цветочки!» Иногда они звонили по телефону вниз, в обслуживание жильцов, заказать еду, а то стряпали сами, у себя в кухонном закутке, и ели там же за стойкой.
– Оставайся ужинать, – сказал Эрнст Люку.
– Не могу, – Люк глянул себе на запястье. – Зафрахтовался на один прием, помогать у буфета, от восьми до двенадцати.
– И как ты ухитряешься заниматься, со всей этой вечерней нагрузкой? – спросила Элла.
– А зачем много заниматься, – сказал Люк. – На лекции ходить, и достаточно. И все абсолютно запоминать. Мы это умеем. Мозги хорошие надо иметь.
– Ну, я просто тобой восхищаюсь, что ты столько работаешь, – сказал Эрнст. – Мало кто из молодежи на такое способен.
– Мозги хорошие надо иметь... – мечтательно протянул Люк, любовно оглядывая свое отражение на глади собственного душевного омута.
Эрнст никак не мог одобрять морального облика юного аспиранта. Тот пил пиво из банки.
Элла вышла за дверь, переодеться. Явилась в брюках и блузке, в ярко-зеленых туфельках на высоченных каблуках. Люк снова глянул себе на запястье.
– Мне пора.
– О, какие часики! Новые, да? – сказала Элла.
– Вполне, – сказал Люк. Он ее расцеловал, помахал Эрнсту и вышел.
Элла взяла бутылку сухого мартини. Уселась на диван рядом с Эрнстом.
– Однако, – сказала она. И наклонилась поправить в вазе откачнувшийся ирис.
– Что – «однако»?
– Часы. «Патек Филипп».
– Кажется, дорогие, – сказал он вкрадчиво, вглядываясь в нее.
– Это тебе знать, – сказала Элла.
– Я и знаю, – сказал Эрнст, – но ты, конечно, знаешь еще лучше.
– Ты подарил ему эти часы, Эрнст?
– Нет, а я думал, ты подарила.
– Я? Ты думал, это я подарила?
– А ты не дарила?
– Нет, конечно. С какой стати? Зачем? Если же он их получил от тебя, с другой стороны, тут был, наверно, какой-то мотив. – Ноги в зеленых туфельках на высоченных шпильках, скрещенные, покоились на кофейном столике.
– Ничего я не дарил ему, Элла, – сказал он. – Я вот думаю, кто ему подарил такие часы? – Эрнст явно нервничал. – Тысячи долларов. За этим стоит серьезное богатство.
– И ты надеялся, что это я подарила, – хмыкнула Элла.
– Чего мне надеяться. Просто я рассуждаю.
– А я-то надеялась, это твой подарок, – сказала Элла. – Раз нет, мне даже страшно как-то.
– Нет, это не мой подарок. Мне и самому страшновато. Дело не в часах, дело в неизвестном факторе.
– Если бы ты не дышал к нему неровно, с чего бы тебе пугаться, – сказала Элла.
– Если бы оба мы не дышали неровно, – сказал Эрнст.
– Кажется, ты в основном, – сказала она. – Но все равно. Не хотелось бы вляпаться. Люк плюс неведомый покровитель – это попахивает опасностью. В конце концов, ну что мы про него знаем?
– О, мы много чего знаем, – сказал Эрнст. – Он страшно способный, но зарабатывает на жизнь, не гнушаясь самой скромной работой. Редкие качества в таком мальчишке. Тебе бы его спросить, Элла, откуда у него эти часы.
– Просто не представляю, как можно спросить.
– Ну, этак по-матерински, я имею в виду. У тебя получится.
– А почему бы тебе не спросить? Этак по-отцовски?
– Я не испытываю к Люку родительских чувств.
– Ну все равно, и родителям не стоит соваться. Никому не стоит соваться к взрослому человеку. Люк прекрасно обойдется без нашей опеки, – сказала она.
Решили пойти поужинать. Элла надела уличные туфли, и двинулись в греческий ресторан.
– Видела сегодня Харли Рида, – сказала Элла. – На телевидении. Консультирует какой-то там про художника фильм.
– Там всегда это бледно выглядит, – сказал Эрнст. – Ненатурально. Художник сует кисть в палитру, легонько пошлепывает по холсту, а сам меж тем цитирует собственные изречения, якобы в беседе с кем-то, забредшим на огонек. Прямо в студию. Как по-твоему, художники держат студии для приема гостей?
– Ну, понятно, кино, телевидение, – сказала Элла. – Но иногда и прочтешь такое: художник разглагольствует с кистью в руке.
– А-а, это у Генри Джеймса. Но на телевидении-то надо бы поубедительней? И сколько они платят Харли? Он богатый. Зачем ему эта работа?
Элла сказала:
– Знаешь, тут он, по-моему, не на деньги купился.
– Кто спорит, – сказал Эрнст. В конце концов, он был человек справедливый. – Кстати, я не большой поклонник его живописи. Нет, если есть там идея, идею как раз я схватил. И конечно же, Элла, эти плоские, декоративные постеры – забытые на пляже машинки, неодушевленно тупые медицинские сестры подле карет «скорой помощи» – мне говорят о бюрократизме. Но он продается по завышенным ценам.
– Крис Донован его раскручивает. Конечно, она верит в Харли, – сказала Элла, а про себя подумала: «Вечно Эрнст ценник навешивает на каждую вещь».
– Ничто не поет, не течет. Какие-то мертвые знаки. Ни горячо, ни холодно. Абсолютно не пробирает, – сказал Эрнст. – И тем не менее продается за дикие тысячи.
Конечно, у Эрнста был вкус. Он ходил по аукционам и млел, меряя денежной меркой каждое произведение искусства. Сам понимал, что это дурная привычка, но втянулся, не мог отстать. Эрнст был католик. И даже во время посещения Папы и то невольно прикидывал земные богатства понтифика (пожизненный владелец Сикстинской капеллы, хозяин земель Ватикана и всего, что на них...). Эрнст сам понимал, что это почти неприлично, но старался себя убедить, что просто он реалист; и как бросишь – это же прелесть какая: примеривать, почем по текущему курсу идет красота.
По молчаливому соглашению Элла с Эрнстом больше не спали вместе. Знать бы только, спит ли он с Люком? И насколько Люк потаскун? Эта жуткая болезнь... Кстати, если бы он только узнал, что у нее с Люком нет ничего, сразу бы его отпустило. А то получается, с кем ни спишь в последние десять лет, до тебя уже переспали. Можно, конечно, предохраняться, хоть Эрнсту такие новшества невдомек. Вот и помрешь через десять лет, она думала, а я не хочу. Эрнст точно так же думал. Они Люка не знают, вот в чем беда, может, Люк сам себя не знает.
При мысли о Люке Эрнст затуманился. Тут не секс, какой секс. Романтическая же любовь теперь не та, абсолютно не та. И как потеряешь голову, предварительно деловито сглотнув таблетку. Люди теперь друг за другом следят. Элла подозревает меня. Подозревает, что я ее подозреваю. Возможно, мы правы оба. Вроде той гадости, когда муж следил за женой, а она за ним, ходил ли к причастью. Теперь следят, чтобы предохранялся.
Эрнст стал думать про свою работу. Главы государств, их фавориты сидят за огромным круглым столом, тут же бутылки минеральной воды, переводчики, и такой тягучий, такой тягучий у них разговор. В общем, достаточно нудно.
– Крис и Харли через две недели затеяли ужин. Ты сможешь, надеюсь? – спросила Элла.
– Да, я с той недели на целый месяц застряну в Лондоне.
Они шли домой. Греческая еда камнем давила желудок. Было решено: с греческой едой покончено. Навсегда.








