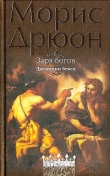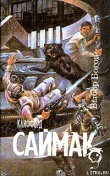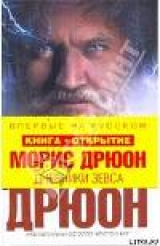
Текст книги "Дневники Зевса"
Автор книги: Морис Дрюон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
В тот вечер она была шатенкой. Но на следующий день могла бы стать рыжеволосой или белокурой. Она умеет менять цвет волос. Окунет волосы в море, натрет соком известных ей растений, разложит их на облаке и будет часами неподвижно терпеть жар солнца. «Разве ты сам не желал вновь видеть меня белокурой?» Я ничего такого не говорил, но дело уже было решено. На следующий день она совершит этот великий подвиг – станет Афродитой белокурой. Ах! Найдет ли когда-нибудь царь богов более покорную рабыню?
В какой-то миг она, казалось, заинтересовалась моими делами.
– Что ты свершил сегодня такого, – спросила она, – чтобы я могла гордиться тобой?
Это прозвучало так, будто я уже принадлежал ей. Впрочем, моих ответов она не слушала. Она и без того прекрасно знала, в чем я нуждаюсь, чтобы быть счастливым. Ведь любовь не ошибается, а она и есть сама любовь! Мне нужно иметь подле себя богиню, чье великолепие укрепит мою власть над подданными. Молния, которой я владею, внушает им страх, а улыбка Афродиты обеспечит мне их обожание. Разве мы не созданы друг для друга – я, сильнейший из богов, и она, прекраснейшая из богинь? Она решила принадлежать только мне.
Мне показалось, что пора удовлетворить столь прелестное желание. Прижавшись к ее боку, я весьма красноречиво доказывал, что ей уже незачем стараться, доводя меня до нужной точки. Глядя на ее опущенные ресницы и восторженную улыбку, освещенную луной, я заключил, что Афродита готова отдаться, и уже начал распускать ее пояс, как вдруг она заговорила о своем отце.
Я уже упоминал, из какой пены родилась Афродита и при каких обстоятельствах. Это отчасти объясняет крайнюю важность, с которой она относилась к собственной персоне; сознавая, что произошла из чресел самого Неба, она всегда смотрела на мир так, словно он создан лишь для того, чтобы вертеться вокруг нее. Но вполне ли подходил момент, чтобы вспоминать об этих вещах? Ладно бы еще ради того, чтобы мы растрогались, воскресив в памяти наше трагическое рождение, наши сиротские судьбы, и почувствовали друг к другу еще большую близость, – так ведь нет. Речь шла о наследстве.
Тефида располагает бесконечными сокровищами своего супруга Океана, и ее глубоководный дворец ломится от исконных богатств; Амфитрита делит с Посейдоном морское царство; у Памяти есть воспоминания и долина с двумя источниками; у Деметры – природа, цветы и обильные урожаи. Всем богиням что-то досталось, и только она, Афродита, по ее словам, ничего не получила в долю.
– Разве обладать высшей красотой и непреходящей возможностью внушать желание значит быть обездоленной? – воскликнул я. – Да все бессмертные и смертные завидуют такой участи и ревнуют!
– Зависть – угроза, а не богатство, – возразила Афродита. – Красоте постоянно требуется дань, которая доказывает ее превосходство.
Она знала, что разрушенное ныне жилище ее отца Урана было построено из разноцветных прозрачных каменьев, дивно сверкавших на свету. Она слышала также, что такие каменья, произведения одноглазых и сторуких, еще таятся в недрах гор. Правда ли, что от изумрудов, сапфиров, рубинов исходят первоначальные силы и каждый драгоценный камень содержит благотворную энергию? Ах! Как же Урану удалось закрепить в этих каменьях все оттенки цветов, составляющих свет, от аметиста до хризолита, от лазурита до топаза, а в алмазе кристаллизовать сам свет? Разве каждое небесное тело не представлено на земле одним из этих камней?
– Они ведь малая толика творений Отца, – сказала Афродита голосом столь волнующим, что вызвала бы у вас слезу.
В общем, она просила себе не что иное, как эти разноцветные камешки, на память. Они, дескать, послужат ей защитой от угроз зависти. Это ведь такая скромная просьба, и неужели я буду настолько черств, что не соглашусь с ней? Афродита намеревалась расшить каменьями тот самый пояс, застежку которого, раздражавшую мои пальцы, я уже начинал находить слишком замысловатой.
Простите мне, смертные, данное мною обещание. Оно вам дорого обошлось.
Но я был пылок (тогда), я был наивен (как вы до сих пор) и думал, что Афродита, ублаженная таким образом, не будет желать уже ничего, кроме любви. Она сама на мгновение внушила мне эту иллюзию, поскольку распустила свой пояс с великолепной непринужденностью и явным удовольствием.
– Вот такой, – сказала она, роняя свой наряд, – я вышла из моря. Я Анадиомена.
Она не позволила мне даже выразить восхищение. Ведь это же так естественно, чтобы ею восхищались! Ее уже посетила другая мысль, и возникла другая просьба, как раз насчет моря, которое было ее колыбелью. Афродита захотела, чтобы я подарил ей что-нибудь, напоминающее о море. О! Самую мелочь, почти ничто – жемчужницу.
Я уже дал алмаз, так что вполне мог пожертвовать безобидным моллюском.
Ах! Бедные мои дети, сколькие из вас надорвали себе сердце, вылавливая для нее этих пресловутых жемчужниц или добывая их содержимое!
– Жемчуг ведь так похож на мои зубы, – проворковала Афродита, нежно склонившись к моему плечу, – а перламутр – на мои ногти. Так остальные богини никогда не смогут со мной сравниться.
И тут эта неиссякаемая болтунья взялась за остальных богинь, дескать, они все, а в первую очередь мои возлюбленные, поражены каким-нибудь несовершенством, которое их безобразит. Деметра ведь и в самом деле не слишком ухожена. Особенно руки, я замечал ее руки? А правда ли, что у Эвриномы жалкие рыбьи плавники вместо бедер? И как только Фемида, умница, конечно, но такая неповоротливая, такая холодная, сумела внушить мне какое-то желание?
– Не знаю точно, как она мне его внушила, но отлично знаю, что удовлетворить смогла.
Ах, и дернуло же меня за язык сказать это! Афродита тут же засыпала меня вопросами о том, как каждая из завоеванных мною богинь изощрялась в любви, но ответы давала сама. Впрочем, можно ли вообще говорить о каких-то завоеваниях? Это ведь я сам, такой дурачок при всем своем могуществе, каждый раз позволял завоевать себя. Ни одна из них не была по-настоящему меня достойна. И Афродита утверждала с ожесточенной уверенностью, что на самом деле я никогда не достигал наивысших восторгов в их объятиях. Ревнует, она? К кому? Как можно ревновать к тем, кто так явно ниже?
Да, сыны мои, знаю! Мне бы надо было схватить какое-нибудь подходящее облако и заткнуть ей рот или же удалиться, оставив ее нести этот бред в одиночестве.
Но на исходе второй трети ночи воля слабеет, а желание еще сильно. Все еще надеешься наверстать за оставшееся время потерянные часы. А глаза Афродиты постоянно обещают. К тому же она так красива: одна нога вытянута, другая подогнута, и совершенное колено вырисовывает угол на звездном небе. Она обнажена, она согласна, все понятно. Ее речи раздражают, зато голос так пленителен. Надо только дождаться полного согласия. Доверчивая богиня ищет вашу руку, сплетает свои хрупкие пальцы с вашими. Как тут осмелишься показать себя грубым и разрушить это столь близкое согласие?
Вы не удивитесь, узнав, что злосчастный Приап – сын Афродиты. Но не я его родитель.
Коснувшись меня устами в невесомом поцелуе, скорее надежде на поцелуй, она тотчас же вскричала:
– Отныне я хочу быть единственной. Поклянись мне, что я буду единственной!
Обременительная просьба! Но Афродита опять сама на нее ответила. Она не нуждалась в клятвах. Она знала, что отныне я уже не смогу принадлежать никому, кроме нее; мои смехотворные воспоминания сотрутся, и никакая новая богиня не сможет внушить мне искушение.
– Я буду единственной, потому что стану всеми ими! Я буду Афродитой Пандемос, богиней вульгарной и заурядной любви. Мы будем спариваться среди полей, как какой-нибудь неотесанный козопас и пастушка, или как вернувшийся в гавань моряк совокупляется с первой же встречной служанкой.
– Ладно, будь по-твоему, – сказал я. – С этого и начнем.
Она удержала меня пальчиками.
– Я буду сопровождать тебя во всех битвах; я буду Афродитой Никефорой, носительницей твоих побед.
– Каким же оружием ты поможешь мне?
– Своей любовью. Я буду поддерживать в тебе вечное желание меня завоевать... А еще я стану ради тебя матерью; я позволю своему прекрасному чреву отяжелеть, претерплю муки деторождения. Меня назовут Венерой Генитрикс, и девственницы, вдовы, бесплодные жены будут молить меня, чтобы я наделила их этим тяжеловесным счастьем.
Тут я с некоторым беспокойством призадумался об отпрысках, которых мог бы породить с этой вдохновенной прорицательницей.
– Я никогда не позволю тебе пресытиться мною, – продолжала она. – Еще я буду похотливой и бесстыжей Афродитой Гетерой, Афродитой Аносией. Я буду отдаваться тебе в животном обличье, сделаюсь телкой, ослицей или козой. Или же, сохраняя женский облик, тебя самого заставлю принять для скотской случки вид козла, быка, онагра.
Однако! Каким странным образом проявились последние опыты Урана-прививальщика!
– А потом, вернув себе величайшее великолепие, мы соединимся на виду у прочих богов, принуждая их к соитию вокруг нас, чтобы они стали нашим собственным отражением, многократно умноженным сотнями зеркал – до бесконечности. Изощренность наших любовных игр восхитит нас самих.
Ночь близилась к концу, на востоке появилась заря; Афродита упорно продолжала выдумывать.
– Я стану Афродитой Порнэ, которая отдаст тебе свое тело как товар; ты будешь обращаться со мной без всякого почтения и сможешь потребовать самых унизительных для меня ласк.
«Другие смогли бы предоставить их мне и за более умеренную цену».
– Но при этом я всегда останусь Афродитой Уранической, богиней возвышенной, чистой, идеальной, небесной любви...
Тут я рассудил, что для одной ночи вкусил такой любви вполне достаточно. Я встал, столь же вымотанный, сколь и неудовлетворенный, чувствуя, что всякое желание убито. Но покинуть ее оказалось не так-то просто. Мне еще предстояло познать Афродиту встревоженную, неоцененную и стенающую, Афродиту – пожирательницу раннего утра.
– Останься, – стонала она, обнимая мои колени. – Мир вполне может подождать. Я дам тебе больше, чем целая Вселенная. Ах! И это теперь, когда я собиралась стать счастливой!
Наконец, поскольку я упорно рвался уйти, она вскричала, став Афродитой оскорбленной:
– Выходит, за целую ночь царь богов меня даже не изнасиловал!
Спускаясь по облачной лестнице, я бросил ей через плечо:
– Сразу двое не могут быть первыми.
Так мы и расстались, каждый недовольный другим и самим собой.
С тех пор Афродита часто утверждала, что все зависело только от нее, и если бы она захотела... Я тоже могу притязать на это. В собрании богов мы взаимно учтивы, но сдержанны и полны недоверия.
Часто удивляются, что Афродита не была в числе моих увлечений. Некоторые даже не понимают, почему я не выбрал ее супругой и не пригласил разделить со мной престол. Говорят, что, на их взгляд, мы просто созданы друг для друга.
Ну что ж, спросите у честного и трудолюбивого Гефеста, старшего из моих сыновей, который позволил ей обольстить себя, бедняга, и женился на ней, спросите, спросите у бессчетных любовников, которые у нее были: для кого создана Афродита?
Ах нет! Поверьте мне, смертные, лучше уж уродина (такие у меня тоже были, за долгую любовную карьеру случаются и издержки), лучше уж дура, неумеха, плакса, сварливица, прилипала, кто угодно, но только не эта влюбленная в саму себя красота!
Восхищайтесь, когда она принимает человеческий облик, ее волосами, грудью или лодыжками, яркостью лица, прелестью движений, мелодичностью голоса; любуйтесь ею на сцене, где она творит чудеса, каждый день представая иной и всегда оставаясь собою.
Но если вы похожи на меня, оставьте между нею и вами невидимую дистанцию. Ведь когда сценой ей служит сама жизнь, она становится Еленой, Федрой или Пасифаей.
Она считает, что достойна быть любимой только царями, но хочет, чтобы они признавали себя ее рабами; однако если они покажут себя рабами, то как же смогут заслужить ее любовь? Верно, Менелай? Верно, Тесей? Верно, Марк Антоний? Верно, Юстиниан?
Разочарованная, она предлагает себя военачальнику, поэту, оратору, писцу, гладиатору, возничему, погонщику быков, стараясь убедить каждого, что он будет царем в ее объятиях. Она отдается даже самому быку; верно, Минос? Ни один самец не должен от нее ускользнуть.
Бедняжка Афродита, обреченная вечно сжимать в объятиях лишь собственное одиночество, в крайностях своего желания требует от любовников, которых обнимает, чтобы те признавали: они – ничто!
Есть два коротких мига, на закате и восходе дня, когда Афродита-Венера может вообразить себя единственной на небе и попытается убедить нас в этом. Но от ее одинокого блеска, поклонения которому она требует, нам никакого проку, потому что в мире либо уже, либо еще светло.
Когда в то утро я вернулся на Олимп, у меня был помятый вид и усталые глаза. Видевшая мое возвращение сестра Гера так никогда и не захотела поверить правде.
День с Герой. Судьба Греции.
Планы насчет Олимпа
Если я вам еще ничего не рассказывал о своей сестре Гере, которую вы называете также Юноной, то лишь потому, что пока о ней мало что можно было рассказать.
Вы уже знаете, что, будучи извергнутой Кроном, она сначала нашла приют у нашей бабки Геи, а потом попала к Океану и Фетиде, которые ее и воспитали.
С тех пор она ничего не совершила, по крайней мере, ничего замечательного. В собрании богов всегда помалкивала, удовлетворяясь тем, что внимательно слушала каждого. При дележе мира Гера ничего себе не потребовала, не проявила вкуса ни к какому особому делу; никому не предлагала также свою помощь в трудах, предоставив Гестии заботиться об очаге, а Деметре – упорно работать в саду. Однако впечатления ленивицы не производила и всегда вставала рано.
У Геры тяжелые, густые, пышные, спадающие волнами черные волосы, которые она тщательно расчесывает и собирает в узел; когда она их распускает и, откинув голову назад, позволяет рассыпаться до самой поясницы, получается очень красиво. Несколько раз по вечерам я видел это и был взволнован. Может, Гера делала это нарочно, лишь в те моменты, когда я мог ее застать?
Под совершенно ровными дугами бровей у Геры большие, миндалевидные, ясные глаза, цвет которых колеблется между зеленым и серым; нельзя не залюбоваться ими, когда они на вас смотрят.
Ее туника, всегда в аккуратных складках, целиком открывает великолепные руки и гармонично драпирует довольно широкие и тяжелые бедра.
Итак, в то утро, возвращаясь несолоно хлебавши от Афродиты, я обнаружил Геру на пороге Олимпа. Не меня ли она ждала? Во всяком случае, виду не подала и казалась поглощенной созерцанием мира.
Я нуждался в обществе, чтобы отвлечься.
– Идем со мной, – сказал я, – прогуляемся внизу, среди людей.
Гера не отставала от меня; это важно. Она не из тех богинь, что семенят сзади, ротозейничают, останавливаются, запыхавшись, вынуждают вас замедлять шаг или же виснут, словно упрек, на вашей руке. Мы с Герой шли вровень друг с другом, так что могли смотреть на окружающую природу и разговаривать.
Греция тогда была не совсем такой, как сегодня; некоторым потрясениям, учиненным, в частности, зловредными гигантами, предстояло изменить ее рельеф. И человек еще не был таким, каким стал после стольких драм, усилий и многочисленных даров, которыми с тех пор я и мои дети осыпали его.
Греция была в самом начале своего пути. Но уже тогда в ней было это смешение мягкости и патетики, это соседство трагических гор и спокойных равнин, наслоение бесплодных отрогов и зеленеющих долин, вечно обновляющийся узор побережья, повсеместное взаимопроникновение земли и воды, агрессивного камня и зыбкого моря, бесконечная изменчивость света и эти горизонты, которые не просто граница меж видимым и невидимым, но состоят из целой череды все более и более туманных горизонтов, подобных задним планам сознания, – в общем, все то, что делает эту страну как раз такой, чтобы человек мог познавать себя, творить себя и воодушевляться.
Греция невелика; но ваша рука тоже невелика, однако ею отмечено все: долины вашего будущего, горы ваших способностей, слияния ваших влюбленностей и перекрестья ваших опасностей; именно ваша ладонь сосредотачивает и реализует все ваши силы, и ваши крохотные пальцы ощупывают, сжимают, копают, чертят, лепят и строят все ваши творения.
Если смотреть на Грецию с высоты, откуда на нее взирают боги, то она похожа на руку. Греция – рука человечества, его деятельная кисть, где все образовалось или преобразовалось в промежутке между смутными воспоминаниями об утраченном золотом веке и надеждой на новый золотой век, над которым еще предстоит потрудиться.
Греция – страна, созданная по мере человека, точнее, она сама – мера человека. Природная угроза здесь не превосходит того, что человек может преодолеть, трагедия стихий не превосходит того, что человек может вынести, пребывая в сознании. Горы высоки, круты, тяжелы для восхождения, но преодолимы. Пустынные плато никогда не бывают настолько обширны, чтобы усталый путник не дошел до источника или тени. Привычное море, которое без яростных бурунов окаймляет сосновую рощу или просто продолжает поле, так и манит доплыть до ближайшей бухточки, мыса или виднеющегося острова с его золотистой дымкой, обещая приключение.
В других краях, более влажных или слишком угнетенных солнцем, человек словно растворяется в своем настоящем, сливается с густой массой растительности или распыляется подобно песку. На более обширных пространствах или же в суровых широтах люди могут существовать, что-то предпринимать или завоевывать, лишь собираясь сотнями или миллионами, чтобы преодолеть расстояния, крайности климата, гигантизм природы. Человек уже не человек; он сливается с человеческой массой, множеством бесчисленных шагов и переплетением поступков. В Греции же человеческий жест остается отдельным и никогда не утрачивает свою собственную значимость. Каждый виноградарь, что давит ногами черные гроздья в просмоленном чане, – это Виноградарь; каждая пряха, что крутит свое веретено на краю дороги, – это Пряха; рыдающий ребенок – Сирота; проходящий мимо с копьем на плече солдат – Воин.
Именно этот характер единичности, которым в Греции облекается человеческий поступок, предназначил ее к тому, чтобы стать землей мифов, то есть чтобы дать на все времена образцы отношений человека с себе подобными и с целой Вселенной. В том и состоит судьба Греции.
Однако никогда это не представало предо мной столь ясно, как в тот предвесенний день, когда я прогуливался с моей сестрой Герой. Конечно, надо быть вдвоем, чтобы лучше видеть и оценивать, при условии, что спутница тоже умеет смотреть и понимать и ее мысль согласуется с вашей мыслью, как ее шаг – с вашим шагом. Тогда мимолетное впечатление, будучи выраженным, приобретает плотность и длительность; тогда от наблюдения к замечанию, от замечания к ответу ткется шелковое полотно, запечатлевающее краски мира, основу которого держит один, а уток – другой.
Я был удивлен познаниями Геры и тем, как хорошо она их использует. Моя сестра была осведомлена обо всем. Я спросил, откуда она столько знает, и обнаружил, что с самого начала моего правления она методично училась, собирала сведения у Памяти и Фемиды, завоевывала доверие и дружбу моих первых любовниц, даже Метиды-Осторожности. Гера говорила об этих богинях с уважением и довольно верно их оценивала. Но к чему такие старания в знаниях, если она, по крайней мере на первый взгляд, ничего не делает?
– Чтобы подготовить себя, – сказала она с некоторой отстраненностью.
Я недоумевал: «К чему подготовить?». Эх, временами я слишком прост.
Гера сошлась также с моими дочерьми – Музами, Горами и Мойрами – и уверяла, что привязалась к ним. Определенную сдержанность она проявляла лишь в отношении могучей Афины.
Она не упускала ни одного из моих поступков со времени избрания, понимала их причины и восхищалась множеством дел, что я вел одновременно.
– О! В последнее время, – говорил я ей, – мой задор изрядно поостыл.
Но ей так не казалось. Я был даже сильнее, чем она думала, поскольку сумел скрыть упадок сил...
Гера видела, как я орудовал молниями во время битвы с титанами, восхищалась мной и, думаю, была искренна. Иначе разве потратила бы она столько усилий, чтобы мне понравиться?
Я не замедлил счесть ее самой умной и превосходной из всех богинь нового поколения. И выносливой к тому же! Ее красивая, величавая поступь ничуть не замедлялась.
Ах, какой удачный день! Я чувствовал, что вновь примирился с самим собой и Вселенной. Мне было отрадно все – от насекомого до солнца, – и все легко занимало место в гармоничной симфонии.
И какое удовольствие задумывать обширные планы, когда их так внимательно слушают, когда уместные и столь же заинтересованные вопросы воодушевляют их осуществить!
– Станет ли Олимп твоим окончательным жилищем? – поинтересовалась Гера.
– До настоящего момента я колебался, – ответил я. – Но сегодня, увидев Грецию такой, какой она предстает перед моим взором, думаю, что моей резиденцией должен остаться ее высочайший горный массив.
Гера одобрила мой выбор. Все это время Олимп мне благоприятствовал. Ей и самой он нравился. Его широкий амфитеатр, образованный вершинами, превосходно подходил для божественных собраний.
– А если, как ты говоришь, – сказала она, – твои величайшие замыслы касаются человека, то нет места лучше, чтобы наблюдать за шедевром Урана и продолжать его усовершенствование.
Правда, Олимп виделся Гере более пышно устроенным, и она предполагала, что меня там должен окружать более многочисленный, исполнительный и гораздо лучше упорядоченный двор. Похоже, она одарена и организаторскими способностями.
Вот так, сыны мои, некоторые женщины, усложняя вашу жизнь, делаются необходимы. Они ставят ваш дом на такую широкую ногу, что без них вы уже не можете обойтись.
– Мы могли бы иногда устраивать богам празднества, которые свидетельствовали бы о твоем всемогуществе и служили бы образцом для людей.
Упоенный ходьбой, я не обратил внимания на это первое «мы» – так естественно оно прозвучало. Мы с Герой, приближаясь к берегу моря, приметили пляж, где какой-то рыбак жарил на костре свой недавний улов.
Четыре основы жизни.
Счастливый рыбак
Костер, разведенный на берегу, – это четыре элемента, которые вместе занимаются любовью. Признаюсь вам, никакое другое зрелище не может быть приятнее взору богов.
Я уже говорил, что все создается из агрессивного притяжения двух конкретных сил, которые сочетаются и взаимно уничтожаются в третьей и новой реальности. Так вы решили, что Число является триадой.
Но теперь я должен вам открыть, что для сохранения и продолжения жизни нужны четыре силы, чьи взаимодополняющие противоречия без конца разрушаются и заново сочетаются.
Третий элемент триады был бы лишь отсутствием притяжения, абстракцией, застывшей в конечном одиночестве, если бы в свою очередь сам не являлся агрессором и не испытывал агрессию, не был бы пожирающим и пожираемым магнитом – силой, противоречащей себе самой.
Итак, если три – число любого творения, то четыре – число незримых основ всякой жизни.
Не забывайте этого, когда, вперяя глаза в свои увеличительные стекла, вы силитесь исследовать бесконечно малое или бесконечно большое по отношению к вам и даже проникнуть в тайну собственных генов.
Но не забывайте также, что каждый как из трех, так и из четырех элементов тройствен, то есть представлен в своей сути, своем проявлении и отсутствии. Таким образом, три – это девять, а четыре – двенадцать...
Я знаю среди вас таких, кто не схватится за голову, но немедленно почувствует оправдание своей потребности еще в одной женщине помимо жены. Им не возбраняется также понять и потребность собственных жен, заставляющую их порой загораться другой страстью в объятиях любовника...
Вот что (и еще многое другое) видят боги в пламени горящего на берегу моря простого костерка из веток виноградной лозы.
В тот день взаимопонимание между мной и Герой было столь полным, что нам было достаточно обменяться взглядами. Мы уменьшились до человеческих размеров и пошли, держась за руки, к рыбаку и его костру.
Рыбак пригласил нас сесть и угостил своей рыбой. Он сделал это с тем благородством и простотой, что встречаются лишь у тех, у кого либо нет ничего, либо есть все: у настоящих бедняков и настоящих царей.
Этот рыбак располагал, подобно монарху, сказочными сокровищами, которые не ограничивались смехотворными пределами его крошечного имущества. Он располагал песком, куда пригласил нас сесть, неисчерпаемым морем, откуда его ловкие руки вытащили рыбу, жаром угольев, принесенных в ладонях из соседского очага, ветерком, оживлявшим пламя. В этом месте и в этот краткий миг он был абсолютным владыкой четырех стихий.
Он не задал нам никаких вопросов и отнесся с бесконечным уважением. Для уроженца Греции в любом путнике может таиться бог. И грек прав; это вы, насмешники, ошибаетесь.
Никогда, ни в одном из своих похождений, которые я совершил, укрывшись плащом человеческого обличья, я не пробовал более вкусного яства, чем эта рыба, только что вытащенная из воды, приготовленная в собственном соку, посоленная морем и благоухающая травами. Мы уплетали за обе щеки, слегка обжигая себе губы и пальцы. Когда мы покончили с угощением, рыбак поблагодарил нас.
– За что ты нас благодаришь? – спросил я. – Ведь это мы обязаны тебе благодарностью.
– За то, что я мог любоваться двумя молодыми созданиями, красивыми, веселыми и любящими друг друга. И еще за то, что теперь я никогда уже не почувствую себя бедняком, ведь я – неимущий и одинокий – смог дать тем, кто так щедро одарен.
Мы с Герой переглянулись, наши руки потянулись друг к другу, пальцы сами собой переплелись – наши почерневшие от обгорелой чешуи пальцы.
Что я вам недавно говорил о числе четыре? Была прекраснорукая Гера; был я, Зевс; была любовь. Требовался еще этот рыбак, четвертый элемент, чтобы любовь стала для нас реальностью и чтобы пришли в движение силы жизни.
Вы, счастливые пары, путешествующие по Греции, никогда не забывайте, что мы, боги, не всегда выдумываем себе обличье. Часто, чтобы в нужный момент был совершен нужный поступок, мы проникаем в вас без вашего ведома. И тогда на каком-нибудь пляже, подобном сотням других, или же в разбросанной белой деревушке, или за столом, накрытом у обочины пыльной дороги самым непритязательным угощением, или просто перед кипарисами, чьи заостренные верхушки вонзаются в небосвод, вы вдруг почувствуете, что вас наполняет невыразимая, неизъяснимая радость, которая одновременно и в вас, и вокруг вас; которая и пламень, и покой. Время становится легким; все для вас наполняется счастьем, и вам хочется, чтобы это состояние длилось вечно.
Это блаженство вызвано нашим присутствием. Сами вы не можете заметить окутавшую вас ауру, но внимательные взгляды ее узнают. Так что детская, взрослая или старческая рука, протягивающая вам розу или тяжелую гроздь темно-лилового винограда, обращена к прохожим богам, богам, которыми вы в этот миг являетесь.
От вас ожидают вовсе не денег, но взгляда, который коснется крыши, щеки ребенка, свиньи, хрюкающей у своего корыта; ибо присутствие счастья – всегда благословение.
Рыбаку, который потчевал нас, я сделал величайший дар, которым смог его наделить. Это не внезапное богатство, не почести, не высокие чины, даже не имя в легенде. Чтобы обессмертить нашу встречу, я сделал его Счастливым рыбаком, который живет в гармонии со стихиями, радуется свету, песку, колыханию вечного моря, радуется тому, что отлично исполнил свой рыбацкий труд. Я одарил его тем добрым здоровьем тела и души, которое позволяет человеку, каким бы ни было его место в царстве земном, чувствовать себя царем; я хотел, чтобы ему до скончания дней доставляло радость быть – не Кем-то или Чем-то, но просто Быть, – а потом угаснуть и телом, и духом одновременно, без чрезмерного страха, как угли костра, затухающего и умирающего на песчаном берегу.
Хочу сказать, что Счастливый рыбак, конечно, не движет мир, ваш, человеческий мир; и все же он необходим для движения, поскольку он не двигатель, но равновесие. Он по-прежнему здесь, чтобы открывать любящим их любовь и показывать завоевателям другую сторону истины.
Источник под соснами. Кукушка.
Обязательство
И как раз в ту ночь я преподнес в дар Гере звезды, то есть предложил ей разделить со мной мою небесную державу.
Как такое произошло? Э! Во-первых, потому что мы полюбили друг друга и сразу же честно друг другу об этом сказали. Это главная и необходимая причина. А еще потому, что друг в друге мы взаимно поддерживали иллюзию, необходимую для важных любовных решений: будто все наши предстоящие дни будут похожими на тот, который мы только что пережили.
Остальное не более чем побочные обстоятельства.
Не верьте россказням, будто мне не удалось взять Геру силой и она уступила мне лишь в обмен на обещание сделать ее владычицей Вселенной. Те, кто сочинил подобную басню, наверняка хотели добыть оправдание для своих собственных слабостей.
В любви случается, что нам отказывают в том, чего мы просим; но нас никогда не обязывают давать то, что мы желаем подарить сами. И я не выбрал бы супругой богиню, которая предложила бы мне столь грубую сделку.
Конечно, какое-то время мы исполняли естественный балет, где обе взаимно притягивающиеся силы, прежде чем раствориться друг в друге, восхищаются друг другом, чтобы придать больше достоинства и блеска самому растворению.
Расставшись с рыбаком, мы прилегли в сосновой роще, где бил теплый ключ. Гера пожелала в нем искупаться. Не означало ли это, что она хотела очиститься перед любовью и в то же время явить себя целиком моему взору? Между водой и женским началом существует явное сообщничество, как между мужским началом и огнем.
Опустившись на колени, Гера поднесла ладони к самому истоку, позволяя текучему хрусталю воды струиться по ее лилейным рукам. Я залюбовался ее дивными формами, сулившими и наслаждение, и крепких детей. И вдруг мне захотелось понаблюдать за ней тайно, чтобы она этого не знала. Я исчез.
Сначала Гера искала меня глазами. Потом, дрожа, отошла от источника, и ее обеспокоенный взгляд обратился к небу. То был час, когда свет уже начинал угасать; колесо солнечной колесницы опускалось за горизонт, на небесах только что появилась Афродита, украшенная холодными каменьями, которые я подарил ей предыдущей ночью.
Афродита! Вот оно, обстоятельство. Если бы не Гера, я, быть может, опять отправился бы к вздорной богине ради еще одной изнурительной бессонной ночи. Но если бы не Афродита, смог бы я воздать должное надежным достоинствам Геры?