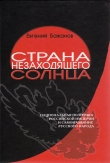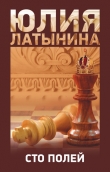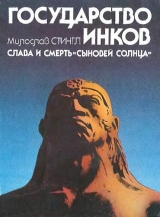
Текст книги "Государство инков. Слава и смерть сыновей солнца"
Автор книги: Милослав Стингл
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 29 страниц)
XXXIII. Самая выгодная в истории сделка

Хотя Писарро и его приспешники и не получили большей части перуанского золота, которое, к счастью, ускользнуло от алчных испанцев, тем не менее им все же удалось «поживиться» в стране инков. И хотя испанцы отказались заключить «золотое соглашение» с Манко II, они пошли на примерно столь же выгодную сделку со своим узником Атауальпой.
Томящийся в заключении Инка, конечно же, мечтал о том, чтобы обрести утраченную свободу. А поскольку Атауальпа подметил у своих тюремщиков неутолимую, сжигающую их жажду золота, он предложил Писарро в качестве компенсации за свое освобождение заполнить золотом помещение камеры, в которую его заключили, на высоту 10,5 испанской стопы (то есть на высоту 294 сантиметра). Сверх того он обещал заплатить за свою свободу двойное количество серебра. Одновременно Атауальпа дал слово, что указанное количество драгоценных металлов – для белых оно было совершенно невообразимым – будет доставлено в Кахамарку в течение 60 дней со времени заключения соглашения.
Писарро принял фантастическое предложение своего узника. Он обещал отпустить Атауальпу на свободу сразу же, как только выкуп в виде золота и серебра будет доставлен в Кахамарку. Инка тотчас же разослал быстроногих гонцов по всей своей бывшей империи, отдав им соответствующие распоряжения. И сразу же в Кахамарку устремилась настоящая золотая река: из ближних и дальних мест ежедневно караваны лам доставляли все новое и новое золото. Заметим, кстати, что помещение, которое следовало заполнить золотом за плененного Инку, не было маленьким. По утверждению секретаря Писарро, площадь этой комнаты составляла 17 х 20 стоп, или же 30 квадратных метров.
Стоимость золота, ежедневно доставляемого в Кахамарку, в среднем составляла 50 тысяч песо. В еще большем количестве привозили серебро. Рабочие-индейцы переплавляли для новых господ и то и другое в нескольких небольших печах. Так в перуанской Кахамарке превратились в обыкновенный металл сказочно прекрасные золотые чудеса инков. Упоминавшийся выше личный секретарь Писарро – Херес – описывает некоторые из чудес с педантичностью хорошего бухгалтера. Так, например, он упоминает о гигантском золотом фонтане из дворца владыки. Регистрирует он и другой такой фонтан, украшенный фигурами людей и птиц. В его перечне приводятся многочисленные статуи лам в натуральную величину, серебряные сосуды в виде кондоров и орлов, золотые барабаны и даже обычные сосуды для кукурузы, сделанные из столь необычного для испанцев металла, то есть из золота.
Итог этой столь выгодной для шантажиста Писарро сделки был «совсем пустячный»: более 5 тысяч килограммов золота и – самое малое – 10 тысяч килограммов серебра! Впрочем, и тут педантичный Херес приводит скрупулезно точные цифры: выкуп за Атауальпу составил 1 326 539 песо золота (что примерно равняется 5,5 тонны металла) и 51 610 марок серебра (иными словами, примерно 12 тоны).
Мало того, испанцы разграбили в Кахамарке здешние склады. В этом же городе они разграбили также дворцы и храмы. В Кахамарке они занялись дележом добычи, которую им послали их «дипломатические представители», то есть те трое белых, которых Писарро отправил в Куско для первоначального ограбления. И наконец, здесь же в Кахамарке они разделили еще одну ценную добычу: трофеи, захваченные братом Писарро, Эрнандо, в национальном храме оракула Перу – в знаменитом Пачакамаке, находившемся на побережье страны.
Огромная добыча, полученная экспедицией Писарро, во всяком случае основная ее часть, то есть выкуп, уплаченный гражданами империи за освобождение Атауальпы, конечно, не делилась поровну среди всех ее участников. Не утруждая себя излишней скромностью, – Франсиско Писарро взял себе несравнимо большую часть этой добычи. Напротив, его основной компаньон, Альмагро, а также члены его дружины при дележе барыша, полученного в результате кахамаркского шантажа, практически остались с носом.
Хотя, в общем-то, каждому перепал «лакомый кусочек», и всадники, и простые пехотинцы возвращались из Перу, вернее говоря, могли вернуться в Испанию настоящими богачами. Впрочем, многие из этих авантюристов довольно быстро проиграли в карты свое столь легко добытое состояние. Некоторые из них поставили на карту и свою собственную жизнь, потому что, добравшись после Кахамарки до остальных доступных им областей империи инков, все эти люди – Писарро, Альмагро и их сторонники, а позднее и все прочие – перегрызли друг другу глотки. При этом они убивали друг друга с такой же каннибальской жестокостью, с какой еще недавно уничтожали солдат и граждан империи инков.
Собственно говоря, ни один из тех, кто возглавлял когорты могильщиков крупнейшей индейской империи Америки, не умер естественной смертью. Первым погиб в бою с индейцами Хуан Писарро. Затем другой Писарро, Эрнандо – самый вероломный член семейки агрессивных братцев, – убил Диего де Альмагро, одного из трех основателей сообщества по завоеванию империи инков.
Впрочем, Альмагро был убит дважды. Вначале братья Писарро его задушили, а потом труп торжественно и, главное, публично обезглавили. Зачинщик этого убийства – Эрнандо Писарро, – как это ни странно, вернувшись в Испанию, попал в тюрьму и просидел там 20 лет. Главного же героя всего этого мероприятия – Франсиско Писарро – убил сын умерщвленного Альмагро. Вместе с ним был убит и еще один брат Писарро – Мартин. Убийца убийцы своего отца, молодой Альмагро, впоследствии также был убит по приказу нового губернатора Перуанского вице-королевства.
Последний из оставшихся в живых братьев Писарро – Гонсало – позднее вместе со своим сообщником – 90-летним Карвахалем – был казнен за попытку (правда, почти удавшуюся) отделить Перу от Испании и установить собственную власть над Южной Америкой и индейцами.
Далее был убит и тот самый доминиканский монах Вальверде, сыгравший столь важную роль в событиях, разыгравшихся в Кахамарке. Собственно говоря, именно он подал сигнал к вероломному нападению на Инку и его людей. Именно Вальверде сопровождал Атауальпу, когда тот всходил на костер мученика. Насильственная смерть настигла монаха на эквадорском острове Пуна, где он пал жертвой местных людоедов!
Невероятная цепь смертей! Дьявольский жернов, который в конце концов смолол всех, кто некогда с таким рвением приводил его в движение. Таким образом, возмездие постигло действующих лиц той, другой стороны истории завоевания Тауантинсуйу. Впрочем, они нас мало интересуют. В нашем рассказе внимание обращено прежде всего на культуру и историю инков. В книге речь идет не о тех, кто грабил, а о тех, кто был жертвой беспощадного грабежа. Итак, в центре нашего внимания находятся инки – народ «золотой страны», безотносительно к тому, был ли это простой народ или же его владыки.
Да, в том числе и владыки. Что же все-таки случилось с последним властелином Тауантинсуйу, с Атауальпой, пытавшимся купить себе у Писарро свободу и жизнь за такую головокружительно высокую цену? Что же могло с ним случиться! Вместо свободы он получил от своего тюремщика, от шантажиста лишь одно – смерть!
Писарро, который так «честно», так «клятвенно» заверял Инку, давая ему несколько месяцев тому назад слово, сразу же после получения выкупа учредил трибунал. Этот трибунал осудил владыку Тауантинсуйу «за совершение самых различных преступлений», в том числе за то, что «он неправильно расходовал деньги своей империи» и был «многоженцем».
Трибунал победителей вынес Инке свой приговор. Люди, у которых Атауальпа пытался за золото купить свободу и жизнь, вынесли ему смертный приговор! Приговор подписал и отец Вальверде, который принимал активное участие в пленении Инки. Вместе с этим фанатичным «врагом язычников» приговор подписал и совсем недавно еще полностью неграмотный главарь завоевателей Перу – Франсиско Писарро.
Вскоре после того, как Инка вручил Писарро все обещанное золото и серебро, а это произошло спустя семь месяцев после его пленения, Атауальпа возвратился на ту самую, столь роковую для него площадь Кахамарки. Девятнадцатого августа 1533 года его в цепях вывели на середину площади. Здесь ему вновь прочитали приговор: Атауальпа приговаривался к смертной казни через сожжение за совершенные им преступления, за идолопоклонство и многоженство.
Посредине треугольной площади в Кахамарке жертву ожидал высокий костер. В это самое мгновение к осужденному приблизился все тот же монах Вальверде, который па этот раз предложил «сыну Солнца» новый торг по-христиански. Условия новой сделки были просты и понятны: если Инка примет крещение, его не сожгут, а «всего-навсего» только задушат.
Атауальпа принимает условие Вальверде. А поскольку по католическому календарю это был день святого Яна, он получает имя Хуан. Так под именем Хуана де Атауальпы он – теперь уже христианин – и подставил свою шею заждавшемуся палачу. Его действительно задушили. После казни Вальверде самым достойным образом совершил над мертвым телом Инки предписанное заупокойное богослужение.
Так 19 августа 1533 года в Кахамарке умирает последний представитель «сыновей Солнца» – тринадцатый Инка, Атауальпа. Колокола на высокой башне только что построенного в этом городе католического собора скорбно звонили по покойнику. По ком же звонил колокол? По одному индейцу по имени Хуан де Атауальпа или же по одной великой культуре? Колокол звонил по крупнейшей индейской империи древней Америки. Империи под названием Тауантинсуйу. [11]11
О последующей судьбе индейских жителей теперь уже разоренной Писарро империи инков, о судьбе послеколумбовых Инков – Манко II, Сайри Тупаке, Тито Куси, Тупаке Амару, а также об их столицах – Вилькабамбе, Виткосе, Пайтити и других, о новоинкском государстве, а также обо всем том, что пережили и переживают индейцы Перу начиная с XVI столетия и по настоящее время, автор намерен рассказать в третьей самостоятельной книге трилогии о «сыновьям Солнца», их предках и потомках. – Прим. авт.
[Закрыть]
Эпилог:
Смерть «Золотой империи»
В трагический день 19 августа 1533 года колокол только что построенного католического собора Кахамарки звонил за упокой империи инков и ее последнего владыки. О том, что произошло после этого печального вечера на площади Кахамарки, будет рассказано особо, в нашей следующей книге.
Сейчас же, в заключение повествования об инках и их огромном государстве, уместно коротко упомянуть о том, что после событий в Кахамарке в Перу по-прежнему (притом на очень обширной и труднодоступной его территории) правили другие «сыновья Солнца». Их резиденцией были те самые, до сих пор не обнаруженные города Вилькабамба, Виткос, а возможно, и Пайтити. К числу этих правителей относились Манко II, Сайри Тупак, Тито Куси и, наконец, Тупак Амару I, которых часто называют «послеписарровские» или же «новые» Инки. Тупак Амару I был взят в плен и обезглавлен в 1572 году. С его смертью окончательно завершилась династия южноамериканских Инков.
Все «послеписарровские Инки» умерли не своей смертью. Первый из них Манко II – был убит его же собственными испанскими гостями – членами дружины Альмагро, убитого потом сторонниками Писарро. Манко II великодушно предоставил убежище гостям в своей высокогорной столице. Второй и третий из «новых Инков» – Сайри Тупак и Тито Куси – были отравлены. Последний из Инков – Тупак Амару – был казнен испанцами.
Точно так же, как и «послеписарровские Инки», вымер и простой народ уничтоженной империи. Смерть посещала индейцев Перу в самом разном обличье. Зачастую народ этой страны просто-напросто умирал от голода. Уделом же других было до конца дней своих надрываться в серебряных рудниках новых владык Анд. Для этих принудительных работ испанцы использовали учрежденный Инками институт миты. Иные же стали полностью бесправными сельскохозяйственными рабочими в огромных латифундиях осевших в Перу европейцев, получавших эти земельные наделы на основе так называемой «энкомьенды». Все это повлекло за собой резкое снижение численности индейского населения Перу. За какие-то 30 лет колониального господства, то есть всего лишь за период жизни одного поколения, численность коренных жителей страны снизилась на целых 50 процентов. В полные трагизма первые годы колонизации погибал каждый второй индеец. Европейцы «наградили» индейцев и некоторыми своими заразными болезнями. Достаточно напомнить о многочисленных эпидемиях черной оспы.
Колониальные владыки лишали народ Перу не только здоровья и жизни. Планомерно и методично они уничтожали его культуру, а самое главное – его исконную «солнечную религию», которая была заменена христианством. Таким образом, конкисту военную сменила «конкиста духовная».
Итак, итогом всех несчастий, обрушившихся, как неотвратимая, страшная лавина, на индейцев Перу в эпоху колонизации, было в первую очередь резкое снижение их численности. Индейцев в стране становилось все меньше и меньше. Однако обуревавшая их жажда свободы отнюдь не иссякала. В их сердцах и мыслях свобода чем дальше, тем больше не вполне правомерно отождествлялась с образом разгромленной империи «сыновей Солнца», с личностью самодержавного владыки этого государства – Сапа Инка.
С именем Инки на устах, с образом погибшей перуанской империи в сердце индейцы Анд неоднократно поднимались на восстания, подавлявшиеся колониальными владыками. Впрочем, многие из этих восстаний сыграли очень важную роль в истории Латиноамериканского континента. Одно из таких восстаний, разгоревшееся спустя 250 лет после событий в Кахамарке, явилось крупнейшим боевым выступлением индейцев в истории трех Америк послеколумбова периода. Эту самую большую из всех революционных войн индейцев Перу и индейцев всех Америк возглавил величайший герой, который когда-либо был известен в истории Анд. В жилах этого человека текла кровь владык уничтоженной «империи Солнца». Сознательно опираясь на традиции Инков, он принял и имя последнего из «послеписарровских владык» – Тупака Амару.
После поражения этой великой не только национальной, расовой, но, главное, и социальной революции Тупак Амару, назовем его «вторым», был казнен колонизаторами, однако несколько лет спустя в Южной Америке вспыхнуло новое антииспанское выступление. На этот раз это была освободительная война здешних белых, то есть креолов, против своих европейских владык. И хотя в этой борьбе индейцы Перу и других стран, входивших в состав Тауантинсуйу, Принимали лишь незначительное участие, тем не менее вожди освободительного движения вновь выступили с именем Инков на устах. На памятном конгрессе, состоявшемся в Тукамане, представитель восставших генерал Бельграно предложил, чтобы государство инков было вновь восстановлено и чтобы на трон Южной Америки, свободной от испанских колонизаторов, вновь взошли Инки.
Впрочем, несмотря на победу креольской революции и образование латиноамериканских республик, в положении индейцев Анд в действительности мало что изменилось. Еще и сегодня коренные жители этой части Нового Света надрываются ничуть не меньше, чем в худшие времена испанских колониальных правителей. По-прежнему им нередко приходится гнуть спину, работая у помещиков как полукрепостные «понгос», то есть бесправные сельскохозяйственные рабочие, сгибающиеся под тяжестью множества обязанностей. Еще и сейчас в некоторых областях Перу на полях латифундистов работают в качестве так называемых «кильячакареро» индейские дети, работают вообще без какого бы то ни было вознаграждения. Еще и по сей день в некоторых рудниках Анд за ничтожную плату надрываются индейские рабочие.
Впрочем, кое-что все-таки изменилось и в Андах. Во всех трех южноамериканских республиках, некогда составлявших ядро территории империи инков, были приняты и в известной мере на практике применяются законы в защиту индейцев.
Благодаря этим законам было окончательно покончено со многими наиболее отвратительными пережитками, оставшимися со времен феодализма.
В Перу, Боливии и Эквадоре сократился рост смертности индейского населения, столь характерной для эпохи колониализма. Теперь так называемая демографическая кривая повернула вверх. Во всех трех странах, ранее входивших в состав Тауантинсуйу, за последние сто лет численность индейцев резко возросла.
И на самом деле, в настоящее время эти республики Южной Америки, населяемые преимущественно индейцами, имеют один из самых больших приростов населения во всем мире. Не увеличивается, однако, лишь величина земельных наделов, принадлежащих индейским крестьянам. Они по-прежнему живут в традиционных общинах («комунидадес»), являющихся подобием айлью инков. За ростом индейского населения не поспевает и увеличение количества рабочих мест в промышленности этих стран. А поскольку социальные проблемы индейцев Анд все еще полностью не решены, то для многих из них и теперь – спустя более 500 лет после крушения империи – Тауантинсуйу ассоциируется с государством социальной справедливости, со страной благоденствия, довольства и мира.
Слово «Инка» для многих жителей Перу, Боливии или Эквадора и по сей день является синонимом блага и справедливости. Вот почему, когда несколько лет тому назад в Перу военные приступили к осуществлению своих крупных социальных реформ, они назвали лежащий в их основе план «Инка». Язык инков-кечуа – был провозглашен вторым официальным государственным языком этой республики. Когда в соседней республике Эквадор несколько лет тому назад пришел к власти новый президент, то свое первое выступление он произнес уже на языке кечуа. Эти примеры, относящиеся к нашему времени, являются свидетельством того, что и здесь, в Андах, на территории бывшей империи инков, все-таки происходят кое-какие изменения. Они являются предвестниками того, что в грядущих переменах, которые последуют, несомненно, очень важную, первостепенную роль, будут играть местные индейцы – внуки и правнуки жителей Тауантинсуйу.
Вполне естественно, что здесь по-прежнему будут вспоминать инков. И конечно же, в первую очередь Тупака Амару II, «сына Солнца», в жилах которого текла кровь Инков, но который тем не менее имел иную мораль и иные принципы. Именно он в конце XVIII столетия благодаря своей великой революции впервые предпринял попытку отвоевать для индейцев Анд подлинно человеческие условия жизни.
Да, 19 августа 1533 года в Кахамарке соборный колокол звонил за упокой одной индейской империи, одного индейского владыки. Эхо этого перуанского колокола и сегодня все еще звучит в Андах. Этот колокол будет звучать, и звуки его будут нестись через высокие прекрасные горы, через годы и столетия до тех пор, пока коренной народ этих стран – индейцы бывшего Тауантинсуйу – не добьется справедливой жизни.
Послесловие
Новую книгу хорошо известного советским читателям чешского писателя Милослава Стингла можно было бы назвать вершиной его творчества. В ней четко выразились те идеи и установки автора, благодаря которым он снискал всемирную популярность. Правда, в СССР трудно представить книгу об инках, залежавшуюся на прилавках. Уж слишком интригующа сама тема и слишком мало работ по ней доступно нашему читателю. Однако за рубежом, где об инках написаны сотни монографий и статей – от строго академических до откровенно ненаучных – Стингла тоже переводят. Это значит, что в его книгах есть оригинальность и привлекательность. В чем они состоят?
В последние десятилетия многие историки и этнографы старались показать в своих работах, что жизнь людей в прошлом, тем более на других континентах, существенно отличалась от привычной для нас. При этом главные различия состояли не в том, что люди носили другую одежду (а некоторые не носили ее вовсе), пользовались другими орудиями или строили не похожие на наши жилища. Гораздо существеннее, что у них были иные духовные ценности, идеалы, представления о мире, своеобразные формы общественных отношений. Искать поэтому точных аналогий между явлениями современного мира и прошлого не приходится. Любые параллели окажутся в лучшем случае приближенными, в худшем – глубоко неверными.
Широкому читателю разобраться в подобных тонкостях бывает часто нелегко. От популярной по жанру книги он ожидает прежде всего простоты и занимательности. Новая информация, как известно, выглядит интересной и усваивается лишь тогда, когда ее не слишком мало, но и не слишком много. В первом случае текст покажется скучным, во втором – непонятным и тяжелым. М. Стингл тонко чувствует потребности своих читателей. Придерживаясь основной исторической канвы, черпая «сырые» факты из обширной научной литературы, он тем не менее умеет так подать материал, что читатель, с одной стороны, не почувствует себя некомпетентным, а с другой – останется в убеждении, что существенно расширил свой исторический кругозор.
Прочитавшие книгу «Государство инков. Слава и смерть «сыновей Солнца» могли в полной мере насладиться южноамериканской экзотикой и в то же время избежали встречи с чем-то чужим, непонятным, о чем сами ученые не имеют устоявшегося мнения. Правда, специалист с трудом заставит себя поверить, что речь здесь действительно идет о существовавшем доподлинно индейском обществе, а не о фантастическом государстве в духе Вольтера, Свифта или Гофмана.
Автор сделал все, чтобы надеть на своих героев знакомую читателю маску, сделанную по европейскому образцу. Очень характерно в этом смысле употребление таких слов, как «академия наук», «университет», «епископы», «теологический собор», «агрессор», и многих других, сравнение Мама Окльо (о которой как о живом человеке практически ничего не известно) с Лукрецией Борджиа и т. п. Такого рода уподобления туземных реалий европейским – результат не плохой осведомленности, небрежности или своего рода журналистского лихачества М. Стингла, это его сознательная позиция. Взять, к примеру, «звон инкских мечей», который раздавался в разных уголках Анд (см. часть Вторую, главу XIII). Разумеется, никаких мечей у инков не было, и автор прекрасно знает, что воины Тупака Юпанки (в отличие от воинов Александра Великого) дрались палицами. Однако этого не знает массовый читатель, для которого «меч» есть чуть ли не символ любого доиндустриального, но уже не первобытного общества. Объяснить же, почему у южноамериканских индейцев не было мечей, в двух словах невозможно – в этом элементарном факте отразилась вся глубина различий между Старым и Новым Светом.
Многие авторы публикуют в своих книгах об инках замечательные иллюстрации, позаимствованные из хроники Гуамана Помы де Аяла, созданной в начале XVII века. Так же поступил и М. Стингл, но у него эти выразительные рисунки приобрели совсем особый смысл. Наверное, впервые в перуанистике использованы не их достоинства, а их недостатки.
В жилах Гуамана Помы текла индейская кровь, его хроника – один из наиболее достоверных источников по культуре инков, но вот рисовать ее автор научился, глядя на европейские образцы. Царственные особы на рисунках Гуамана Помы носят инкскую одежду, но снабжены порой чисто европейскими атрибутами, такими, как гербы или длинные алебарды. Весьма приближенно передан расовый тип индейцев. Кроме того, в облике и позах изображенных людей есть нечто глубоко чуждое традициям искусства народов Анд. Лица переданы не в фас или профиль, а в пол-оборота; пропорции тел близки к естественным, тогда как индейцы рисовали фигуры коренастыми, с большой головой. Наивной с точки зрения современной науки кажется, конечно, и попытка Гуамана Помы изобразить инкских правителей, внешность которых никто, естественно, не помнил и большинство которых никогда не совершали приписываемых им поступков и не были правителями в том смысле, как это понимали испанцы.
Однако для М. Стингла рисунки Гуамана Помы оказались удачнейшей находкой. В глазах неискушенного читателя они словно свидетельствуют об истинности создаваемого на страницах образа инкского государства – вымышленной полуевропейской монархии, короли и подданные которой нарядились в экзотические костюмы.
Будет, вероятно, излишней мелочностью отмечать в книге М. Стингла разного рода конкретные погрешности против исторической истины. Тот, кто захочет узнать о культуре индейцев больше, а главное, точнее, обратится к другим источникам (см. список литературы). Лишь об одном на редкость живучем современном мифе, который повторяет и М. Стингл, хотелось бы сказать особо. Речь идет о так называемом путешествии Тупака Юпанки на плотах по Тихому океану.
Автору «Государства инков», по-видимому, и самому кажется излишне смелым предположение о плавании перуанцев к островам Меланезии, но уж на Галапагосах-то Инка бывал: ведь там найдена древняя керамика! Дело, однако, в том, что подобной керамики на Галапагосах никто не находил. В свое время о ее существовании заявил известный норвежский путешественник Тур Хейердал, посетивший архипелаг в 1953 году, но ученые немедленно подвергли сомнению это сообщение. В 1960-х годах были собраны убедительные доказательства того, что соответствующие черепки относятся к периоду, когда острова стали посещать европейцы. С точки зрения американистов, проблема была закрыта, однако широкая публика не всегда прислушивается к опровержениям сенсаций и фальшивок. Массовый читатель так и пребывает в убеждении, что перуанские индейцы плавали по Тихому океану.
Все это не значит, что история плавания Тупака Юпанки полностью вымышлена. Наиболее вероятно, как писал советский ученый Ю. В. Кнорозов в комментарии к русскому изданию хроники Гарсиласо де ла Веги, что речь идет о каботажном плавании к берегам Колумбии или Панамы. Жителям побережья Эквадора этот путь был знаком с древности. Что же касается плаваний южноамериканских индейцев в открытый океан, то никакими доказательствами этого на сегодняшний день наука не располагает.
Как бы там ни было, путешествие Тупака Юпанки не главный эпизод в инкской истории. Оставя на совести чешского автора Лукрецию Борджиа и Александра Великого, посмотрим, каковы действительно важнейшие ее этапы.
Как теперь уже хорошо знает читатель, столицей инкского государства был город Куско, расположенный на юго-востоке горного Перу, в верховьях реки Урубамбы. До возвышения инков эта долина в андской истории играла скромную роль. Люди, умевшие делать керамику, появились здесь лишь в конце II тысячелетия до н. э. Это были создатели культуры Маркавалье, пришедшие сюда из района к северу от озера Титикака и занимавшиеся скотоводством, охотой и земледелием. Они сеяли фасоль, наверное, кукурузу, но доказательств, что им был известен картофель, пока нет. Аналогии культуре маркавалье встречаются в различных памятниках южного и центрального Перу – в горах, на побережье и даже к востоку от Анд. Возможно, что весь этот огромный район в конце II – начале I тысячелетия до н. э. занимали родственные племена.
Маркавалье просуществовала пятьсот лет, не меняя своего чисто сельского облика. На севере Перу в то время уже были крупные поселения, монументальные храмы и развитые оросительные системы. Около 600 года до н. э. на смену маркавалье приходит культура Чанапата. О ней известно пока очень мало, а памятников, датируемых несколькими веками до и после нашей эры, в долине Куско пока вовсе не найдено. Похоже, что этот район остается в тени двух формирующихся горных центров древнеперуанской цивилизации, один из которых находился в бассейне озера Титикака (Пукара, Тиауканако), а другой близ города Аякучо (Уари).
В середине I тысячелетия н. э. окрестности Куско вошли в состав государства с центром в Уари. Люди Уари возвели здесь один из своих главных провинциальных центров – Пикильякту. В нем насчитывалось более 700 каменных построек. Городское ядро составляли 508 стандартных помещений, которые до недавних пор единодушно признавались складами. Инки в подобных складах («колька») хранили сельскохозяйственную и ремесленную продукцию, собранную с подчиненного населения. Проведенные в 1982 году раскопки показали, однако, что по крайней мере часть колька были жилыми помещениями. Быть может, здесь размещался военный гарнизон или мобилизованные на работы окрестные крестьяне.
Примерно в VIII веке н. э. Пикильякта была оставлена вместе со всеми прочими центрами культуры Уарч. Тогда же, или несколькими веками позднее, погибла цивилизация Тиауканако, почти тысячу лет процветавшая на северо-западе Боливии и в сопредельных районах Перу. Драматические события, происходившие в это время в Андах, имели уже прямое отношение к сложению ранней инкской культуры.
Некоторые зарубежные исследователи полагают, что Тауантинсуйу унаследовало формы политико-экономической организации прямо от государства Уари. Это несколько сомнительно, ибо обе цивилизации все же разделены тремя-четырьмя «темными» веками, когда в горных районах южного и центрального Перу всякая городская жизнь временно угасла. Нельзя считать доказанным и часто встречающееся утверждение, будто древние обитатели Уари говорили на том языке кечуа, от которого произошли его современные диалекты, в том числе кусканский. Далеко не ясно, совпадает ли время расселения носителей кечуанских диалектов с периодом экспансии культуры Уари (VI–VII века н. э.) или же, наоборот, следует за ее гибелью (VII–VIII века н. э.). Есть аргументы в пользу того, что язык кечуа вообще проник в Перу с востока, из области тропических лесов.
Существует, пожалуй, лишь одно документально подтвержденное соответствие между культурами Уари и инкской: употребление кипу. Связки разноцветных шнурков были недавно найдены в могилах уари на южном и центральном побережье. Однако и это соответствие не полное. Кипу ведь называют «узелковым письмом», а во г узелков-то на предметах уари как раз и нет. Вся информация на них закодирована только цветом нитей. Кроме того, идея использования шнурков для передачи сообщений могла быть в древности распространена очень широко у самых разных племен. Ведь и знаменитый вампум североамериканских индейцев очень близок по своему характеру к кипу.
Как бы то ни было, предметом обсуждения могут быть лишь связи уари с коренным населением долины Куско, но те «царские» инки, которые возводили свой род к Манко Капаку, отношения к древней цивилизации, уж во всяком случае, не имели. Скорее их предки могли быть близки к племенам, ее разрушившим.
Читатель помнит, что Манко Капак, согласно инкским легендам, вместе со своей сестрой-женой явился в долину Куско, где ему подчинилось местное население. Считается вероятным, что тот вариант легенды, по которому происхождение инков связано с древним городом Тиауанако, сравнительно поздний. Его сочинили жрецы уже после того, как инки захватили бассейн озера Титикака и познакомились с величественными руинами. Легенда о выходе восьми братьев и сестер из пещеры Пакари-Тампу более правдоподобна, но не в том смысле, что Манко Капак и его родственники когда-либо существовали как исторические личности. Зато эта легенда может верно указывать примерный район первоначального обитания «царских» инков и маршрут их движения.
До переселения в долину Куско инки, видимо, обладали сравнительно малоразвитой культурой и занимались охотой, собирательством, примитивным земледелием и скотоводством. На каком языке говорили они? Это мог быть своеобразный диалект кечуа, отличный от диалекта коренного населения долины, либо язык, родственный аймара. Верования ранних инков, прежде всего почитание бога грома Ильяпы, близки верованиям скотоводческих племен, которые в конце I – начале II тысячелетия н. э. стали расселяться в южном и центральном Перу и теснить более древних обитателей. Родство по крайней мере некоторых из этих племен с аймара доказано, так как их потомки неподалеку от Лимы до сих пор сохраняют свой древний язык.