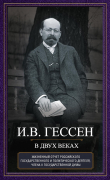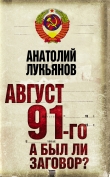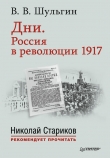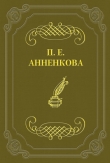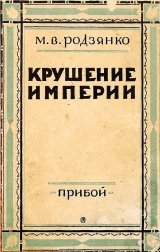
Текст книги "Крушение империи"
Автор книги: Михаил Родзянко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Одновременно я поехал к императрице Марии Феодоровне на Елагин остров и рассказал ей, как обстоит дело. Она пришла в ужас.
– Скажите мне, что же нужно сделать? – спросила императрица.
Я посоветовал послать телеграмму Николаю Николаевичу с просьбой заставить начальника военно-санитарной части Евдокимова упорядочить дело и приказать ему допускать к делу организации Красного Креста, которые он систематически отстранял от работы на фронте. Императрица тотчас попросила от ее имени написать телеграмму. В результате предпринятых шагов была получена от в.к. Николая Николаевича телеграмма, а затем письмо, в котором он извещал, что вполне согласен с председателем Думы и что примет меры. Вскоре после этого Евдокимов был вызван в Ставку, а затем верховным начальником санитарно-эвакуационной части был назначен принц Александр Петрович Ольденбургский[98]98
Принц Ольденбургский, А. П. (р. в 1844 г.). – В 1870 г. назначен командиром Преображенского полка. Участник русско-турецкой войны (1877–78 гг.); командовал гвард. корпусом (1886–1889 гг.). Член Гос. Совета в звании сенатора (с 1896 г.). Попечит. ими. института экспериментальной медицины, им основанного. Председатель противочумной комиссии (с 1897 г.). В империалистической войне – верховный начальник санитарной и эвакуационной части (1914–16 гг.).
[Закрыть] с диктаторскими правами.
В. к. Николай Николаевич писал мне, что на удалении Евдокимова он давно настаивал, но его не удалили, потому что он пользовался расположением Сухомлинова и императрицы Александры Федоровны, которые убедили государя оставить его на месте. Говорили, что императрица Александра Федоровна настаивала на этом только потому, что желала сделать наперекор императрице Марии Федоровне.
Когда после открытия военных действий выяснилось, что молодая императрица не у дел, был созван верховный совет исключительно в тех видах, чтобы Александре Федоровне дать видное положение в общих работах для войны. Состав совета получился чрезвычайно громоздкий. Председателем была императрица, но председательствующий в заседаниях был председатель Совета министров И. Л. Горемыкин, и поэтому в ведении дела получалась ни с чем несообразная двойственность. Горемыкин старался угадать желание императрицы, а императрица в сущности не знала, что ей надо делать. Главный источник деятельности совета – денежные средства – как бы висел в воздухе, потому что законных ассигновок не имелось, и средства должны были назначаться из военного фонда, который, в свою очередь, находился в распоряжении Совета министров.
Участники совета с первых же заседаний поняли, что обсуждение вопросов будет носить чисто платонический характер и разрешение их будет зависеть, в конце концов, от каких-то других учреждений при полной неясности и неизвестности, как к этим вопросам учреждения будут относиться. Поэтому заседания носили чисто формальный характер, всех тяготили, а присутствие императрицы производило леденящее впечатление.
Вскоре после моего приезда в Варшаву в ноябре 1914 года приехал ко мне уполномоченный земского союза Вырубов и предложил посетить Варшаво-Венский вокзал, где находилось около восемнадцати тысяч раненых в боях под Лодзью и Березинами[99]99
Бои под Лодзью и Березинами – происходили с 12–13 ноября до 5 декабря 1914 г. и закончились взятием Лодзи немцами. при этом выявилась полная несостоятельность русского командования; армия немецкого ген. Макензена, несколько раз окруженная превосходными силами русских войск, не только ушла из кольца, но и увела 75 000 пленных, очень много орудий и пулеметов.
[Закрыть]. На вокзале мы застали потрясающую картину; на перронах в грязи, слякоти и холоде под дождем, лежало на полу, даже без соломы, невероятное количество раненых, которые оглашали воздух раздирающими душу стонами и жалобно просили: «Ради бога, прикажите перевязать нас, мы пятый день не перевязаны». Надобно при этом сказать, что после кровопролитных боев эти раненые были привезены в полном беспорядке в товарных вагонах и брошены на Варшавско-Венском вокзале без помощи. Единственные медицинские силы, которые обслуживали этих несчастных, были варшавские врачи, подкрепленные добровольными сестрами милосердия. Это был отряд польского общества в составе около пятнадцати человек. Нельзя не отозваться с восторгом о самоотверженной деятельности этих истинных друзей человека. Я не помню их фамилий, но от души желал бы, чтобы моя сердечная благодарность русского человека достигла до них, как доказательство сердечного к ним уважения и восхищения. В момент моего приезда на вокзал эти почтенные люди работали третьи сутки подряд без перерыва и отдыха. Глубоко возмущенный таким положением раненых воинов, я немедленно вызвал по телефону начальника санитарной части Данилова и уполномоченного по Красному кресту генерала Волкова. Когда эти лица явились, то мы с ними и Вырубовым стали обсуждать, как выйти из такого трагического и ужасного положения. Генерал Данилов, как и генерал Волков заявили категорически, что у них никаких медицинских сил нет, а между тем при посещении мною одного лазарета Кр. Креста я видел совершенно свободных от дела шесть врачей и около тридцати сестер милосердия. На мое указание, что они должны быть немедленно обращены в дело, генерал Данилов категорически заявил, что он этого сделать не может, так как этот персонал предназначен для обслуживания формирующихся санитарных поездов. И это говорилось, когда на перроне лежало около восемнадцати тысяч страдальцев. Я потребовал от генерала Данилова, чтобы он немедленно озаботился формированием поездов-теплушек для эвакуации раненых с вокзала. Данилов заявил, что он сделать этого не может, так как по распоряжению верховного начальника санитарной части раненые должны следовать внутрь страны не иначе, как в санитарных поездах, которых у него имеется около восьми. Возмущенный таким бездушным отношением к участи измученных людей, я пригрозил, что буду телеграфировать принцу Ольденбургскому о творящемся безобразии и буду требовать, чтобы начальствующие лица были преданы суду и отрешены от должности за преступное бездействие. Страх перед принцем был так велик, что угроза моя подействовала, и они энергично принялись за дело. Нашлись свободные врачи и сестры, и в течение 2–3 дней все раненые были перевязаны и вывезены в тыл.
Вот какие порядки царили в военно-санитарном ведомстве во время боевых действий.
В Варшаве я побывал у генерала Рузского[100]100
Рузский, Н. В. (1854–1918) – генерал, принимал участие в русско-турецкой войне (1877–78 гг.). Кончил академию генерального штаба. Ген-кварт, штаба Киевского военного округа. Нач-к штаба Виленского военного округа. В русско-японской войне (1904–1905 гг.) – начальник полевого штаба 11 манчжурской армии. Командир 21 армейского корпуса. Член военного совета. Во время империалистической войны командовал III армией, затем главнокомандующий Северо-Западным и Северным фронтом. Во время февральского переворота был одним из военных деятелей, оказавших влияние на Николая II и побудивших его отречься. Когда началось проведение выборного начала в армии, Р. вышел в отставку. В октябре 1918 г. он был убит в Пятигорске.
[Закрыть]. Главнокомандующий производил самое приятное впечатление. Удивительно скромный, почти застенчивый. Я в разговоре назвал его народным героем и сказал, что счел долгом явиться к нему по приезде в Варшаву. Он страшно смутился, замахал руками:
– Да, что вы… при чем тут я?
Из Варшавы я испросил у в. к. Николая Николаевича разрешения приехать в Ставку. Мне хотелось довести до сведения главнокомандующего то, что я видел и слышал в Варшаве. Генерал Рузский жаловался в разговоре на недостаток в снарядах[101]101
Недостаток в снарядах. – В своем исследовании «Боевое снабжение русской армии в войну 1914–18 гг.» А. А. Маниковский (см. прим. 129) устанавливает, что на 1,1 1915 г. имелся запас около четырех с половиной миллионов 3" выстрелов, т. е. около 1/3 того запаса, с которым мы начали войну. По его мнению, нехватка снарядов объясняется тем, что предполагали, будто «современную войну можно вести только за счет заготовленных в мирное время запасов». «В этом, – пишет Маниковский, – был наш главный грех и наше главное несчастье»… На деле «истинные причины наших поражений кроются глубоко в общих условиях нашей жизни за последний перед войной период. И сам недостаток боевого снабжения является лишь частичным проявлением этих условий, как неизбежное их следствие». Изготовив потом достаточное число снарядов, правительство неспособно было обеспечить доставку этих снарядов. Так, например, из изготовленных в России и приобретенных за границей 95 миллионов 3" снарядов до фронта дошло лишь 60 миллионов, из 15 миллионов снарядов среди, калибра дошло 12 миллионов.
[Закрыть] и дурное обмундирование; особенно плохо обстояло дело с сапогами. На Карпатах солдаты сражались босиком, и уполномоченный земского союза просил об этом похлопотать. Рузский говорил, что отсутствие снарядов создает чрезвычайно тяжелое положение: чтобы удержаться, приходится искусно маневрировать.
Госпитали и лазареты Кр. Креста, которые пришлось видеть, оказались на высоте. Скверно было только в военных госпиталях: там постановка была небрежной, чувствовался недостаток в перевязочных средствах, а главное – не было согласованности между ведомствами. Чтобы дойти на фронте от военных госпиталей до госпиталей Кр. Креста, иногда приходилось тащиться пешком десять и больше верст, негде было даже нанять телеги, так как жители либо бежали, либо были разорены.
Принял великий князь меня любезно, сказал, что он должен ехать в Брест на совет командующих армиями, и предложил проехать туда с ним. Мое предложение о приспособлении арб, наложенных сеном, для перевозки раненых встретило полное сочувствие, и через несколько дней в нашей губернии уже шла реквизиция, и арбы и лошади поехали на фронт.
Вообще, великий князь очень охотно выслушивал все, что я говорил ему, а в заключение просил приезжать почаще и обо всем его осведомлять. Когда зашла речь о Распутине, я передал ему петроградские слухи. Говорили, что Распутин хотел приехать в Ставку и запросил телеграммой и будто бы Николай Николаевич ответил:
«Приезжай – повешу».
На вопрос, правда ли это, великий князь засмеялся и сказал:
– Ну, это не совсем так.
По его ответу было ясно, что что-то в этом роде имело место.
Великий князь жаловался на пагубное влияние императрицы Александры Федоровны. Он откровенно говорил, что она всему очень мешает. В Ставке государь бывает со всем согласен, а приехав к ней, меняет свое решение. Он сознавал, что императрица его ненавидит и определенно желает его удаления. Он говорил о Сухомлинове, которому он не доверяет и который старается влиять на решение государя. Великий князь сказал, что его вынуждает к временной остановке военных действий отсутствие снарядов, а также недостача сапог для армии.
– Вот вы имеете влияние, – заметил великий князь, – вам доверяют. Устройте мне, как можно скорее, поставку сапог для армии.
Я ответил, что это можно устроить, если привлечь к работе земства и общественные организации. Материала в России много, рабочих рук также, но в одной губернии кожи, а в другой дратва, подметки, гвозди, а еще в какой-нибудь – дешевые рабочие руки, кустари-сапожники. Лучше всего было бы созвать съезд председателей губернских земских управ и с их помощью наладить дело. Великий князь отнесся к этому очень сочувственно.
Вернувшись в Петроград, я был в организационном комитете Думы и расспрашивал членов Думы, как по их мнению лучше наладить доставку сапог. Обсудив, решили циркулярно запросить председателей управ и городских голов. Это было скоро сделано, и сразу посыпались благоприятные ответы. Так как возможно было ожидать противодействия со стороны правительства к созыву такого съезда, то я решил объехать и поговорить с некоторыми министрами в отдельности. Кривошеин[102]102
Кривошеин, А. В. (р. в 1861 г.) – гофмейстер. Начальник переселенческого управления, тов. министра финансов, завед. государств, дворянским и крестьянским земельным банками; член Гос. Совета (1907 г.); с 1908 г. – главноуправляющий землеустройством и земледелием. На этом посту выявил себя активным сторонником уничтожения общинного землевладения и насаждений хуторского хозяйства. В первые годы войны имел большое влияние на политику Горемыкина, который часто совещался с К. по политическим вопросам. Но после установления тесной связи Горемыкина с кружком Рубинштейна – Мануса Кривошеин стал группировать вокруг себя либеральных министров, причем в эту группу в 1915 г. кроме него входили Поливанов, Харитонов, Барк и гр. Игнатьев. Как показывал в следств. комиссии гр. Игнатьев, Кривошеин сыграл большую роль в смещении и осуждении Сухомлинова. Он стремился занять пост премьер-м-ра и для этого особенно старался тесно работать с общественными организациями и Думой. Однако, победа досталась распутинской клике, и Кривошеин получил в октябре 1915 г. отставку. Стоял во главе правительства Врангеля. (См. «Падение царского режима», т. VI. Допрос графа П. Н. Игнатьева).
[Закрыть], Сухомлинов и Горемыкин отнеслись к идее съезда сочувственно и обещали поддержать мое предложение в Совете министров. Свидание же с министром Маклаковым вышло весьма оригинальным. На мое заявление, что главнокомандующий поручил спешно заняться поставкой сапог для армии при посредстве земств и созвать для этого в Петрограде председателей городских и земских управ, Маклаков сказал:
– Да, да, то, что вы говорите, вполне совпадает с имеющимися агентурными сведениями.
– С какими сведениями?
– По моим агентурным сведениям под видом съезда для нужд армии будут обсуждать политическое положение в стране и требовать конституции…
Это заявление министра было до того неожиданно и нелепо, что я даже привскочил в кресле и резко ему ответил:
– Вы с ума сошли… Какое право вы имеете так оскорблять меня? Чтобы я, председатель Гос. Думы, прикрываясь в такое время нуждами войны, стал созывать съезд для поддержки каких-то революционных проявлений!? Кроме того, вы вообще ошибаетесь, потому что конституция у нас уже есть…
Маклаков, видимо, опешил и стал сглаживать:
– Вы, Михаил Владимирович, пожалуйста, не принимайте это за личную обиду, во всяком случае без Совета министров я не мог дать разрешения на такой съезд и внесу этот вопрос на ближайшее заседание.
Я сообщил Маклакову, что некоторые из министров обещали поддержать мое ходатайство, и ушел от него возмущенный и расстроенный.
О съезде были уже разговоры с членами Думы, и неофициально многие из председателей управ были уже извещены о желании главнокомандующего привлечь земства к работе на армию. Многие тотчас же откликнулись. Прислали нужные сведения, а некоторые, не дожидаясь приглашения, сами приехали в Петроград. Затем стали поступать ответы из земств, что заказы уже даны кустарям и мастерским, скупаются кожи и что работа идет вовсю. Одно из земств в виду недостатка дубильных веществ послало своего человека в Аргентину. Даже некоторые из губернаторов и те откликнулись и писали, что вполне сочувствуют привлечению земств к военным поставкам. Министр Маклаков и тут постарался мешать, как мог. Он распорядился, чтобы заказы шли через губернатора, что возмутило общественные круги и затормозило дело. В то же время Маклаков издал знаменитый приказ[103]103
Приказ Маклакова – о запрещении вывоза продуктов (17 июля 1915 г.) из одной губернии в другую имел самые печальные последствия, как и другие правительственные мероприятия по ослаблению продовольственного кризиса, например, установление административными властями такс и т. н. Б. Граве в своей книге: «К истории классовой борьбы в России» пишет: «Креггьяне и землевладельцы в производящих районах не могли перебросить продукты в потребляющие районы, и, вследствие этого, цены на продукты сельского хозяйства были не только низки, но за них, кроме бумажек, крестьяне на городском рынке могли приобрести лишь ограниченное количество необходимых для их хозяйства товаров. Угрозы голода в городах и прекращение снабжения армии вынудили правительство к декретированию продовольственной разверстки».
[Закрыть], в котором запрещалось вывозить продукты из одной губернии в другую. Это уже совершенно стесняло и нарушало план использования продуктов и возможностей различных губерний. Через несколько дней я получил письмо от Маклакова, в котором председатель Думы извещался, что его предложение о созыве съезда Советом министров отклонено, и что дело поставки сапог передано главному интенданту Шуваеву[104]104
Шуваев, Д. С. (р. в 1854). – По окончании академии генерального штаба занимал штабные должности и был преподавателем военных наук. В 1905–1906 гг. командовал 2 Кавказским армейским корпусом. В 1909–1916 гг. – начальник интендантского управления. В 1916 г. назначен военным министром. В январе 1917 г. получил отставку и назначен членом гос. военного совета. Занимая пост военного министра, Ш. видел необходимость согласованной работы с буржуазными общественными организациями в целях боеспособности армии. Вследствие этого он в правительстве солидаризировался с оппозицией реакционному курсу Горемыкина и Штюрмера. Он был против смещения Ник. Ник. с поста верховного главнокомандующего, но не подписался под коллективным письмом м-ров, по условиям дисциплины. Его выступление в Думе (см. прим. 200) послужило поводом к отставке, на которой особенно настаивала Ал. Фед., желавшая посадить на эту должность выслужившегося перед ней Беляева.
[Закрыть], который и должен входить в сношения с земствами и городами. На другой же день является Шуваев и откровенно заявляет, что он не может этим заняться, что никогда с земствами дела не вел и что, по его мнению, земства не отнесутся с достаточным доверием к интендантству и не станут с ним непосредственно работать. Шуваев просил как-нибудь помочь ему. Я откровенно ему ответил, что раз Совет министров находит, что мне нельзя поручать этого дела, мне остается вовсе от него отказаться.
Вскоре после этого у меня был Горемыкин для обсуждения вопросов о созыве Думы. Я напомнил ему в разговоре о его обещании поддержать предложение о земском съезде.
– Какой съезд? – удивился Горемыкин, – ничего такого мы вовсе не обсуждали в Совете…
Я показал Горемыкину письмо Маклакова. Он прочел с большим изумлением и опять повторил, что вопрос в Совете министров вовсе не обсуждался, а про Маклакова он заметил: «Il a menti comme toujours»[105]105
Он солгал, как всегда.
[Закрыть].
Несмотря на противодействия правительства, земства продолжали работать. Шуваев получал готовые партии сапог, а к распоряжениям Маклакова относился с презрением и возмущением. Особенно раздражало всех запрещение вывозить из губернии в губернию. Благодаря этой мере, в одних местах получался избыток продуктов, а в других недостаток, а случалось и так, что помещики, имевшие имения в разных губерниях, не могли перевозить для посева собственное зерно.
Когда я докладывал об этих обстоятельствах государю, он выслушал, но, по-видимому, не обратил особого внимания. Я спросил государя, как он смотрит на мои посещения Ставки, не находит ли он их неуместными. Государь сказал, что он знает, что великий князь очень ценит меня и что он лично будет рад, если я буду чаще ездить в Ставку. На этот раз государь было очень любезен. Я просил ускорить созыв Думы и рассказал государю содержание письма Маклакова и о его неосновательных подозрениях против земств.
Дума была созвана для обсуждения бюджета, но первое же заседание вылилось в историческую манифестацию, как и в первые дни войны. Не приняли участия в манифестации только крайние левые и странное молчание хранили прибалтийские и другие думские немцы. Незадолго до созыва Думы было арестовано несколько социал-демократов, в том числе четыре члена Думы[106]106
Арест соц.-дем. рабочей фракции IV Думы. – 30/X 1914 г. состоялось совещание с.-д. фракции IV Гос. Думы с ответственными партработниками Петрограда в Финляндии, близ ст. Мустамяки в дер. Нейвола в кв. Л. Б. Каменева, посвященное вопросу об отношении к войне. Совещание, по окончании работ, решило созвать через месяц более широкое совещание с представителями местных с.-д. организаций крупных промышленных центров. Последнее совещание состоялось 2/XI в Озерках в кв. рабочего Гаврилова, нанятой б. депутатом III Гос. Думы Шуркановым, оказавшимся впоследствии провокатором. На совещании присутствовали: с.-д. депутаты (большевики) IV Гос. Думы тт. Петровский, Самойлов, Бадаев, Шагов и Муранов и кроме них Л. Б. Каменев, тт. Антипов, Козлов от Петроградской организации, Воронин – от Ив.-Вознесенской, Линде – от Рижской, Яковлев от Харьковской. Совещание обсудило тезисы В. И. Ленина о войне, доклад Л. Б. Каменева о текущем моменте, заслушало доклады с мест о положении в организациях и настроении рабочих и др. организационные вопросы. К самому концу совещания 4/XI в квартиру ворвалась полиция и после обыска арестовала всех присутствовавших, кроме членов Думы. Последние были обысканы, но выпущены на свободу. Вскоре, однако, их арестовали по обвинению в принадлежности к с.-д. партии и посадили в петроградский дом предварительного заключения. За время, которое депутаты оставались на свободе, они успели сообщить рабочим о бесчинствах полиции над депутатами рабочих и довести до сведения Думы и ее председателя – Родзянко о нарушении депутатской неприкосновенности. Однако, буржуазно-помещичья Дума, находясь в плену шовинистической идеологии и собравшаяся воевать «до победного конца», не вступилась за депутатов, разоблачавших империалистический характер войны. 10 февраля 1915 года состоялся суд над арестованными на совещании 4/XI, который длился 4 дня и приговорил: на поселение – Петровского, Бадаева, Самойлова, Шагова, Муранова, Каменева, Линде, Воронина, и Яковлева; Гаврилова – в крепость 1 г. 6 мес., Антипова – 8 мес., Козлова оправдали и выпустили. Гос. Дума совершенно обошла молчанием арест и осуждение депутатов.
[Закрыть]. Было обнаружено, что они пропагандировали против войны, и даже найдены были документы, доказывающие, что один из них открыто писал, что для России было бы благо, если бы победила Германия. Социал-демократическая фракция собиралась по этому поводу внести запрос правительству. Если бы они это сделали, цельность заседания была бы нарушена, и вообще это произвело бы нехорошее впечатление. Для запроса требовалось не менее тридцати подписей, а у левых такого количества депутатов не было, и внесение запроса зависело от того, дадут ли подписи кадеты, как это они делали во многих других случаях. Однако, кадеты подписей не дали, и все обошлось благополучно. Милюков произнес прекрасную патриотическую речь, упомянув о только-что убитом на войне члене их партии Колюбакине[107]107
Колюбакин, А. М. (1869–1914) – земский деятель Новгородской и Тверской губ.; в 1903 году избран председателем губ. земской управы; в 1904 г. был уволен по распоряжению Плеве. Член центрального комитета кадетской партии. В предвыборную кампанию в 1907 г. объезжал по поручению к-та поволжские города. После избрания К. в III Гос. Думу против него возбужден был процесс по поводу речи, произнесенной в предвыборной кампании. К. был приговорен к тюремному заключению и исключен из Гос. Думы. В начале империалистической войны пошел добровольцем на фронт и был убит.
[Закрыть], и сказал это так тепло, что память погибшего Колюбакина почтила вставанием не только вся Дума; но и члены правительства.
После председателя Думы говорили Горемыкин и Сазонов. Оба он указывали на то, что чаяние победы переходит в уверенность, что мы прочно завоевали Галицию и убедились на деле, что в боевом отношении хорошо подготовлены к войне. Горемыкин упомянул, что жизнь выдвинула целый ряд вопросов внутреннего характера, которыми придется заняться, однако, только после войны. Военный министр Сухомлинов заявил, что армия обеспечена боевым снаряжением и что к марту месяцу снарядов и ружей будет в избытке. Так как с фронта приходили известия, что снарядов не хватает, то слова военного министра и его категорические заявления многих успокоили.
Вскоре после этого заседания, в феврале, появилось сообщение верховного главнокомандующего о том, что повешен полковник Мясоедов с соучастниками[108]108
Мясоедов – полковник, свыше 13 лет прослужил жандармом на пограничной с Германией станции. На этой службе он большую часть времени проводил за пограничной чертой, находясь в прекрасных отношениях с германским правительством. Подозреваемый в контрабанде, он был переведен во внутренние губернии. Но М. ушел с «невыгодной» для него службы и вместе еще с некоторыми дельцами, обвиненными впоследствии в госуд. измене, образовал «Акционерн. о-во для перевозки грузов и эмигрантов в Гамбург и Америку», в котором занял место председателя. В 1914 г. М. с разрешения Сухомлинова вступает в ряды действующей армии. Был обвинен в шпионаже и повешен.
[Закрыть].Всем было известно, что Мясоедов в дружеских отношениях с военным министром и часто у него бывает. Первую нашу неудачу под Сольдау[109]109
Неудача русских войск под Сольдау. По требованию Франции (август 1914 г.) русское командование решило вторгнуться в Воет. Пруссию и этим оттянуть на себя часть немецких войск. Для этой цели были предназначены армии Ренненкампфа и Самсонова. Наступление, по мнению воен. спец., заранее было обречено на неудачу, но нужно было спасать Париж, и его настоятельно требовал посол Франции Палеолог.
[Закрыть] после этого многие склонны были приписать участию в катастрофе Мясоедова. Доверие к Сухомлинову окончательно подрывалось, говорили даже об измене. Непоколебимой оставалась только вера в верховного главнокомандующего в. к. Николая Николаевича. В связи с повешением Мясоедова вспомнили о разоблачениях, которые еще в третьей Думе делал Гучков, обвиняя Сухомлинова и Мясоедова. Гучков тогда указывал на несомненную связь между Сухомлиновым и Мясоедовым и неким Альтшуллером, австрийским тайным агентом. Этот Альтшуллер вместе с Мясоедовым стоял во главе фирмы, через которую при посредстве Сухомлинова делались артиллерийские поставки на армию. Роль Альтшуллера и Мясоедова вскрыл генерал Н. И. Иванов[110]110
Иванов, Н. И. (1851–1919 гг.) – генерал-лейт. Участник русско-турецкой войны (1877–78 гг.), нач-к Кронштадтской крепостной артиллерии (1890–99 гг.), участник русско-японской войны (1904–05 гг.). Временный генерал-губернатор, затем главн. начальник Кронштадта в 1906–07 гг. Своей усмирительной деятельностью по подавлению революции 1905 г. приобрел к себе особое расположение Николая II. С 1908 г. по 1914 г. – командующий войсками Киевского военного округа. В начале империалистической войны (1914 г.) – назначен главнокомандующим Юго-Зап. фронтом, но проиграл ряд сражений, заменен в марте 1916 г. Брусиловым. С этих пор до Февральской революции состоит при Николае. В первые дни Февральской революции И. был назначен Николаем II «главнокомандующим Петроградским военн. округом с чрезвычайными полномочиями и подчинением ему всех министров» и с 2-мя георгиевск. баталионами отправлен на Петроград, но войска его сдались восставшим, а сам он был арестован Врем. Пр-вом. Потом освобожден Керенским. После Октябрьской революции боролся против Советской власти.
[Закрыть]. В то же время Гучков ставил в вину Сухомлинову, что он устроил тайный надзор за офицерами и поручил это Мясоедову. Несмотря, однако, на возрастающее возмущение против Сухомлинова государь продолжал выражать ему свое благоволение.
На фронте в течение зимы мы продвигались в Галицию. С неимоверными трудностями войска преодолевали Карпатские горы и спускались в Венгерскую долину. 9 марта пал Перемышль. Без штурма, почти без боя. Генерал Селиванов[111]111
Селиванов, А. Н. (р. в 1847 г.) – генерал. Кончив военную академию, служил в генер. штабе. Участник турецкой и китайской кампаний. В русско-японской войне команд. 37 пехотной дивизией. Был иркутским генерал-губернатором (1906–1910 гг.), команд, войсками Иркутского военного округа и наказн. атаманом забайкальского казацк. войска. С 1910 г. член Гос. Совета. Во время империалистич. войны (1914–1918 гг.) командовал 2-й армией.
[Закрыть], отчаявшийся взять Перемышль, собирался было снимать осаду, но неожиданно, чуть ли не в тот же день, когда собирались уходить, Перемышль сдался. Там мы взяли 117 тысяч пленных. Оказалось, что в крепости не хватало продовольствия и что славяне враждовали с венграми. Кусманеку, коменданту крепости, запертые в Перемышле солдаты грозили смертью. Он приказал делать вылазку и итти на прорыв. Послушалась только часть – венгерские полки. Попытка их, однако, не удалась, и большинство из них бежало обратно в крепость. Говорят, что Кусманек аэропланом запрашивал Вену и ему разрешили сдаться. После взятия Перемышля в. к. Николай Николаевич получил бриллиантовую шпагу с надписью: «За завоевание Червонной Руси».
В начале апреля, желая проверить сведения, доходившие с фронта до членов Думы, я решил поехать в Галицию. Мне удалось побывать на фронте до самого Дунайца в армиях Радко-Дмитриева, Лечицкого[112]112
Лечицкий, П. А. (1856–1920) – с 1877 г. служил в строю, командир полка во время русско-японской войны (1904–1905 г.). До войны команд, войсками Приамурского военн. округа, командующий IX армией в империалистич. войне. Во время наступления Брусилова летом 1916 г. армия Л. одержала победу, разбив австро-венгерскую армию и оттеснив ее до Карпатских перевалов. После Февральской революции, в связи с демократизацией армии, Л. вышел в отставку. После Октябрьской революции служил в Красной армии в Петроградском военном округе.
[Закрыть] и Брусилова[113]113
Брусилов, А. А. (1853–1925) – один из генералов, перешедших на сторону советской власти. Генерал-от-кавалерии, генерал-адъютант. Участник русско-турецкой войны (1877–1878 гг.). Начальник офицерской кавалерийской школы; начальник 2 кавал. дивизии (1906 г.), к-р 14 арм. корпуса (1909–1912 гг.); помощник командующего войсками Варшавского военного округа (1912–1913 гг.). В импер. войне командовал VIII армией, затем был главнокомандующим Юго-Западн. фронта. Летом 1916 г. начал удачное наступление на австро-венгерские армии и разгромил их, но его не поддержали другие фронты, и потому успех не был закреплен. Верховный главнокомандующий (после ухода Алексеева) с мая 1917 г. до июля. Перешел на сторону Советской власти и в 1920 г. во время польского наступления назначен был председателем особого совещания при главкоме. Во время войны с Польшей обратился с воззванием к офицерам и всему населению, в котором призывал отстоять Советскую власть от панской Польши.
[Закрыть]. Везде сведения сходились на одном главном: что в армиях не хватало снарядов. На это жаловался еще осенью 1914 года генерал Рузский. Когда я потом передал о разговоре с Рузским в Ставке, великий князь успокоил, заявив, что это временная заминка и что через две недели снаряды поступят в большом количестве. Теперь повторялись те же самые жалобы. Генералы были в отчаянии и просили помочь. Поездку эту я совершил в сопровождении моей жены, ее сестры и Я. В. Глинки, который вел записи при объезде фронта. В поезде с нами ехала в. к. Ксения Александровна. На вокзале во Львове мы увидели группу каких-то людей, штатских, по-видимому кого-то ожидавших.
Здесь же стоял и в. к. Александр Михайлович, встречавший свою жену. Мы вышли из вагона, а когда группа штатских приблизилась к нам, то мы естественно уступили место великокняжеской чете, предполагая, что эго их встречают. Произошло замешательство. Затем из группы штатских выделился пожилой человек, обратившийся ко мне с приветствием. Оказалось, что это галицийские общественные деятели во главе с Дудыкевичем, явившиеся встретить председателя русской Государственной Думы. (Упоминаю об этой встрече, потому что министр Н. А. Маклаков умудрился изобразить государю и эту скромную встречу и все мое пребывание в Галиции в совершенно превратном свете).
Красивый, веселый Львов, весь в зелени, производил отрадное впечатление. Чистые улицы, оживленная толпа, русские военные и даже городовые на углах – все эго не говорило о завоеванном крае. Казалось, что мы у себя, среди друзей, где незаметно враждебного отношения и где даже крестьяне по своей одежде и говору напоминали наших хохлов.
Перемышль – последнее слово военной науки, где природные условия дополнялись чудом фортификации: казалось, что взять его было нельзя и только предательство Кусманека помогло сдаче крепости. Множество орудий стояли рядами по пути к крепости и в самой крепости. В земском союзе, где мы остановились, рассказывали много интересного про первые дни «нашего» Перемышля. Население и войска в нем голодали, в госпиталях больных оставляли без помощи, а после занятия крепости мы нашли большие запасы муки, картофеля и мяса. У Кусманека была прекрасная ферма из ста коров, которая перешла в ведение земского союза.
Вернувшись во Львов, мы узнали, что через два дня ожидается приезд государя[114]114
Приезд Николая II во Львов – состоялся 9 апреля 1915 г. Там он выступил перед населением с речью, по поводу которой Ал. Фед. потом писала в письме, что «было как раз то, что надо», и что «Николай 1 был бы счастлив тем, что его правнук завоевывает обратно эти старинные области и отплачивает Австрии за ее измену». Сам Николай по поводу посещения Львова писал в письме к Ал. Фед.: «Очень красивый город, немножко напоминает Варшаву, пропасть садов и памятников, полный войск и русских людей».
[Закрыть] и в. к. Николая Николаевича. Им готовили торжественную встречу, строили арки, украшали город гирляндами и флагами. Мне это посещение казалось несвоевременным, и я в душе осуждал в. к. Николая Николаевича.
В день высочайшего приезда все собрались во временном соборе. На улицах стояли шпалерами войска и толпы народа, и «ура» перекатывалось и усиливалось по мере приближения царского поезда. После молебна архиепископ Евлогий произнес трогательную речь, все чувствовали себя умиленными и верили в нашу окончательную победу. В тот же день был обед. После обеда государь подошел ко мне и сказал:
– Думали ли вы, что когда-нибудь встретимся с вами во Львове?
– Нет, ваше величество, я не думал и при настоящих условиях очень сожалею, что вы, государь, решились предпринять поездку в Галицию.
– Почему?
– Да потому, что недели через три Львов, вероятно, будет взят обратно немцами, и нашей армии придется очистить занятые ею позиции.
– Вы, Михаил Владимирович, всегда меня пугаете и говорите неприятные вещи.
– Я, ваше величество, не осмелился бы говорить неправду. Я был на фронте и удивляюсь верховному главнокомандующему, как он допустил, чтобы вы приехали сюда при теперешнем положении вещей. Земля, на которую вступил русский монарх, не может быть дешево отдана обратно: на ней будут пролиты потоки крови, а удержаться на ней мы не можем…
После обеда государь выходил на балкон, говорил с народом, упоминая о старых исконных русских землях. Толпа кричала «ура», дамы махали платками. На другой день царь с великим князем поехали в Перемышль.
Через неделю жена и сестра вернулись в Петроград, а я с сыном поехал по фронту и по учреждениям Красного Креста. Однако, не успели мы вернуться во Львов, как началось наше катастрофическое отступление. Подтвердилось то, что предсказывал мой сын, и все серьезные военные: недостаток снаряжения сводил на-нет все наши победы, всю пролитую кровь.
Сын Николай со своим отрядом, прикомандированный к дивизии Корнилова[115]115
Корнилов, Л. Г. (1870–1918). – В 1898 г. окончил ак. ген. штаба, с 1898 г. по 1904 г. служил в штабе Туркестанского военн. округа. Участвовал в русско-японской войне, затем с 1907 по 1911 г. был военным агентом в Китае. Перед войной К. командовал бригадой 9-й вост. – сиб. дивизии. После объявления войны К. отправился на фронт. Будучи окружен неприятелем, был ранен и взят австрийцами в плен, откуда бежал. Связавшись с некоторыми членами Думы, сделался выразителем интересов крупной буржуазии. После Февральской революции был назначен главиокоманд. войск. Петроградского военного округа, затем ком. VHI армией и Юго-Зап. фронта. После июльских дней 1917 г. был назначен Керенским верховн. главнокомандующим русской армии. По требованию Корнилова, Керенским восстановлена была смертная казнь для солдат на фронте, почти уничтожены права солдатских выборных к-тов и предпринята жестокая борьба с солдатами-большевиками. Сотни солдат были брошены в тюрьмы. В августе 1917 г. К. предпринял поход на революционный Петроград, окончившийся полным поражением. Был арестован, бежал из тюрьмы на Дон к Каледину, организовал там белогвардейские отряды против Советской власти, убит при штурме Краснодара в марте 1918 года.
[Закрыть], был окружен, но, благодаря знанию местности, выбрался и вывез до Сана не только отряд и раненых, но и часть обозов и боевых припасов. За это дело он получил Владимира с мечами. Корнилов не хотел оставить своей дивизии, которая растянулась на двадцать верст; он настоял на том, чтобы санитарный отряд уходил, а сам поехал к отставшим полкам, был ранен, окружен и с частью дивизии оказался в плену.