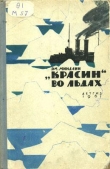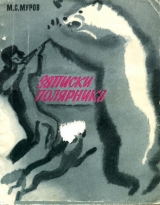
Текст книги "Записки полярника"
Автор книги: Михаил Муров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
В полете на дирижабле вместе с Нансеном собирались принять участие советские профессора В. Ю. Визе, П. А. Молчанов, В. Н. Розе.
Конечно, это сообщение в нашей бедной внешними событиями и однообразной жизни было воспринято с большим интересом, вызвало много разговоров, подняло настроение.
– Мне жаль, что я не могу принять участие в такой зимовке, – поделился со мной однажды Илляшевич. – Это вполне выполнимое дело.
Экспедиция вызывала у нас большой интерес еще и потому, что мы должны были кое в чем помочь участникам полета. В сообщении, которое мы получили, указывалось, что в успехе экспедиции решающую роль будут играть метеоданные, сообщаемые с Земли Франца-Иосифа. Для ускорения передачи сводок о погоде создавался специальный код.
Мы должны были также подготовить продовольственные базы на островах на случай аварии и вынужденной посадки дирижабля.
Теперь мы часто обсуждали, какой из воздушных аппаратов получит права гражданства в Арктике – дирижабль или аэроплан. Конечно, решить такой вопрос мы не могли: наши познания были, прямо скажем, слабоваты. Но в этих беседах всплыли всевозможные истории, связанные с пионерами арктического воздухоплавания.
Без глубокого волнения нельзя было вспоминать о первой шведской экспедиции к Северному полюсу на неуправляемом воздушном шаре.
11 июля 1897 года воздушный шар «Орел» с тремя воздухоплавателями – С. Андре, Н. Стриндбергом и К. Френкелем оторвался от земли и скрылся в небе. Исследователи не вернулись на родную землю. Спустя 33 года на острове Белом, недалеко от Шпицбергена, были найдены их останки.
В 1919 году Вальтер Брунс опубликовал проект трансарктического воздушного сообщения на дирижабле в течение трех суток по маршруту Амстердам – Ленинград – Архангельск – Северный полюс – Америка. Навигационной базой этой трассы на случай изменения метеорологических условий и заправки он намечал Мурманск и Землю Франца-Иосифа.
Этот проект, несмотря на его актуальность, не нашел своего воплощения и был воспринят в Европе как диковинный и фантастический. В самом деле, Арктика была еще совершенно неведома. Тогда не были известны законы дрейфа льдов в океане, была непонятна их взаимосвязь с атмосферными процессами. Синоптики не давали прогнозов погоды, а без этого полеты в арктических условиях могли проходить только вслепую и были рискованными.
Тем не менее известный полярный исследователь Руаль Амундсен предпринял попытку достичь Северного полюса воздушным путем.
Отправление состоялось из Кингсбея на Шпицбергене. 21 мая 1925 года два гидроплана системы Дорнье-Валль поднялись в воздух и взяли курс на север, но из-за трудных метеорологических условий один из гидропланов разбился. Однако возвращение авиаторов на родину было триумфальным, и некоторые иностранные корреспонденты даже писали, что, применив аэроплан, Амундсен открыл новую эру в исследовании Арктики. Они забыли, что еще в 1914 году над льдами Арктики в поисках экспедиции Георгия Яковлевича Седова, Георгия Львовича Брусилова и Владимира Александровича Русанова летали авиатор русского военно-морского флота поручик И. И. Нагурский и механик Е. Кузнецов. В 1924 году, то есть на год раньше Амундсена, летчик Б. Г. Чухновский уже производил ледовую разведку в Карском море.
После полета Амундсена одна за другой начали снаряжаться воздушные экспедиции в Арктику, Их подготовка велась в Германии, Англии, Норвегии.
В 1926 году Амундсен предпринял новую воздушную экспедицию на дирижабле «Норвегия» с целью обследования территории, лежащей между Северным полюсом и северными берегами Аляски.
11 мая 1926 года «Норвегия» начала свой полет над Арктикой. В состав экспедиции входило шестнадцать человек: Амундсен, Эльсворт, Нобиле, Риссер-Ларсен, Мальмгрен, Омдаль и другие. Полет проходил вначале благополучно, но на 88° северной широты дирижабль попал в густой туман. Опасаясь обледенения, воздухоплаватели поднялись сначала на высоту 600, а затем 1000 метров. Но уйти из серой мглы не смогли.
Возникло опасение, что дирижабль пролетит над полюсом и летчикам не удастся его увидеть. Но над воображаемой математической точкой земли, которую называют Северным полюсом, внезапно туман рассеялся. На лед были сброшены норвежский, американский и итальянский флаги. Затем дирижабль взял курс на мыс Барроу на Аляске. По подсчетам, «Норвегия» пролетела за 72 часа 2,5 тысячи миль. В результате полета было установлено, что околополюсные пространства являются морем, сплошь покрытым льдом. Старая легенда о существовании здесь суши была навсегда похоронена. Когда прошли «полюс относительной недоступности», вновь попали в толстый слой густого тумана. Началось оледенение. Все попытки подняться над облаками оказались тщетными, тяжесть льда, покрывшего дирижабль снижала высоту полета. Корка льда все время увеличивалась, а вечером 12 мая корабль попал еще и в сильную снежную бурю. Весь экипаж работал, откалывая лед и заделывая дыры в оболочке дирижабля.
Положение на дирижабле было отчаянным. К счастью, уже близок был берег Аляски.
Полет Амундсена еще раз показал несвоевременность использования летательных аппаратов в полярных областях.
В 1928 году весь мир был взволнован катастрофой с дирижаблем «Италия». Летающая лодка «Латам», снаряженная Амундсеном, погибла при повыше спасти экспедицию Нобиле.
И вот теперь, в 1929 году, Нансен организовал экспедицию на дирижабле «Граф Цеппелин», и нам предстояло сообщить исследователям метеорологические данные.
...В разговорах незаметно подошли дни, когда ночь должна была пойти на убыль.
День перед зимним поворотом солнца у древних северных народов назывался Иолом и считался одним из важнейших праздников.
Мы решили отпраздновать наш Иол подобающим пиршеством. Наконец наступил день 24 декабря! И хотя оставалось еще два месяца полярной ночи, может быть, самых тяжелых, мы уже чувствовали себя победителями. Рано утром этого дня мы получили, телеграмму от Визе, в которой он поздравляя нас с окончанием первой половины ночи и желал нам бодрости и здоровья.
Вечером все собрались в кают-компании. Стол был накрыт. На нем среди всевозможных яств гордо возвышались бутылки с шампанским и другими винами.
– Черт побери! Какое приятное общество! Тут даже и графинчик с кристальным «спирити-делюти». При одном взгляде на эту роскошь пробуждается аппетит, – сказал Георгиевский.
Надо пояснить, что на водку у нас был. «сухой закон». Только в особо торжественных случаях начальник выдавал весьма скромную дозу спирта, который мы разводили водой. Эту смесь Борис Дмитриевич называл «спирити-делюти».
В самый разгар, вечера Илляшевич незаметно вышел из-за стола и больше часа не появлялся; Сначала мы думали – отдыхает у себя в комнате. Но была как раз его очередь проводить наблюдения. Мы решили пойти вместе с ним. Постучали в дверь, ответа не последовало. Тогда решили, что он один отправился снимать показания приборов. Вернулись к столу.
Прошло довольно много времени, а Петра Яковлевича все не было. Мы встревожились. Опасаясь, что он заблудился в метели, договорились идти искать его с фонарями. Едва собрались, как в дверях появился овьюженный, с наганом в руке, улыбающийся начальник зимовки. Мы кинулись с расспросами.
Он рассказал, что не хотел нарушать нашего веселого настроения и нашел снимать показания приборов один. Погода была отвратительная. Зажег фонарик, но он позволял видеть не дальше двух метров. Едва отошел от дома, ориентироваться стало сложно, долго блуждал. На каждом шагу утопал в снегу и уже стал ругать себя, что пошел один, как вдруг набрел на могилу Зандера. Отдохнув немного и сориентировавшись, увидел свет на флюгере – метеогородок был рядом.
Сняв показания приборов, отправился обратно. Он уже дошел до бани и повернул за угол, но тут наткнулся на что-то. Илляшевич отскочил. Зажег фонарик. В метре от себя увидел медведя. Разломав ларь, зверь поедал запасы мяса для собак. Увидев человека, зверь двинулся на него. Спасаться бегством было поздно. Илляшевич выхватил наган и дважды выстрелил. Медведь повалился в снег. Петр Яковлевич выждал некоторое время, чтобы убедиться, что зверь мертв.
Мы знали, что Илляшевич стрелял артистически, но в темноте и пурге его спасло не искусство стрельбы, а, очевидно, хладнокровие. Достаточно было поторопиться, только ранить зверя – и случилась бы беда.
– Пока медведь не замерз, надо набрать запас крови! – скомандовал доктор. (Кровь служила нам лекарством, предохраняющим от цинги.)
Через несколько дней по старой доброй традиции стали готовиться к встрече Нового года. Как всегда в таких случаях, мыли и убирали дом, посылали поздравительные телеграммы председателю Арктической комиссии С. С. Каменеву, Комитету старых большевиков, Художественному театру, Пулковской обсерватории и многим другим, которые в Октябрьские дни поздравляли нас. По общему желанию зимовщиков Петр Яковлевич написал по-французски телеграмму Фритьофу Нансену. В ней были наши новогодние поздравления, пожелания здоровья и успеха в предстоящей экспедиции. На другой день мы получили поздравления от Владимира Ивановича Воронина и Исаака Борисовича Экслера, от родных, друзей, но по непонятной нам причине ни одно учреждение, даже наш Институт по изучению Севера, на наши поздравления не ответило. Мы решили, что телеграммы где-то задержались и не подозревали, какой конфуз ожидал нас.
Часам к одиннадцати мы все уже собрались за столом. Илляшевич зачитал очень взволновавшую нас телеграмму следующего содержания: «Сердечное спасибо, поздравляю и шлю наилучшие пожелания. Нансен».
Настроение в кают-компании повысилось. Провожая старый год, подняли бокалы за здоровье Нансена. Затем завели граммофон и послушали «Норвежский танец» Грига. Между тем приближалось время наступления Нового года. Мы с Эрнстом ушли в радиорубку, где переключили радио в кают-компанию, чтобы все могли услышать поздравление правительства. Но вместо ожидаемого выступления всероссийского старосты Михаила Ивановича Калинина приятный женский голос торжественно зачитал постановление об отмене встречи и празднования Нового года.
– Товарищи, – вывел нас из нелепого состояния Борис Дмитриевич, – не будем терять драгоценного времени. Я согласен с тем, что встреча и празднование Нового года – буржуазный предрассудок, и тем не менее я предлагаю поднять бокал за замечательный старый год и за нашу благополучную зимовку в Новом году. Ура!
Кажется, через год постановление, касающееся празднования Нового года, было отменено.
Разговор с Антарктикой
Наступил январь. Через два дня после встречи Нового года заболел Кренкель. У него поднялась температура, и доктор нашел, что у Эрнста испанка – тогда так называли грипп. Мы ломали голову над тем, каким образом вирусы могли оказаться в Арктике. Все были несколько встревожены этим, но больше других волновался Борис Дмитриевич, который боялся, что болезнь может распространиться на всех.
Решили, что инфекция хранилась в кителе, который Эрнст держал в чемодане и надевал в день встречи Нового года. В профилактических целях доктор провел дезинфекцию помещения, предложил всем отутюжить белье и верхние вещи.
Несмотря на болезнь, в течение нескольких дней Эрнст не прерывал работы, не задерживал радиограмм.
В начале января улеглись ураганы и метели. Снова стали видны северные сияния. Но теперь они не столько доставляли нам удовольствие, сколько мешали: из-за тресков и шумов стало невозможно ни принять, ни отправить радиограммы. Если же все-таки случалось «спихнуть» какую-нибудь, то она шла с невероятными искажениями, и передачу приходилось без конца повторять.
Следует сказать, что радиотехника в те далекие времена была далеко не совершенной. На станциях чаще всего применялись коротковолновые передатчики «искровки». Да и техника связи не была еще изучена. Мы, например, не знали причин, влияющих на слышимость. Поэтому от каждого полярного радиста требовалось в то время великолепное знание аппаратуры, умение не только свободно и четко работать ключом, принимать на слух, но и «угадывать» едва слышные сигналы.
12 января, оставив Кренкеля плавать в «воздушном океане», я ушел к себе в механическую и углубился в чтение книги Ж. Верна «Завоевание Земли». Эту книгу я нашел в богатой библиотеке, которую нам подарили ленинградцы перед отправлением на Землю Франца-Иосифа.
Неожиданно мое чтение было прервано тяжелыми шагами и скрипом снега за стеной дома. Обернувшись, увидел за окном, в полуметре от себя, медвежью морду. Прильнув носом к стеклу, медведь с любопытством разглядывал меня. Ожидая, что зверь разобьет окно и сунется головой в механическую, я схватил фотоаппарат, чтобы его запечатлеть, но, пока заряжал кассету, наводил на фокус, залаяли собаки, и медведь скрылся.
В это время пришел Эрнст.
– Знаешь, я поймал какую-то очень далекую станцию, – сообщил он, закуривая трубку. – Дай ток, попробую зацепиться за нее, может, ответит.
Я завел мотор, включил рубильник и вместе С Кренкелем пошел в радиорубку.
– Еще работает, слушай, – передавая мне наушники, проговорил Эрнст.
Действительно, я услышал едва различимый далекий писк. Сигналы были довольно отчетливы, видима, работал хороший радист.
– Услышит ли он нас?
– Попробуем вмешаться в их разговор, – ответил Эрнст, надевая наушники, – он кончил говорить, сообщает свои позывные и длину волны. Перешел на прием.
Кренкель, подстроившись к волне станции, начал вызов. Он повторил его несколько раз, затем, выключив передатчик, перешел на прием. Почти целую минуту у нас в радиорубке царило напряженное молчание. Вдруг Эрнст сделал рукой знак.
– Слышу!.. Отвечает нам!.. Это какой-то иностранец, говорит по-английски, – шепотом сообщил мне Эрнст, записывая что-то в журнал, – спрашивает, каким языком я владею и где находится наша станция. Перешел на прием.
Эрнст ответил, что лучше всего знает немецкий язык, что местонахождение нашей станции на Земле Франца-Иосифа на 81° северной широты, и в свою очередь спросил, кто и откуда с ним говорит.
Ответ пришел не сразу. Очевидно, на другом конце произошла какая-то заминка. Затем услышали.
– Дорогие друзья! – передавал собеседник.– По-видимому, мы сейчас перекрыли все рекорды дальней радиосвязи. С вами говорит радист американской экспедиции адмирала Ричарда Бэрда в Антарктиде, в районе Южного полюса, наши координаты 78° 35' 30'' южной широты. Мы находимся у ледяного барьера Росса.
Радисты говорили на фантастическом языке, состоящем из смеси английских, немецких, французских и русских слов. И все-таки понимали друг друга.
Американец рассказал, что у них хорошая погода, стоит летний день, температура хоть и минус 2°, но светит солнце и лед понемногу оттаивает. Он сообщил, что адмирал Бэрд хотел лететь к полюсу, но помешала облачность. В распоряжении экспедиции три самолета. На днях вернулась сухопутная партия из глубины Антарктического материка. Американское судно «Сити оф Нью-Йорк», пройдя Новую Зеландию, приближается к кромке льда. Оно идет, чтобы сменить береговой состав экспедиции. Всего на барьере Росса 42 человека и ни одной женщины. Словом, городок холостяков. Полгода назад прошла полоса шестидесятиградусных морозов.
Кренкель, в свою очередь, рассказал о нашей зимовке.
Около часа длился этот невероятный разговор двух полюсов.
Неожиданная связь с Южным полюсом, естественно, взволновала зимовщиков.
Об Антарктике тогда мы знали очень мало. Открыта она была в 1820 году нашими мореходами капитаном 2-го ранга Фаддеем Фаддеевичем Беллинсгаузеном и лейтенантом Михаилом Петровичем Лазаревым во время кругосветного плавания на шлюпах «Восток» и «Мирный».
В 1911 году Руаль Амундсен открыл Южный полюс, опередив экспедицию капитана английского флота Роберта Скотта, который и погиб там.
Об американце Бэрде мы знали, что в 1926 году он летал к Северному полюсу, но о существовании его экспедиции в Антарктиде и полете к Южному полюсу понятия не имели.
На второй день наша связь с американской экспедицией продолжалась. Американский радист, узнав, что у нас пропала всякая слышимость, предложил посредничать в передаче метеосводок, но наш радист без санкции свыше не рискнул воспользоваться этой любезностью. На третий день связь с Южным полюсом оборвалась.
Конечно, по поводу такой сверхсенсации, как радиосвязь с Антарктикой, было устроено празднество. В этот день Владимир Антонович приготовил селедку под провансалем с «зеленым» луком. Дело в том, что последние оставшиеся от нашего запаса несколько луковиц он высадил в консервную банку с водой и растил их без земли и света. Лук пророс, но перья его были белы как снег. И все-таки это был свежий лук!
Илляшевич поздравил Эрнста с достижением.
– Я человек непьющий, но сегодня позволю себе выпить рюмку за прогресс, – закончил Илляшевич.
– Товарищи! – поднялся доктор. – Я считаю рекорд Кренкеля фантастическим. Связи на такое расстояние человечество еще не знает. Мы вправе считать Эрнста первооткрывателем. Я поднимаю бокал за здоровье нашего и американского радистов.
Неожиданно весьма серьезно заговорил Шашковский:
– Не укладывается в голове все, что произошло... Мы иногда не могли связаться, здесь под боком, с Маточкиным Шаром и Юшаром, и вдруг нам отвечает станция, которая находится в двадцати тысячах километров от нас! Это невероятно, уму непостижимо. Не мистифицирует ли нас какая-нибудь иностранная рация? Может быть, это развлекаются норвежцы с кораблей, застрявших на пути к Земле Франца-Иосифа, а они совсем рядом.
– Жорж, ты смотришь на мир сквозь черные очки, – не согласился Алексин.
– Я высказал свои сомнения. Разыграть нас вполне могли – был такой случай на Новой Земле.
– Это было бы вопиющее безобразие! – сказал Кренкель. – Такими вещами не шутят...
– Я лично согласен с Эрнстом Теодоровичем, но раз появилось сомнение, нам следует воздержаться от сообщения в институт об этой радиосвязи. Надо сначала проверить, есть ли на Южном полюсе экспедиция Бэрда, – решил начальник зимовки.
Эрнст начал проверять. Теперь постоянно он сидел за приемником.
Время шло, и мы уже смирились с мыслью, что нас разыгрывали, как вдруг спустя десять дней, к всеобщей радости, Кренкель сообщил, что ему удалось подслушать одну американскую радиостанцию. Она передавала информацию о том, что Бэрд из-за туманов все еще не может осуществить свой полет к Южному полюсу, что на барьере Росса произведена смена зимовщиков и судно «Сити оф Нью-Йорк» возвращается в Америку.
Все наши сомнения рассеялись. Тут же была составлена радиограмма в Институт по изучению Севера, где мы сообщали о радиосвязи с Антарктикой. По-видимому, Рудольф Лазаревич не сразу поверил, потому что несколько раз просил сообщить подробности. Через несколько дней ленинградская радиостанция передала сообщение ТАСС о нашей связи с Южным полюсом.
Однажды, записывая в дневник события последних дней, я заснул над тетрадью. Сквозь сон мне показалось, будто кто-то бьет молотом в стены нашего дома. Я проснулся. Встал из-за стола. Подошел к окну. В черноте ночи ничего нельзя было разглядеть. Но рев и грохот были такими, точно сталкивались айсберги.
Я прошел в кают-компанию. Там было пусто. Свернувшись в комочек, спал на диване котенок. Медленно, едва заметно раскачивалась висячая лампа. Я решил выйти из дома, чтобы посмотреть, что делается снаружи. Надев полушубок и захватив с собой винтовку, вышел в тамбур. В темноте нащупал крюк, сбросил его. Откуда-то сверху, вместе с ветром, в лицо понеслись тучи снега. Ничего не подозревая, двинулся вперед, но что-то мягкое преградило путь.
Медведь! Я отскочил в угол тамбура. Сорвав винтовку, приготовился встретить его пулей. Прошла долгая минута – никто на меня не нападал. Я достал спички, чиркнул. То, что я увидел, поразило меня больше, чем если бы это был медведь. Передо мной была ровная снежная стена, и только вверху еще зияла темная дыра, в которую неслись снежные вихри.
– Эрнст, вставай! Нас заносит ураган, – проговорил я, входя в каюту Кренкеля.
– Что случилось? —услышал я голос доктора за перегородкой. – Опять полярное безмолвие заговорило?
Через минуту мы все собрались у плохо открывавшейся двери.
– Товарищи, это надо сфотографировать. Тащи аппарат, а я протяну провод с лампой, – обращаясь ко мне, попросил Эрнст.
Пока мы занимались фотографированием, дверь заносило все больше и больше. В кают-компанию все вернулись сосредоточенные, разговоры не вязались. Против обыкновения много курили.
– Если ураган наберет силу, нам придется искать крышу собственного дома в Британском канале, – сказал Шашковский.
– Ничего с крышей не случится, а вот ты лучше подумай, как пойдешь снимать показания приборов. Сегодня, кажется, твоя очередь? – серьезно задал вопрос доктор.
– Моя, – подтвердил Шашковский.
– Георгий Александрович, через два часа, хотим мы или не хотим, а идти в метеогородок должны. Но как выбраться из дома? – спросил Илляшевич.
– Одному идти нельзя, – вмешался Алексин.
– Да, конечно. Сегодня пойдут трое.
В это время появился Кренкель и сказал, что дыра, которая оставалась некоторое время над входной дверью, занесена окончательно.
– Как быть? Как найти выход из этого в буквальном смысле безвыходного положения? – задал вопрос доктор.
Илляшевич сосредоточенно молчал.
– Давайте попробуем выбраться через слуховое окно на крыше, – предложил Алексин.
– Нет, это не выход. Ветер снесет человека. Рисковать мы не можем, – не согласился начальник зимовки.
– Попробуем сделать разведку, – настаивал Алексей Матвеевич Алексин.
Илляшевич уступил. Взяв фонари и веревку, поднялись на чердак. Но как только мы выдернули засов, ветер сорвал раму с петель и унес куда-то наружу. Фонарь сразу потух. Первым, перевязанный веревкой, переступил подоконник Алексин и мгновенно исчез в метели. Мы трое, едва удерживая веревку, втащили его обратно на чердак.
– Там что-то невероятное, – едва переводя дыхание, сказал Алексин. – Вряд ли кому удастся дойти до метеогородка.
– Наблюдения мы должны провести во что бы то ни стало, – решительно заявил Петр Яковлевич.
– Придется рисковать людьми, – осторожно заметил Алексин.
– На Новой Земле я ходил в такой ураган и – ничего, – сказал Илляшевич.
Алексей Матвеевич Алексин остался заделывать окно, а мы спустились в кают-компанию.
– Товарищи! – обратился к нам начальник зимовки. – К сожалению, выйти через слуховое окно совершенно невозможно, мы едва спасли Алексея Матвеевича. Остался второй, пожалуй, единственный способ – прокопать тоннель. Это несложно, и у нас еще есть время. Снег будем носить в кладовые и на кухню. Когда будет готово, с Георгием Александровичем Шашковским пойдут Борис Дмитриевич Георгиевский и Михаил Степанович Муров. Надеюсь, возражений нет?
Конечно, никто из нас и не думал возражать. Правда, Кренкель стал настаивать, чтобы разрешили идти ему, но начальник заметил:
– Эрнст Теодорович, каждого из нас можно заменить, но без вас станцию придется закрыть.
Эрнст вынужден был подчиниться. Вооружившись лопатами, начали делать тоннель. Минут через тридцать снегом были забиты обе кладовые. Начали таскать его на кухню, но конца работы еще не было видно. Между тем время, когда надо снимать показания приборов, приближалось.
Наконец Эрнст, вылезая из тоннеля, проговорил:
– Лопата проходит насквозь!
– Товарищи, пора идти! – скомандовал Илляшевич. – Помните: вам ничего не удастся записать. Все показания приборов вы должны запомнить, – предупредил Илляшевич.
– Ну, пошли, – проговорил Шашковский, жестам руки предлагая мне идти первым.
Сгибаясь в три погибели, я нырнул в тоннель. Метров через десять достиг конца, но едва выбрался наружу, как был оглушен ревом моря и урагана. Ветер стал хлестать по лицу мелким и крепким, как морской песок, снегом. Не успел я подняться, как был сбит с ног. Пытался снова встать, но в этот момент сила, которой невозможно было сопротивляться, подняла меня и швырнула куда-то. Через секунду я потонул в сугробе. Надо было что-то предпринимать, и прежде всего – искать товарищей. Достав электрический фонарик, зажег его. В слабом свете я увидел только снег. В этот момент почувствовал толчок в спину. Думая, что это медведь, быстро схватился за нож.
– Кто здесь? – услышал крик Шашковского.
– Где доктор? – вместо ответа спросил я.
– Не знаю... Давай к дому пробираться, – крикнул он и исчез во мгле.
Оторвавшись от сугроба, я бросился за ним и через минуту благополучно достиг стены. Ни Шашковского, ни доктора здесь не оказалось. У дома было значительно тише и к тому же светло. Это Илляшевич предусмотрительно выкинул через форточку механической мастерской яркую электрическую лампу, Я выстрелил из нагана и через минуту увидел бегущего вдоль дома доктора, а за ним следом и метеоролога.
– Меня сбило с ног, и я едва добрался сюда, – крикнул Георгиевский.
В это время открылась форточка, и Алексин, оставив у себя один конец, выбросил нам целую бухту веревки. Это было неплохо придумано, но мы не сумели правильно использовать «нить Ариадны». Вместо того чтобы перевязаться и бухту оставить разматываться, мы потащили ее целиком. До бани дошли без каких-либо усилий, так как находились под защитой дома. Здесь мы надеялись найти леер – длинную веревку, протянутую к метеогородку, держась за которую, мы ходили снимать наблюдения. Но веревку, по-видимому, занесло снегом.
– Ладно, так дойдем, здесь недалеко, – прокричал доктор.
– Без нее нельзя идти... Заблудимся...– ответил Шашковский.
Действительно, до метеогородка было не больше 120 метров, но путь лежал по бугру и совершенно открытому месту, причем нужно было идти наперерез ветру. Если говорить откровенно, испытав уже всю ярость урагана, мы мало верили в успех нашего предприятия, но в то же время борьба со стихией даже увлекала.
– Тронулись! – крикнул Борис Дмитриевич Георгиевский и первым ринулся вперед.
Мы последовали за ним. Нас сразу же куда-то понесло. Я вдруг почувствовал, что лечу вниз, в яму, по-видимому, в обрыв сугроба. Ползу, кричу, но едва слышу свой голос.
Пытаюсь найти товарищей, но тщетно. Я уже решил один добираться до городка, как вдруг услышал:
– Я задыхаюсь... Нам не дойти... Надо вернуться...
– Нельзя. Пойдет сам Илляшевич.
Оказалось, что друзья находятся совсем рядом.
Мы собрались идти дальше и тут вспомнили о веревке, но она исчезла. Очевидно, мы потеряли ее, когда ветер разбросал нас в разные стороны. Искать веревку среди снежной вакханалии казалось безнадежным делом, да у нас и не было времени.
– Пошли без нее! – скомандовал доктор.
Взявшись крепко за руки, мы выбрались из ямы, но едва поднялись, ветер подхватил и погнал нас. Сопротивляться его силе было невозможно. Через несколько шагов нас швырнуло головою в снег. Опять так же – на четвереньках – стали искать друг друга.
– Ветер нас гонит в море, надо брать правее... – услышал я крик метеоролога.
Это было легче сказать, чем осуществить. Снова сделали десятка два шагов, однако порыв ветра слова сбил нас с ног. Благодаря тому, что мы крепко держались за руки, нам удалось подняться и вновь ринуться вперед.
Долго еще нас сбивало, сносило к морю. Мы увязали в сугробах, теряли направление. По нашим предположениям, мы должны были быть уже на метеоплощадке, но ни мачты флюгера, ни света лампы на ней, ни метеобудок все не было и не было.
– Неужели Эрнст не зажег лампу на мачте? – крикнул мне доктор.
– Этого не может быть, – ответил я.
Конечно, когда вас окружает тьма и стена несущегося снега, мудрено увидеть свет на высоте 10 метров. Но мы об этом не подумали. Долго кружили. Вдруг доктор зацепился за что-то и упал. Когда осветили фонариками место падения, увидели полузанесенный снегом флюгер. Очевидно, ветер сорвал его с мачты, и вот теперь он валялся в снегу, и мы не могли узнать скорости ветра. Это было досадно, тем более что именно скорость ветра нас интересовала больше всего. Шашковский достал анемометр и хотел им определить скорость ветра, но шкала анемометра кончалась на 40 метрах в секунду.
Ориентируясь на мачту, вскоре нашли и метеобудки. Снимая показания, обратили внимание на то, что ртутный столбик стоял на отметке минус 32°. Когда закончили наблюдения, тотчас же собрались в обратный путь. Теперь нас волновал только один вопрос: хватит ли сил дойти до дома?
Отдохнув немного, пригибаясь к земле и стараясь преодолеть упругость ветра, пошли гуськом. Морозные снежные вихри сразу же стали стегать по лицу. Казалось, что они вырывают куски кожи. Снег проникал в горло, затрудняя и без того тяжелое дыхание, слепил глаза. Казалось, все попытки преодолеть ураган были бесполезны, и все-таки мы упорно шли вперед. Каждый шаг брали с бою. После трех отвоеванных шагов отдыхали, уткнувшись лицом в снег, а затем снова продолжали путь.
На разгоряченном лице снег быстро таял и тут же превращался в ледяную маску, которая примерзала к бровям, усам и бороде. Снег проникал через плотно затянутый шарф и, тая там, за воротом, холодными струйками растекался по спине.
В этой явно неравной борьбе прошло довольно много времени. Мы изрядно устали, а до́ма все не было. Постепенно нами начала овладевать мысль о том, что мы заблудились. Стали чаще останавливаться, отдыхать и советоваться.
Мы находились уже в каком-то полубредовом состояния. Появилось безразличие ко всему, в том числе и к собственной судьбе. Одолевала усталость. Укрываясь за сугробами, в изнеможении падали, а подняться не было сил. Да и куда было идти?
Не знаю, сколько времени мы пробыли в таком состоянии. Вдруг доктор, тормоша нас, прокричал на ухо:
– Мы далеко ушли от берега... Я различил в шуме гул моря... Нам надо идти направо...
– Черт его знает! Шли направо – пришли налево... – отозвался наш метеоролог.
Правда, с трудом, но и мы уловили характерный шум моря. Отдохнув еще немного, поднялись и, круто повернув вправо, снова двинулись в путь. Первый же порыв урагана разбросал нас в разные стороны. В поисках товарищей я неожиданно натолкнулся на нашу радиомачту и сразу же дал несколько выстрелов. Первым меня нашел Борис Дмитриевич, а за ним появился и Георгий Александрович. Судя по всему, от дома мы отклонились метров на двадцать. Пока товарищи отдыхали, я проверил оттяжки мачты.
Все они были в отличном состоянии и великолепно сдерживали удары ветра. Здесь мы считали себя уже дома. Через несколько минут увидели свет лампы в форточке механической. Полуживые, окоченевшие, мы прошли через тоннель и ввалились в дом. Нам помогли раздеться. Горячий кофе, приготовленный Володей, несколько взбодрил нас.
– Досадно! – проговорил начальник зимовки, когда Шашковский доложил ему о сломанном флюгере. – Ведь главное было узнать силу ветра.




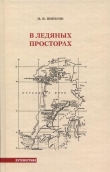
![Книга Поход «Седова» [Экспедиция «Седова» на Землю Франца-Иосифа в 1929 году] автора Борис Громов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-pohod-sedova-ekspediciya-sedova-na-zemlyu-franca-iosifa-v-1929-godu-150501.jpg)