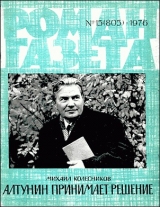
Текст книги "Алтунин принимает решение"
Автор книги: Михаил Колесников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
– Не верю я тебе.
– Поверь еще один раз.
– С меня довольно. Мне тут делать больше нечего. Неужели ты воображаешь, что я смирюсь с должностью начальника участка? Объясни мне: за что ты меня все время наказываешь?.. Ну да ладно, не трудись. Заявление об уходе "по собственному желанию" я уже заготовил.
Скатерщиков выглядел довольно жалко. Щегольской его кремовый костюм почему-то обвис, синие глаза словно бы выцвели. Сергею стало жаль Петеньку.
– Зря убиваешься. Давай договоримся так: после объединения я сразу же уйду на участок, а кадровиков и Лядова уговорю поставить на мое место тебя. И Самарина сагитирую. Он будет только рад.
Эти искренние, от души идущие слова не произвели впечатления на Петра.
– Ты всегда мягко стелешь, только спать почему-то бывает жестко, – отмахнулся он. – Не нужно мне твое самопожертвование. Нам лучше разойтись так, чтоб и не встречаться больше. Уеду куда-нибудь. Черт с тобой, с твоими идеями. Надоел ты мне хуже горькой редьки. За какие такие грехи я каждый раз должен страдать? Кто ты такой, чтоб все время выбивать у меня из рук будущее? Ты исковеркал всю мою жизнь. Обвиняешь меня в карьеризме, а сам ты и есть злейший карьерист – непременно желаешь выскочить в знаменитости.
Что мог ответить ему Сергей? Продолжать с Петенькой разговор не имело смысла. Сейчас им было очень трудно понять друг друга. Алтунин всегда считал Скатерщикова умным и сильным парнем, способным своротить гору. Когда он дрался за свое изобретение, его можно было и понять и даже оправдать. Но за что он борется сейчас? За то, чтобы ходить в начальниках цеха, хотя бы и очень убогого? Смешно.
13
Нет радости на сердце Алтунина. Когда усталый он возвращается домой, Кира встречает его молча. Он идет на кухню ужинать. А Кира на целый долгий вечер отгораживается от него учебниками. Сердится за отца.
Самарин словно бы устранился от цеховых дел. Сергею пришлось перебраться из его кабинета в комнату начальника участка. Приказа о слиянии цехов пока нет. Освоением новой технологии Самарин заниматься не хочет. Опытные бригады, правда, не распустил, но в дело это не вникает, отмахивается от него. Все конфликты с инструментальщиками теперь приходится улаживать Алтунину, так как Юрий Михайлович не желает разговаривать с Силантьевым. Даже новый большой заказ цеху он целиком переложил на Алтунина: делай как хочешь.
Но подготовительную смену отменил решительно, и все были в растерянности.
Зачем он так?.. Неужто только из-за самолюбия?.. При чем здесь сотни рабочих кузнечного цеха, которые давно знают Самарина и привыкли уважать его? Что он хочет сказать таким своим поведением всем этим людям, верившим в него? Я прав, все остальные ошибаются? В чем ошибаются? Или он в самом деле так уж прочно верит в свою непогрешимость?..
Горечь, горечь... Во всем горечь, недоговоренность. Почему Алтунину всякий раз нужно продираться сквозь джунгли человеческих самолюбий? Люди очень уж субъективны во всем, и как-то не верится, что когда-нибудь в отдаленном будущем искусство управления ими превратится в науку управления. Каждый вольно или невольно привносит свой субъективизм даже в производственные отношения. А самое тяжелое впечатление производят люди, привыкшие распоряжаться, командовать и вдруг отошедшие от горячей суматохи жизни, оставшиеся наедине со своим блистательным прошлым. Не у каждого хватает силы воли включить себя в новый ритм, почувствовать себя полезным и стать им в иной сфере деятельности. Кажется, Хемингуэй сказал, что с годами приходит смирение. А если оно так и не пришло?.. Речь, наверное, должна идти не о смиреннии, а о переоценке собственных возможностей.
Сергею было больно и обидно. Снова и снова делал он попытку объясниться с Юрием Михайловичем, Казалось: стоит найти нужные слова – и он все поймет. Ведь находили же они раньше общий язык. Нельзя жить, сосуществовать так дальше. Нужно работать, выслушивать советы и распоряжения начальника цеха... А у него словно бы этакое пренебрежение к Алтунину. Почему Юрий Михайлович не хочет понять, что Сергей старается не для себя, не для своей карьеры, а для пользы цеха? Или Самарин всерьез убежден в своем единоличном праве приносить эту пользу? Как это он любит говорить: "За мое ж добро, да мне же переломили ребро". У него как и раньше все шуточки да прибауточки, только из них теперь всякий раз сочится злая ирония: "Я его калачом, а он меня в спину кирпичом..." О ком это? Об Алтунине или же о Силантьеве, или о Клёникове? Поди – догадайся. Отношение к определенной группе людей, которые, по разумению Юрия Михайловича, словно бы в чем-то предали его. В чем? Мол, сам знаю, что для цеха хорошо, что плохо, – вы мне не указ. Не твоим смыслом хлебать молоко кисло, обольешься и пресным. Наживи свою болячку, да и лечи ее, а мою не трожь. Не суйся, середа, наперед четверга! Накручивает и накручивает свою ветхозаветную мудрость. Самарин сам по себе, а прогресс сам по себе. Вроде бы они разучились понимать друг друга.
Сергей помнил другого Юрия Михайловича. Того самого, который и воплощал для Алтунина все передовое, новаторское, не боялся ломать устаревшие нормы и представления. Да, этот человек создавал завод, цех, не щадя себя, он был душой цеха, совестью большого коллектива, его бессменным руководителем и вдохновителем.
Теперь Сергей вспоминал, что их кузнечный цех, где всегда, благодаря усилиям Самарина, шло обновление техники, этот цех как-то незаметно превратился в этакую автономную единицу, в своеобразный завод в заводе. Руководство почему-то считало, будто кузнечный цех весь на виду, сюда не насылали грозных комиссий с ревизорскими полномочиями; и постепенно единственным ревизором и инспектором, контролером стал сам Самарин.
– У меня в цеху все в порядке! – вот как он докладывал на совещаниях начальству. И ему верили.
В то время Алтунин был членом партийного бюро, и ему казалось вполне естественным такое положение, когда Самарин, признавая на словах огромную роль партийной организации в жизни цехового коллектива, на самом деле "мягко" не допускал контроля партийного бюро ни над своими действиями, определяющими жизнь цеха в целом, ни над другими важными делами, касающимися выполнения заказов, расстановки кадров, материального и морального поощрения. Во всяком случае, к помощи партийного бюро он прибегал очень редко. Так они и существовали как бы отдельно друг от друга: Самарин и партийное бюро. Самарин предпочитал все важные вопросы решать единолично, даже не советуясь с инженерами. По сути, в течение многих лет он хозяйничал в цеху бесконтрольно. И никому не приходило в голову положить этому конец. Никто не дерзнул бы, поскольку всегда считалось, что в цеху все в порядке.
Почему было так? Может быть, Юрий Михайлович боялся контроля с чьей бы то ни было стороны? Нет, он никогда ничего не боялся. Просто не верил, не мог поверить, будто люди, которых он по сути воспитал, поставил на ноги, могут разобраться в делах цеха лучше, чем он сам. Где-то в глубине сознания они, наверное, продолжали оставаться для него все теми же мальчишками, какие пришли к нему в цех из-за школьной парты. Вот в чем все дело. По всей видимости, он даже не "индивидуализировал" их по-настоящему, полагая, что особенности каждого человека важны прежде всего при расстановке рабочей силы, кадров вообще.
Он хотел всю эту глыбу, именуемую кузнечным цехом, держать на своих плечах.
Вот так, в который уж раз, объяснял себе Алтунин поведение Самарина, И все же вынужден был сознаться, что не продвинулся ни на шаг в понимании этого человека. Он боялся, что так и не сможет понять, ибо их мышление на разном уровне, и у каждого из них как бы своя правда. Но ведь двух правд не бывает, не может быть! Должно же существовать то, что принято называть объективной истиной?!
Решив объясниться с Самариным во что бы то ни стало, Сергей как-то под вечер зашел к нему. Юрий Михайлович расслабленно сидел в своем кресле, руки его свешивались чуть ли не до пола. При появлении Алтунина он не изменил позы, сказал бесцветным голосом:
– Садись.
Сергей сел. Так они сидели некоторое время молча. Самарин не расспрашивал о делах, да и сам Алтунин, по всей видимости, его не интересовал.
– Выполнение заказа идет нормально, – доложил Сергей, – Правда, бригада Каретникова чуть кольцо не запорола.
Обычно, когда докладывали о том, что такой-то и такой-то чуть не запорол деталь, щеки Самарина начинали еще сильнее багроветь, становились почти черными; но сейчас доклад он выслушал равнодушно. И только когда Алтунин сказал, что подготовительную смену все же надо восстановить, Самарин зашевелился.
– За этим и пришел? – спросил он. – Дополнительную смену я отменил и восстанавливать не буду!
– Но почему?
– Не хочу.
Разумеется, он мог позволить себе разговаривать так с собственным заместителем. Не хочу – и все!
– Вам виднее, – смиренно ответил Алтунин. Он боялся, что Самарин вдруг замкнется и снова придется уйти ни с чем. Он понимал также, что от сегодняшнего их разговора многое будет зависеть, и потому решил не раздражать Юрия Михайловича своим упрямством. Нужно проявить выдержку. Все должно стать на свои места.
– Юрий Михайлович, – начал он, пристально вглядываясь в лицо Самарина и удивляясь тому, как оно постарело за последнее время, – я пришел попросить у вас совета: что мне делать дальше?
Самарин неопределенно хмыкнул.
– У тебя и без меня довольно советчиков. А свои советы я тебе уже дал, да только ты и без них обходишься. Мои почёски не в почётку, так я понимаю.
– Вы хотите от меня слепого повиновения?
– Ничего я не хочу.
– Ну, хорошо. Пусть я в чем-то не прав. У меня нет такого опыта, как у вас. Вы упросили меня остаться на какое-то время за вас, я согласился, старался исполнять обязанности честно, а теперь получается, будто я в чем-то провинился перед вами. Но в чем я провинился? Ведь вся эта перестройка необходима! И заводская конференция мои предложения приняла. Даже Силантьев все понял, можно сказать, "перевоспитался".
– Я считал тебя сообразительнее, Сергей, – сказал Самарин с глухой насмешкой. – Силантьев «перевоспитался»! – смех один, да и только. Много ты на себя берешь. Да нет в природе такой силы, какая могла бы перевоспитать этого шкуродера. Промеж себя начальники цехов говорят: где Силантьев прошелся, там куры три года не несутся. Он смирился, а не перевоспитался. И не Алтунин со своими великолепными идеями смирил его, а директор. Директора Силантьев побаивается, знает: Ступаков не любит, когда становятся поперек научному прогрессу. Пройдет годик – второй, Силантьев и научный прогресс к своим интересам приспособит – и опять будет ходить в передовых да на нас покрикивать, держать нас в кулаке. Я-то его получше твоего знаю: мироед новой формации, буйвол рогатый.
– А вы поперек прогресса становиться не боитесь, – сказал Сергей. – Ведь, насколько я помню, вы всегда были горячим сторонником и проводником этого самого прогресса, а теперь вроде бы отвернулись от него?
Юрий Михайлович поглядел на него с любопытством. Спросил:
– А откуда ты взял, что твои прожекты и есть прогресс, а не регресс? Ведь сам признаешь, что по этой части у меня опыта больше, чем у тебя.
– Сама жизнь подсказывает.
– Ну, разным людям она подсказывает разное. Я на своем веку повидал всякое. Раньше говорили: без жернова на шее дна не достать. А мой жернов – цех, всю шею перетер. А ты поносил его два дня и вообразил, что уже дна достиг, все понял, во всем разобрался. Не верю я во все эти твои затеи – вот что. Пустая трата сил и времени.
– Но почему? Я ведь все – в дело, с расчетом, с выкладками...
– Вот-вот, – подхватил Юрий Михайлович, – расчет, выкладки, одним словом – красивая теория. Ты в юности, слышал, радиотехникой увлекался, приемнички мастерил?
– Было. Потом бросил.
– Я ведь тоже в своей юности ею увлекался. Есть там такая штука – колебательный контур, на нем вся радиоппаратура держится. Теоретически считается, что колебания тока в контуре должны быть вечными. Но колебания, если не питать контур энергией, очень быстро затухают. Почему?
– Окружающая среда, ток попусту расходуется на нагрев деталей и проводов.
– Все правильно. Теория и практика не сходятся. Теория требует высокого коэффициента полезного действия, а практика дает низкий КПД. Да, в природе в большинстве случаев так. У самой природы, если разобраться по существу, весьма низкий КПД: из миллиона икринок вылупляется десятка два рыбешек. Так вот: в теории у тебя все красиво получается. И ничего вроде бы противоестественного в ней нет. А вот что получится изо всего этого на практике, не знаю. Возможно, даже ты прав на все сто процентов. Но вся беда в том, что наше производство, наш завод не готовы к осуществлению таких идей. Организационно не готовы. Чтобы перестроить все на новый лад, потребуются годы и годы, а ты решил все совершить с налету, одним директорским приказом. Тут и главк ничего сделать не в силах – нужна необыкновенная энергия, какой во мне уже нет, да и ты не подымешь, надорвешься. И главный твой враг – инерция. У меня на преодоление этой инерции вся жизнь ушла. И думаешь, я ее до конца преодолел? Как бы не так! Маскировать ее приходится всякими громкими фразами, создавать видимость отсутствия этой инерции.
– А не лучше ли избавиться от нее совсем?
– Попробуй. Что мне было отпущено, я сделал, дошел до своего горизонта, как считаю, с честью.
– Но почему вы словно бы все время сердиты на меня? Я ведь и хочу попробовать, померяться силой с той самой инерцией среды, о которой вы толкуете.
Самарин поджал губы, и Сергею показалось, что разговор окончен. Но Юрий Михайлович заговорил снова.
– В тебе очень много самомнения, Сергей, – сказал он. – Все – я да я. Видите ли, я сержусь на него. Экая грандиозная фигура! Да ты для меня просто – резвый бычок. Моя судьба никогда не зависела от твоих курбетов – хоть на голову становись! – и не будет зависеть. Разве в тебе дело? Дело в тех, кто стоит за тобой: они бесцеремонно дают мне понять, что Самарин устарел, не нужен заводу, износился – на пенсию пора. И получается так, что в этом хоре громче всех твой голос слышен...
– Да мне такое и в голову не приходило!..
– Не перебивай! Возраст мой, конечно, пенсионный и вроде бы на покой пора, но когда увидал, что ты тут без меня натворил, испугался: уйду – загубят цех! Потому и не хочу уходить, на бровях буду ползти, но не уйду. Нельзя! Слишком круто вы берете.
– Но ведь Ступаков верит!
– Вы и Ступакову голову заморочили. Да ежели б я уверен был, что цех со всеми этими объединениями по миру не пустишь, разве стал бы задерживаться на должности?! Думалось, в надежные руки передам. У всяких ученых – продолжатели, ученики. А кто у меня? Может, себя причислишь к продолжателям?.. То-то и оно...
Он опустил голову и больше не заговаривал. Сергей понял, что разговор окончен.
– Так я пойду? – спросил он. Самарин не отозвался. Сергей поднялся и вышел из кабинета. Разговор произвел тяжелое впечатление. Была непривычная опустошенность в словах Самарина. Даже показалось, будто кузнечный цех он считает чуть ли не своей собственностью, которую надо уберечь от лихих людей, наподобие Алтунина. Почему он не хочет причислять Алтунина к своим ученикам и продолжателям?
Но из-под всех этих производственных проблем пробивалась живая боль человека, незаслуженно чем-то обиженного. И невольно закрадывалась мысль: да уж не специально ли отменил Самарин некоторые нововведения Алтунина, чтобы посмотреть, как к этому отнесется начальство? Юрий Михайлович хочет стоять на капитанском мостике и командовать до конца, хоть и понимает, что "дошел до своего горизонта". У каждого свой горизонт. И не лукавит ли он, утверждая, что с легким сердцем ушел бы на пенсию, если бы удалось передать цех в надежные руки? По этой логике, такими надежными руками следовало бы считать руки самаринского любимца Скатерщикова. Но о Скатерщикове он не упомянул в разговоре ни разу. Не лучше ли все-таки назвать вещи своими именами: Юрий Михайлович утратил чувство времени, поставил себя особняком от всех?..
Загляни, Алтунин, далеко за черту горизонта: что ждет тебя там? Каким ты будешь, добравшись до пенсионного возраста? Не задубеешь ли, не очерствеешь, не утратишь ли ощущение времени?..
Но заглядывать так далеко не хотелось. Зачем? Даже если бы тот Алтунин на пенсионного будущего положил тебе руку на плечо и дружески перечислил все свои ошибки, совершенные тогда-то и тогда-то, ты, наверное, все равно не внял бы голосу рассудка, а продолжал идти напролом... Голос рассудка? Что это такое?
Может быть, все же перейти в Карзанову или уехать, как советует Кира? Но вот-вот будет приказ о слиянии цехов, и Сергей не может устраниться от этого: затеял – доведи до конца...
В комнате начальника участка раздался телефонный звонок. Алтунин снял трубку, но никто не отозвался. Он уже хотел положить трубку, когда услышал голос Киры:
– Папу увезли в больницу. У него инфаркт. Я ухожу к маме, она в тяжелом состоянии, считает виноватым во всем тебя.
Голос исчез, а Сергей сидел совершенно ошеломленный и раздавленный. Почему Зоя Петровна и даже Кира взваливают на его плечи такое несправедливое обвинение?..
Он позвонил Лядову.
– Знаю. Зайдите.
Главный инженер морщил лоб, чувствовалось, что и он расстроен.
– Все получилось плохо, – сказал Лядов. – Хуже некуда. Доконали-таки старика общими усилиями. Но ничего другого поделать было нельзя. Юрий Михайлович пытался поставить свой принцип выше интересов цеха, завода.
– А как все произошло?
– Пудалов, черт бы его побрал! Не посоветовавшись ни с кем, Самарин предложил Пудалову вернуться в цех. Но место занято Авдониной, которая, по общему мнению, справляется с обязанностями гораздо лучше Пудалова. Ступаков деликатно посоветовал Юрию Михайловичу оставить Авдонину экономистом цеха, пусть, мол, доведет до конца дело с оперативным планированием. А Пудалову обещал место в планово-экономическом отделе. Но Юрий Михайлович ни в какую: "Пудалов мне нужен. Место Авдониной на участке. Цех не готов к внедрению ее методов оперативно-календарного планирования". "Подготовьте", – сказал директор. Самарин заупрямился: "Не буду!" Оперативно-календарное планирование назвал игрой в бирюльки. И подготовительную смену отказался восстановить, хотя польза от нее явная. Анатолий Андреевич не привык, чтобы с ним так разговаривали, но тут сдержался, понимал: волновать Самарина не следует. Спокойно порекомендовал привлечь на помощь Авдониной специалистов из научно-исследовательского института. А Самарин свое: "От ее нововведений пользы не вижу. Везде эта затея кончается одинаково – нормативный комплект планово-учетных карт перестает играть сколько-нибудь существенную роль, система разваливается и плановики возвращаются к привычным графикам и ведомостям дефицитных деталей". Директор слегка пожурил Юрия Михайловича за то, что он противится научным методам планирования, не помогает вам внедрять новую технологию. Самарин вспылил и здесь же, в директорском кабинете, написал заявление об уходе на пенсию. Сколько ни уговаривал его Ступаков взять заявление обратно, он этого не сделал. А потом ему стало плохо.
– Что же делать, Геннадий Александрович?
– Во всяком случае, сейчас рассматривать заявление Юрия Михайловича мы не можем. Бестактно и даже противозаконно. Так что продолжайте руководить цехом. На быстрое выздоровление Самарина надеяться не приходится. Был конь, да изъездился... Еще в то время, когда Юрий Михайлович лежал в кардиологической лечебнице, лечащий врач сказал Ступакову: "Никаких нервных нагрузок Самарин переносить не способен. Лучше всего отправить его на пенсию. С почестями". И мы тогда же в спешном порядке представили Юрия Михайловича к правительственной награде. Только после награждения директор собирался тактично намекнуть ему насчет пенсии. А он, наверное, и без намеков догадался, к чему идет дело, оскорбился и вот подал заявление...
В критических ситуациях Сергей привык принимать мгновенные решения и тут же действовать. Он поехал на квартиру Самариных. Вбежал на третий этаж, позвонил. Открыла Кира. Лицо у нее было бледное, опухшее от слез.
– Кира! – начал Сергей с порога. – Зачем ты так жестоко?.. В чем я виноват?
Она прервала его.
– Ты не должен приходить сюда больше. Нельзя волновать маму. Все вы бесчеловечные, жестокие, довели папу до инфаркта. А ты самый жестокий и вдобавок тупой. Хочешь и маму доконать? Не смей приходить! Оставь меня в покое. Я тебя ненавижу и презираю...
Кира расплакалась и захлопнула дверь перед самым его носом. Он уселся на ступени лестницы и сидел там до поздней ночи. Но никто так и не вышел к нему.
Что это, очередная размолвка или конец?
Смутно и пусто было на сердце Алтунина. Домой возвращаться не хотелось. Лестничный пролет показался ему глубокой черной трещиной, протянувшейся по земле между ним и Кирой. Вспомнились слова Карзанова: "Трещина – болезнь, болезнь – трещина". При чем здесь болезнь? Почему Кира не хочет понимать его? Она же знает, он меньше всего повинен в случившемся.
Вот теперь-то ты, Алтунин, действительно остался один на один со своей горечью. Даже самый близкий тебе человек – жена отгородилась от тебя, замкнулась в своих непонятных обидах, ушла...
...Изредка он встречал Киру – по пути на завод или с завода. Несколько раз пытался заговорить с ней, но она смотрела сквозь него, будто и нет его вовсе. Сергей словно перестал существовать для Киры. Ей нет никакого дела до его мучений. В ней, должно быть, давно все умерло. А может, и с самого начала они не были «подходящей» парой. Во всяком случае, она долго не считала его подходящим женихом. И если холодно, непредубежденно проанализировать их последующую совместную жизнь, тоже ведь мало обнаружится взаимного понимания. Но, осознав все это, Сергей не стал любить Киру меньше. Он любил ее по-прежнему горячо и знал, что не полюбит больше никого и никогда. Разве можно любовь начать сначала, повторить? Когда говорят, полюбил другую, – это ложь. Подлинное чувство приходит только раз в жизни.
Человек сам себе не нужен. Это ощущение особенно остро возникало у него по ночам, когда он лежал на диване и прислушивался к шуму дождя. Осень. В тайге было сыро и неуютно, туда не тянуло. Скорее бы зима! Алтунин любил зиму. Она приносила ровное настроение.
Он пытался читать серьезные книги, но прежняя ненасытная жажда приобретения новых знаний неожиданно покинула его. Измышления же фантастов теперь совсем не трогали его, не раздражали, как бывало когда-то, а только вызывали зевоту. Телевизионные страсти навевали тоску. Потоки музыки лились мимо Алтунина.
Как-то взял он томик стихов. Взял от скуки. Раньше Алтунин не очень-то любил стихи. А тут вдруг произошло чудо: раскрыл томик наугад – и ушел весь в беспокойные, сочащиеся кровью строки: "Я любил... Не стоит в старом рыться. Больно? Пусть... Живешь и болью дорожась... Я зверье еще люблю – у вас зверинцы есть? Пустите к зверю в сторожа. Я люблю зверье. Увидишь собачонку – тут у булочной одна – сплошная плешь – из себя и то готов достать печенку. Мне не жалко, дорогая, ешь!"
Болью дорожась?.. Так не говорят в обыденной жизни. Но по-другому не скажешь. Болью дорожась...
Он читал и читал, постепенно проникаясь радостью обновленного ощущения себя. Остыл чай с тонким ломтиком лимона в стакане. А Сергей все читал и находил в стихах отзвук собственных переживаний.
Пройду,
любовищу мою волоча,
В какой ночи,
бредовой,
недужной,
какими Голиафами я зачат -
такой большой
и такой ненужный?..
Значит, кто-то уже переболел всем тем, чем болен ты, Сергей. Значит, все это лишь болезнь. Болезнь – трещина... От нее или умирают, или выздоравливают. Поэт умер. Но он был поэтом. Поэты умирают не так, как другие люди, – у них тоньше нервная организация. А какая нервная организация у тебя, Алтунин? Никто, должно быть, и не догадывается, что все твои душевные силы напряжены до предела... Что же, собственно, произошло? Слег Самарин. У его пожилой жены тоже плохо со здоровьем. Вот дочь и ушла на время к маме, чтобы мама не чувствовала одиночества, чтоб было кому подать стакан воды... Обычный житейский случай, каких много. Но так ли все?..
Мысли Алтунина возвышались над этой, как ему казалось, несущественной стороной человеческого бытия. Он почувствовал себя неким пришельцем из будущего, удивляющимся своеобразию жизни и отношений между людьми в этом странном двадцатом веке, где многое только еще очищается от наносного, накопленного прошлыми веками. Великие мыслители далеких веков даже на прогулки выходили со шпагами. Тогда часто возникали ссоры из-за какого-нибудь пустяка: косого взгляда, неосторожного слова. В своих книгах мыслитель прославлял торжество разума, создавал атмосферу, родственную будущим столетиям, а очутившись на улице, сливался со всеми уродливыми проявлениями той среды, в которой должен был существовать. Наверное, и Декарту и Фихте приходилось не раз пускать в ход шпажонку? Все были тогда отъявленными задирами. И за любовь дрались. И умыкали возлюбленных. Сейчас все это кажется дикостью. Все усложнилось до крайности. И быт, и любовь, и трудовые отношения.
Среду составляют люди. Какие люди – такая и среда. Ты, Алтунин, живешь в здоровой среде, где в общем-то все идет так, как должно идти. И тем глубже твое личное несчастье. Для тебя самого оно слабо мотивировано, кажется капризом Киры. А если разобраться поглубже, то никакого каприза и нет: есть холодное, давно выношенное ею решение. Умерла любовь! Можешь нести на ее могилу самые красивые цветы, но она не воскреснет. Она живет лишь в тебе одном...
И почему ты свои трагедии приплетаешь к заводским делам, словно бы ищешь оправдания самому себе? Дескать. Кира ушла из-за отца. Откуда ты это взял? Так удобнее, легче замаскировать свое неумение удержать любимую женщину? Не удержал. Не смог. Не сумел. Тебя все привыкли видеть сильным, удачливым, а ведь есть и слабая сторона в твоей натуре: эмоциональная ограниченность. Ты слишком много придавал значения машинам, технологии, всяким там графикам и планам, производственным успехам. И как-то не принимал всерьез искусство, литературу, музыку. Тебе всегда казалось, будто кто-то другой, а не ты рожден для всего этого. Есть полотна Гогена, Врубеля, экзотические цветы, какие-то далекие страны; жили, живут и вечно будут жить Григ, Моцарт. Другие наслаждаются этим, а Сергею Алтунину некогда. Все время некогда!.. И не заметил ты, Сергей, как стал вырождаться в некую производственную функцию. Потому что не стремился развить в себе вкус, духовную утонченность, без которой все труднее и труднее жить в людском обществе. Неужели ты всерьез верил в то, что твоя жена из вечера в вечер будет разделять с тобой только твои железные интересы? Почему ты всегда думаешь только о себе, живешь только своими заботами? Почему мало задумывался над тем, что гармония в отношениях между людьми, а тем более между женой и мужем, может появиться лишь при постоянном обмене духовными ценностями, взаимном воспитании друг друга? А ты все продолжаешь жить, пусть неосознанно, по замшелому принципу: мужчина охотится на мамонта, женщина поддерживает огонь в очаге.
Вот и погас огонь в очаге, и никому не нужен твой мамонт.
Из какого будущего пришел ты, Алтунин? Тебе до будущего еще шагать да шагать. На что надеешься, отсиживаясь дождливыми осенними вечерами в своей пустынной квартире, которую ни разу не убирал с того самого дня, как ушла Кира?
Неуютно и пасмурно у тебя на душе. Потому и пристрастился незаметно к стихам. Они не утомляют, в них всегда находишь отклик на собственную боль. То, что раньше казалось непонятным, игрой слов, заумью, вдруг постигается мгновенно.
Взял с книжной полки другой томик стихов и сразу же наткнулся на строчки, подчеркнутые Кирой: "Ни тоски, ни любви, ни обиды, все померкло, прошло, отошло..." Вот и разгадка. Кира читала эти стихи. Что она думала в те минуты? "Все померкло, прошло, отошло... Только встречным случайным я был, только встречным я был на пути..."
С болезненным интересом стал он перелистывать книгу за книгой из своей скромной библиотеки и, обнаружив пометки, сделанные рукой Киры, замирал, стараясь разгадать скрытый ее внутренний мир, ее отношение к нему, Алтунину, как будто она только и жила этим отношением. Ему и в голову не приходило, что строчки, подчеркнутые Кирой, могут относиться к кому-то другому. Был только он. Алтунин, с его обидой и горечью. Он должен выяснить все до конца.
И продолжал вести разговор с Кирой. Немой разговор. Она своими пометками в книгах уже дала ответы на все его вопросы, а он все уточнял, спорил, доказывал ее неправоту.
Алтунину казалось: в этом немом диалоге он узнал о Кире больше, чем за всю их совместную жизнь. Хотя, делая пометки на страницах книг, она, конечно же, меньше всего думала о том, что Сергей будет заниматься расшифровкой ее мыслей. Пожалуй, даже убеждена была, что ему до всего этого нет ровно никакого дела, он слишком занят своими железками, своим цехом...
У каждого в душе есть интимный уголочек, куда не дозволено заглядывать даже самому близкому человеку. Но Сергей заглянул туда. Любовь и страдания дали ему особую чуткость ко всему, имеющему хоть малейшее отношение к Кире: к ее поступкам, словам, мыслям. Во всяком случае, ему так казалось. Он был уверен, что постигает скрытый смысл того, что спрятала она за крылатыми фразами поэтов. Зачем выражать чувства своими словами, если кто-то другой уже сумел выразить их более талантливо? Вон кузнец Недопекин любит к месту и не к месту цитировать Козьму Пруткова: "Ах, и вам ли, люди добрые, нас корить-бранить стыдно б, совестно: мы работали б, да хотенья нет; мы и рады бы, да не хочется". За спиной Алтунина раздавалось иногда: "Тебе, Алтунин, и горький хрен – малина, а мне и бламанже – полынь". Что такое бламанже, Недопекин, разумеется, не знает, но Козьму Пруткова выучил лучше, чем инструкцию по обслуживанию молота...
Что узнал о Кире Сepreй, вчитываясь в отмеченные ею строки? Он и сам не мог бы определить точно. Некую почти неуловимую сторону ее души. Для него это было не так уж мало. Книги она читала вдумчиво, не ради отдыха. Она серьезно относилась и к поэзии, и к живописи, и к музыке. В этой области она знала намного больше, чем Алтунин. Потому, должно быть, он и кажется Кире грубым, примитивным. С другими она охотно рассуждает о прелюдиях Шопена, о сонате ля мажор Моцарта, о колоссальной духовной силе Рембрандта, а вот с мужем своим никогда на эти темы не заговаривает. Раньше, правда, пыталась говорить, словно бы делан ему одолжение. Но потом отказала и в одолжениях. В последнее время все их разговоры всегда сводились к заводским делам.








