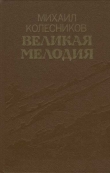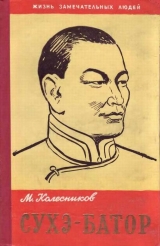
Текст книги "Сухэ-Батор"
Автор книги: Михаил Колесников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц)
Отец проявлял живой интерес к успехам Сухэ. Незаметно он и сам выучил несколько букв и теперь мог даже ставить свою подпись. С шутливой гордостью он иногда говорил: «Мы учимся с сыном разговаривать письменно…»
Теперь юрта Дамдина стояла во дворе тюрьмы. И как бы ни был занят Сухэ, он не мог не видеть, что делается вокруг. Из ямыня сюда приводили людей в кандалах и с колодками на шее. Их загоняли в тесные темные камеры, где было сыро, как в заброшенном колодце. Иногда на заре заключенных ударами палок и прикладов выгоняли во двор. Оборванные, истощенные, они брели, позванивая кандалами, по направлению к Шархаду. Шархад – место казни… Сухэ всегда вздрагивал, когда произносили это слово. Лихорадочно блестящими глазами смотрел он на ссутулившихся узников, отправляющихся в свой последний путь.
– За что их? – шепотом спрашивал он отца.
Дамдин низко наклонял голову и так же тихо отвечал:
– За правду…
Правда… Где она, правда?.. Ее искали все обездоленные и угнетенные. Но пока еще никто не нашел. А может быть, ее вообще не существует на свете? Может быть, ее выдумали сами люди, чтобы не так горько было жить? Все те несчастные, которых уводили на Шархад, были такие же бедняки, как Дамдин, Дава. Еще ни разу не уводили на расстрел ни одного князя, ни одного китайского чиновника, ни одного купца. Да эти никогда и не попадали в тюрьму, какие бы беззакония они ни творили. Правды не было. Томился в тюрьме защитник бедных Аюши, а князь Манибазар разгуливал на свободе, пил кумыс и ел вкусные курдюки. В то время как бедных били по пяткам бамбуковыми палками, рвали щипцами мясо до костей, богатые разъезжали на конях в серебряной сбруе.
– Все голодранцы – воры и разбойники, – говорил начальник тюрьмы. – Их и судить не следует. Нужно в кандалы, в кандалы, да кангу на шею.
Начальник тюрьмы был тучный и красный, как бычий пузырь, наполненный кровью.
– Почему бедные не прогонят богатых? – донимал отца Сухэ. – Почему они не набросятся на стражу и не перебьют всех? Ведь их больше. Их ведут на расстрел, а они покорно идут… Если бы меня вели на расстрел, я бы…
Дамдин снисходительно улыбался и ерошил волосы на голове сына.
– Меня опять сажают в тюрьму, – говорил он печально. – Снова двое сбежали. Сделали подкоп и удрали. За два года отсидел почти четыре месяца.
Да, случалось и такое. Упустив по недосмотру арестанта, Дамдин сам покорно садился в тюрьму.
И случалось это довольно часто, так как Дамдин, стремясь заработать хотя бы несколько мунгу сверх жалованья, иногда добровольно подменял других смотрителей. А побеги, как назло, совершались именно в то время, когда он нес службу за других.
– Кто из нас смотритель, кто арестант – трудно разобрать, – невесело шутил отец. – Наверное, бедняку так уж предначертано милостивыми бурханами: отсиживать в тюрьме. Видно, еще не выковали тот топор, который снесет голову богатеям и маньчжурам.
Как ни старался Дамдин заработать лишний грош, нужда не покидала его юрту. Старшие сыновья по-прежнему батрачили. Сухэ продолжал учиться. Но он не мог равнодушно смотреть, как голодает семья. Он не хотел быть обузой и, случалось, уезжал в степь в поисках заработка. Опять приходилось пасти чужие стада, наниматься погонщиком уртонных лошадей на тракте Урга – Кяхта. Учитель Жамьян сердился, когда способный шаби пропадал целыми месяцами, но стоило Сухэ вернуться, как Жамьян сразу же прощал эту отлучку. Оказывается, Сухэ там, в степи, успел выучить больше, чем самые способные ученики, которые ни на один день не прерывали занятий.
А дух сопротивления в стране нарастал.
В 1910 году зимой в Урге произошло столкновение между толпой аратов и отрядом маньчжурских солдат. Случилось это так. Ламы одного из монастырей купили у китайской фирмы доски и бревна. Но при расчете не поладили с купцом и избили его. Маньчжурские солдаты хотели арестовать нарушителей порядка. Тогда ламы стали читать молитвы и взывать к богу. Собралась толпа. В солдат полетели камни. Наиболее ярые пустили в ход камышовые кнутовища. Солдат прижали к забору. Двоим все же удалось удрать. Вскоре к месту происшествия прибыл маньчжурский губернатор Сандо-ван. Он хотел утихомирить разбушевавшуюся толпу. Но появление амбаня еще больше разъярило аратов. Из всех маньчжуров в Монголии он был самым ненавистным. Его ненавидели даже князья, которые без разрешения Сандо-вана не имели права решить ни одного вопроса. Сандо считался гражданским чиновником. Два военных чиновника-джанджина хозяйничали со своими гарнизонами в Кобдо и Улясутае.
Увесистый камень пролетел над головой Сандо, другой угодил ему в поясницу. Губернатор ударил коня и скрылся в пыли, оставив солдат на расправу толпе. Монголы в тот раз разгромили несколько магазинов и складов.
Что случилось с покорными, незлобивыми монголами? Они больше не испытывали почтения к всесильным маньчжурам, сами искали повода для столкновений. С купцами разговаривали грубо, отказывались платить проценты и нередко поколачивали ростовщиков. Губернатор Сандо сидел в своей резиденции при закрытых ставнях, его охраняла целая сотня солдат.
Из-за границы ползли и ползли тревожные слухи… Особенно беспокоили губернатора вести из Китая. Их нельзя было скрыть, утаить. О них шумел весь мир. Даже Сухэ знал, что в Китае началась революция. В октябре 1911 года вспыхнуло восстание в Учане, перекинулось в Ханькоу и Ханьян, в Хунань, Цзюцзян, Наньчан, Шанхай, Ханьчжоу, Кантон. По сути, на юге революция уже победила. Северный Китай, правда, еще оставался под властью маньчжурской монархии, но Сандо догадывался, что дни ее сочтены. Все чаще произносилось имя Сунь Ят-сена. Организованная им политическая партия «Союзная лига» – «Тунмэнхой» – уже в 1906 году насчитывала почти десять тысяч членов. Сунь Ят-сен требовал уничтожения маньчжурской монархии, провозглашения республики и уравнения прав на землю. Между республиканским Югом и монархическим Севером началась гражданская война.
В России же задолго до этих событий уже обсуждался вопрос о принятии Внешней Монголии – Халхи под свой протекторат. Мысль о том, что именно Россия придет на помощь монголам в их борьбе с ненавистными маньчжурами, была не нова.
Недаром древний сказитель – улигерчи пел на базарной площади о новом пришествии Амурсаны. Амурсана был одним из первых, кто обратил свой взор к России, надеясь получить у нее поддержку.
Амурсана, последний хан Джунгарии в XVIII веке, поднял восстание за независимость своего ханства от маньчжуров, но был разбит. Тогда Амурсана с женой и сыном бежал в Россию, поклявшись вернуться и с помощью русских освободить Монголию.
Герой утонул при переправе через реку Катунь. Его жена скончалась позднее в Петербурге при дворе Елизаветы, а сын его жил во времена графа Потоцкого в Варшаве.
Но монголы не хотели верить в гибель борца за независимость. В народе почти двести лет продолжала жить твердая уверенность, что Амурсана сдержит свое обещание и вернется из России освободителем. Русский путешественник, побывавший в Халхе в 1882 году, был поражен упорством, с которым распространялись слухи о появлении перерожденца-хубилгана Амурсаны, готовящегося якобы освободить монгольский народ. На этом построил свою карьеру авантюрист Дамби-Жанцан, широко известный в Монголии под именем Джа-ламы. В 1890 году он появился в Кобдоском округе и стал призывать к свержению маньчжурского господства, выдавая себя за потомка и хубилгана Амурсаны. Брожение охватило целый аймак и перекинулось в другие аймаки.
Да, в народе зрела надежда на помощь из России. Жаждали помощи и монгольские феодалы. Они хотели сами, со своим ханом, без маньчжуров, править страной. Правительство русского царя, фабриканты и купцы со своей стороны были заинтересованы утвердить свое господство в Монголии. Русские товары до последнего времени вытеснялись китайскими купцами, постепенно превращавшимися в приказчиков крупных американских и английских фирм. Подготавливала почву для будущих агрессивных действий во Внешней Монголии и Япония.
Высшие князья и ламы понимали освобождение Монголии по-своему. Они искали опору в русском царизме, с помощью которого надеялись освободиться от маньчжуров и китайцев и сохранить свои феодальные права и привилегии.
В свои восемнадцать лет Сухэ еще не мог разобраться во всех тонкостях этой политики. Не знал он и того, что еще летом этого года в Урге высшие князья и ламы, собравшись на тайное совещание, решили послать в Петербург делегацию во главе с командующим войсками Тушету-ханского аймака Ханда-Дорджи. Дайцинская династия была ослаблена
начавшейся революцией, и этот момент был признан благоприятным для отделения Монголии от Китая. Осенью миссия вернулась из Петербурга в Ургу. А 1 декабря 1911 года по степи покатилась удивительная весть:
– Монголия объявлена независимым государством! Богдо-гэгэн Джебдзундамба Восьмой провозглашен ханом Халхи и Дюрбетии и принял титул «многими возведенного»! Китайский гарнизон перешел на сторону монгольского народа. Маньчжурский амбань Сандо бежал.
В это время Сухэ находился на тракте, куда выехал несколько дней назад в поисках заработка. Трясущимися руками держал он листовку с этим известием. С листовкой прискакал из Урги знакомый уртонщик. От жестокого мороза и волнения на глазах проступали слезы. Сухэ читал:
«Наша Монголия в своем первоначальном основании была отдельным государством, а потому, основываясь на древнем праве, Монголия утверждает себя независимым государством с новым правительством, с независимой от других властью в вершении своих дел. Ввиду изложенного, сим объявляется, что мы, монголы, отныне не подчиняемся маньчжурским и китайским чиновникам, власть которых совершенно уничтожается, и они вследствие этого должны отправиться на родину…»
Вот после этого, не раздумывая, Сухэ вскочил на коня и помчался в Ургу.
«Свобода! Свобода!..»
Колючий снег хлестал в лицо, захватывало дыхание. С лиловых губ коня срывалась пена – он вот-вот готов был упасть. Но какое это могло иметь значение, если в Монголию пришла свобода?! Не нужно больше кланяться до земли маньчжурским чиновникам, не нужно вымаливать у купца отсрочки, можно ходить где угодно с гордо поднятой головой. И все, кто задолжал, попал в кабалу, вздохнут полной грудью. Бамбуковая палка чужеземного солдата не коснется больше спины арата. Жгучая радость переполняла сердце Сухэ. Он хотел видеть всех счастливыми, будто заново родившимися, такими, каким сейчас был он сам.
Значит, великий батыр Амурсана сдержал свое слово. В вое степного ветра Сухэ чудилась песнь о свободе. Ему хотелось сейчас быть в самой гуще событий. Всем своим существом, как тысячи людей всех монгольских племен, он ждал этого дня и, наконец, дождался. Он чувствовал себя стрелой, выпущенной из лука. Знал, что маньчжуры так просто не уйдут из Монголии, и готов был сразиться с ними. Кровь с шумом била в виски, гудел ураган в ушах, а сердце от избытка счастья готово было выскочить из груди. Сухэ еще не ясно представлял, зачем скачет в Ургу, но твердо знал, что там он нужен.
Разгоряченный конь, завидев что-то на дороге, встал на дыбы и внезапно рухнул. Сухэ едва успел соскочить с седла. Некоторое время он растирал ушибленное колено, а потом повернулся к коню. Он сразу же понял, что скакун больше не встанет на ноги. А до Урги, по расчетам Сухэ, было совсем близко.
Сухэ стремился к свободе, надеялся на коня, что тот не сдаст, а теперь стоял в степи беспомощный, готовый заплакать от бессильной злости. Жалость к коню, которого он любил, переполнила его. Но мысль о свободе была сильнее всего. Сухэ опустился на колени, обнял шею скакуна.
А может быть, скакун еще встанет на ноги?.. Где-то здесь неподалеку находилась юрта арата Гончига. Бросив последний взгляд на вытянутое тело коня, Сухэ зашагал в пургу. Юрта выросла перед глазами совсем неожиданно; будто родилась из снежного вихря. Залаяли собаки, вышел Гончиг. Он сразу же признал Сухэ. Обычно при встрече они обменивались приветствиями, как принято в степи, заводили длинный разговор, но сейчас Сухэ только проговорил.
– Там мой конь… упал…
Гончиг все понял, не стал ни о чем расспрашивать.
– Иди в юрту, обогрейся, – сказал он. – Не пропадет твой конь..»
В УРГЕ

Переждав непогоду и дав коню отдохнуть, Сухэ направился в Ургу. Столица в эти дни выглядела особенно праздничной. На пустырях собирались толпы, и никто их не разгонял. Нойоны запросто заговаривали с аратами, заходили в их ветхие юрты, пили чай, толковали о том, как важно сейчас всем монголам действовать заодно. В храмах беспрестанно велись богослужения. Звенели литавры, торжественно завывали флейты, сделанные из человеческой берцовой кости, гудели медные трубы. Синий чад курений, казалось, окутал весь город.
В те времена Урга была религиозным и правительственным центром Монголии. Самое примечательное заключается в том, что название этому городу дали русские купцы и путешественники. Слово «Урга» (испорченное от «орго» – дворец, ставка) монголам было почти неизвестно; они называли свою столицу Да-Хурэ, или Ихэ-Хурэ, – «Большое стойбище»; или же Богдо-Хурэ – «Священное стойбище»; но чаще всего просто Хурэ. Когда-то здесь, в широкой долине реки Толы у подножья лесистой горы Богдо-ула, стоял монастырь главы монгольской церкви – перерожденца Джебдзундамбы-хутухты. А позже вокруг монастыря разросся город.
Этот город состоял из двух частей – монгольской и китайской. Грязные немощеные улочки, войлочные юрты, подворья, обнесенные частоколом, китайские мазанки. Главным украшением города были монастырские храмы. В их архитектуре, яркой, жизнерадостной раскраске словно воплотился самобытный строительный гений народа. Золотые и зеленые черепичные крыши с загнутыми вверх углами, словно стремящиеся улететь ввысь, нежно позванивающие колокольчики по углам, сверкающие на солнце молитвенные тумбы, зеленые драконы, изумительная по свежести красок роспись, белые субурганы – надгробья, пышные дворцы «живого бога» – богдо-гэгэна – все создавало некую почти сказочную картину, навевало мысли о древности. На западном холме поднимались кумирни монастыря Гандана. Были в Урге и другие монастыри.
Вся страна была покрыта густой сетью буддийских монастырей. В 2 565 монастырях, храмах, кумирнях находилось свыше ста тысяч лам, почти половина всего мужского населения страны. Это была огромная армия паразитов, живущих за счет трудового аратства. Поставив себе на службу ламаистскую церковь с ее проповедью непротивления злу, маньчжурские завоеватели стремились убить в некогда воинственном монгольском народе волю к сопротивлению, оторвать мужское население от производительного труда, затормозить развитие экономики, задержать рост народонаселения. Ламаизм – разновидность буддизма – был по своему духу и характеру религией отчаяния и безнадежности, он звал людей к смерти, к преодолению жажды жизни.
Дамдин не удивился возвращению сына. Сейчас творилось такое, что в Ургу приезжали даже из самых отдаленных хошунов. Новостей было много. О них говорили у каждой юрты, на каждом перекрестке. На базарной площади древний улигерчи пел о пришествии Амурсаны. Толстые ленивые ламы едва успевали принимать подношения многочисленных паломников. По вечерам Сухэ и отец сидели на войлоках, тянули из чашек горячий соленый чай и вели неторопливый разговор. Мать молча смотрела на них. Ее глаза в мелких морщинках светились лаской. Она исподтишка любовалась Сухэ: девятнадцатый год, а с виду богатырь – рослый, плечи широкие, взгляд смелый, как у орла. Возмужал, окреп. Из всех детей Сухэ был. самым любимым. Ханда подумывала о том, что пора бы засылать сватов. Обзаведется своей юртой, семьей, хозяйством, и не будет его тянуть куда-то в степь. Но когда мать заговаривала о женитьбе, Сухэ смеялся. Его больше занимали разговоры с отцом. Дамдин мог порассказать кое-что о последних событиях.
– Я так думаю: оросы помогли, – говорил он. – Недаром Ханда-Дорджи ездил к белому царю. Говорят, царь обещал свои войска прислать…
Откуда было знать Дамдину, что в Петербурге обстояло не все так гладко, как шла о том молва. Делегация Ханда-Дорджи передала царю письмо богдо-гэгэна. Богдо писал, что ханы и князья стремятся отделить Монголию от Китая и провозгласить протекторат России над новым монгольским государством.
Царское правительство отклонило эти предложения, так как опасалось осложнить отношения с Японией и другими государствами. Однако оно сразу же потребовало от Дайцинской династии обязательства не вмешиваться во внутреннюю жизнь Монголии без согласования с правительством России. Цины, доживающие последние дни, вынуждены были согласиться с этим требованием. Русское правительство обещало Ханда-Дорджи направить в Ургу батальон пехоты и несколько сотен казаков. Но вопрос о полном отделении от Китая так и остался открытым.
Как только делегация вернулась в Ургу, высшие князья и ламы стали готовить переворот. Они надеялись на помощь из России. Для руководства переворотом был образован комитет из князей и высших лам. Этот комитет 28 ноября вызвал в Ургу из ближайших хошунов монгольские воинские подразделения. Через два дня комитет предъявил маньчжурскому губернатору Сандо-вану требование о выезде из Монголии. В ультиматуме говорилось: «…монголы, сами защищая свою родину, объявляют Монголию Великим полноправным государством, возводят в хан хана Богдо Джебдзундамба хутухту. Войска, чиновники и Сандо-ван должны в трехдневный срок покинуть страну. В случае невыполнения данного требования будут применены военные силы». Сандо-ван рассвирепел, обозвал князей бунтовщиками и выезжать из Урги отказался. Он угрожал мятежникам расправой, сыпал на их головы проклятья и даже предпринял попытку призвать китайский гарнизон. Но гарнизон, состоявший всего из трехсот солдат, не захотел защищать маньчжурских чиновников и перешел на сторону монголов. У резиденции губернатора собралась огромная толпа – многие жаждали расправы с амбанем. В окна полетели камни. Опасаясь народного гнева, Сандо-ван бежал и, как рассказывали, укрылся в стенах русского консульства. Вскоре он под охраной русских казаков выехал в Китай. Приходили вести с запада. Улясутайский цзянь-цзюнь даже не пытался сопротивляться и сразу отказался от своих полномочий. Только кобдоский губернатор отказался подчиниться распоряжению новой власти и с большим гарнизоном заперся в крепости. Он тайно послал своих гонцов в Синьцзян и надеялся в скором времени получить подмогу.
В год беловатой свиньи, 9 числа первого зимнего месяца (16 декабря 1911 года), в монастыре Дзун-Хурэ состоялась церемония восшествия на ханский престол главы ламаистской церкви Джебдзундамбы, получившего титул «многими возведенного».
Перед широкими воротами главного золотого дворца собралась огромная толпа. Сухэ и Дамдина совсем затолкали. В глазах рябило от малиновых, голубых, фиолетовых шелковых халатов князей и их жен, желтых накидок и красных перевязей монахов; мелькали высокие, закрученные, словно рога, прически знатных женщин, шарики-джинсы на шапках чиновников и нойонов. Хутухты, хубилганы, ламы выстроились в ряд. Волнение нарастало, все ждали чего-то необыкновенного. И вот неожиданно весь разноголосый шум покрыл гулкий пушечный выстрел. Вслед грохнули еще два залпа. Раскрылись ворота, и над толпой поплыла четырехколесная русская карета, в которой важно восседали на шелковых подушках «живой бог» и его жена Цаган-Дари. В руках богдо-гэгэн держал золотое знамя. Карету несли восемь здоровенных лам. Впереди, расчищая путь, двигались по три в ряд нойоны с саблями в красных ножнах. Охрана была в парадной форме, с винтовками. За каретой следовали высокопоставленные ламы, настоятели монастырей, администраторы, низшие ламы. Богдо-гэгэн спокойно наблюдал за ликующей толпой. А толпа неистовствовала. Особо набожные бросались под ноги носильщиков, стремились коснуться руками кареты, валялись в дорожной пыли.
Сухэ пытливо всматривался в лицо нового монгольского хана. Богдо-гэгэна он видел впервые. На голове – круглая ханская шапка, украшенная драгоценными камнями и. золотом. Глаза мутные, красные. Под глазами лиловые мешки. И одутловатое лицо, прозрачно-желтое, дряблое, и затуманенный взгляд, и фиолетовый приплюснутый нос – все свидетельствовало о том, что «живой бог» злоупотребляет спиртным. Даже сейчас богдо-гэгэн был изрядно пьян. Иногда на его распухших красных губах появлялась глуповатая улыбка, а глаза начинали масляно блестеть – это случалось тогда, когда он замечал в толпе хорошенькую девушку.
О том, что «живой бог» – пьяница и развратник, рассказывали те, кому доводилось прислуживать при дворе. Богдо-гэгэн очень любил вино и почти всегда был пьян. Делами почти не занимался, а проводил время в приемах гостей. Прием начинался строгим соблюдением придворного церемониала, а заканчивался попойкой и разгулом, в которых принимали участие проститутки, а также сама Цаган-Дари – неофициальная жена богдо. На эти пиры тратились десятки тысяч лан. Цаган-Дари была молода и красива. На ее белый лоб свешивались нити жемчугов. Она бросала плутоватые взгляды по сторонам, и по всему было видно, что вся эта красочная шумная процессия ее забавляет.
Когда карета остановилась, богдо сошел на землю и под восторженные крики народа вместе с Цаган-Дари вошел во дворец через средние ворота. На воротах висело огромное красное полотнище, на котором золотом было выведено «Добро пожаловать! Хорошо повеселиться!». Из дворца вышел бывший министр старой Монголии Пунцукцэрэн. Он остановился, развернул толстый свиток и громким голосом провозгласил создание нового монгольского государства, столицей которого объявлялся Великий Хурэ. Повелителем нового государства отныне будет богдо-гэгэн с титулом «Многими возведенного, солнечно-светлого, тысячелетнего Богдо-властителя». А его супруга Цаган-Дари отныне именуется «Мать страны» – Эхэ-Дагини.
Празднество продолжалось допоздна.
Богдо-гэгэн, придя к власти, сформировал новое правительство из князей и высших лам. Ханда-Дорджи, тот самый Ханда-Дорджи, который ездил с делегацией в Петербург, стал министром иностранных дел, Далай-ван занял пост военного министра, далама Церен-Чимид был назначен премьер-министром и министром внутренних дел, Тушету-ван Гомбо-Сурун – министром финансов, Намсарай-гун – министром юстиции. Правительство установило новое летосчисление, по которому годы правления богдо-гэгэна отныне будут называться годами «многими возведенного».
Да, теперь правительство было чисто монгольским. Правда, ханом Монголии стал ««живой бог», «воплощение Будды на земле» тибетец Джебдзундамба, по сути, чужеземец. Но араты слепо верили в авторитет богдо-гэгэна, преклонялись перед его святостью и готовы были идти за ним. Влияние богдо-гэгэна распространялось далеко за пределы Халхи. «Многими возведенный» хан понимал, на какую высоту вознесли его события. Стремясь создать обширное монгольское государство, он в первый же. день правления обратился ко всем монгольским племенам с призывом к объединению. Этот призыв скоро был услышан: на востоке заволновалась Барга. Бар-гуты с боем заняли Хайлар и объявили о своем присоединении к Внешней Монголии. Да и вся Внутренняя Монголия тоже закипела, забурлила. Во многих княжествах изгнали маньчжуров и китайцев и признали над собой власть богдо-гэгэна. Во всех монгольских районах Китая разгоралась борьба.
Сухэ радовали все эти события. Наконец-то, наконец сел на коней монгольский народ!
Но жизнь по-прежнему оставалась тяжелой, и никакого улучшения не предвиделось. Семья Дамдина бедствовала, и Сухэ раздумывал: не податься ли ему снова на тракт? Раньше представлялось так: стоит только изгнать ненавистных цинов, и все сразу же переменится к лучшему. Но пока что все оставалось без изменения. Опять приходилось искать мелкую поденную работу: колоть дрова, собирать аргал, переносить тяжелые вьюки.
Как-то на базарной площади Сухэ встретил человека, которого видел до этого лишь однажды: погонщика из Дархан-бэйлэ Дзасакту-ханского аймака. Это он рассказывал о русской революции 1905 года, о славном, герое Аюши.
Погонщик не признал Сухэ. А когда они разговорились, рассмеялся:
– Значит, ты и есть самый младший сын Дамдина? Дэндыба помню, а тебя нет. Мал ты был тогда. А меня вот на старости лет солдатом сделали. Солдат я особенный – не воюю, а подвожу фураж. Главные казармы находятся за городом, но туда не попасть – там таких, как я, полным-полно. Живу в своей юрте, иногда хожу на службу, а в остальное время подыскиваю работу – нужно же кормить семью. Вот и защищай власть богдохана, если не дают ни жалованья, ни обмундирования, ни еды!
Кричат: «Свобода, свобода!» А нам, аратам, от этой свободы еще и пылинки не перепало. А в хошунах все по-прежнему: дерут с аратов подати, заставляют пасти княжеский скот, отбывать уртонную повинность. Богдохан от пьянства распух, а у меня сын умер с голоду. Ты молод еще, а я понимаю что к чему: никакой свободы для бедного арата не будет. Сперва маньчжурские чиновники да купцы сидели на нашей шее, а теперь свои князьки усядутся еще крепче. Хутухтам и хубилганам тоже денежки нужны. Вот и рассуди, какой толк арагу от такой свободы.
– А что слышно об Аюши? – спросил Сухэ.
– Аюши еще тогда выпустили на свободу. Вернулся он в свой аймак и опять поднял аратов против маньчжуров и князей. В этом году араты откочевали в горы, оставили князя Манибазара одного и создали свой народный дугуйлан. Теперь у них аратское самоуправление. СамЪ собой управляют и никому отчета не дают. Крепкий там народ. А наш Аюши – настоящий герой. Погоди, он еще и богдохану голову скрутит!..
Бесстрашные слова погонщика раскаленными угольями падали на сердце Сухэ.
А погонщик между тем продолжал:
– Я бывал в свое время и в России и в Пекине, повидал всего. Ждать свободы от царей и ханов – пустое дело. Вот если бы каждому нойону вырвать сердце из груди…
После речей погонщика Сухэ ночью не мог уснуть. Перед глазами все стояло перекошенное злобой, темное лицо погонщика. Значит, в Монголию пришла не настоящая свобода и не следовало так спешить в Хурэ…
Да Сухэ и сам видел, что жизнь аратов осталась все такой же, как и была. Они по-прежнему оставались крепостными, и по-прежнему нойон был полным властелином у себя в аймаке. Не стало маньчжурских губернаторов, но их место заняли наместники хана – сайты. Каждый из удельных князей стремился выслужиться перед богдоханом, получить новый титул, а потому торопился преподнести «живому богу» богатый подарок. Со всех сторон в табуны хана сгонялись сотни лошадей для обслуживания его самого и его многочисленной свиты. Высшие ламы чувствовали себя хозяевами положения и на князей поглядывали свысока. Это они, они из своей среды выдвинули нового хана Монголии! Пришло их время повластвовать. Ведь теперь и премьер-министром и министром внутренних дел был да-лама Церен-Чимид. Тысячи коней и верблюдов, принадлежавших раньше маньчжурскому императорскому дому, Церен-Чимид роздал высшим ламам, освободил монастырских подданных – шабинаров – от всех налогов.
Ниже богдо-гэгэна стояли семь крупных церковных сановников – хутухт и высшие ламы аймаков. А еще ниже – тысячи мелких хутухт и хубилганов, хомбо-лам, цоржи и прочих «святых» всех категорий. Крупные ламы теперь имели личные владения, население которых находилось в крепостной зависимости, они получали из государственной казны огромные суммы в виде пособий и пенсий. Дело доходило уже до того, что, пользуясь своей близостью к богдо-гэгэну, высшие ламы стали отнимать у владетельных князей их крепостных, пастбищные угодья, стада. Нет, не о такой свободе пелись песни у очагов бедняцких!
И все же маньчжуры и китайцы были изгнаны. Долги китайским ростовщикам больше не лежали на плечах аратов, не нужно было содержать маньчжурские гарнизоны и чиновников.
Но было что-то непрочное в самом перевороте. Что? Почему маньчжуры сдались почти без боя? Помощь белого царя? Но разве цари и ханы дают свободу? Двести лет сидели цины на шее монголов. Забирали лучшие земли, наводнили страну ростовщиками и своими гарнизонами; по сути, забрали всю власть в свои руки, превратили ханов и князей в своих слуг.
Сухэ лежал на кошмах и думал. Он пытался разобраться в событиях последних дней. Но ясности в голове не было. И все же ему казалось, что в Ургу он примчался не зря. Все, что творилось вокруг, как-то касалось и его, он не мог оставаться в стороне от всех этих событий.
Но самое странное было в том, что он пока не мог понять, что же делать дальше. Его никто не призывал, никому не было до него дела. Может быть, добровольно пойти в солдаты? Но на военную службу никогда и никто добровольно не просился. Военная служба была бессрочной. В солдаты забирали насильно. Даже теперь эти порядки не изменились. Быть всю жизнь солдатом, терпеть надругательства дарг, побои, голодать, не сметь сделать шага без разрешения начальника, забыть о свободе…
А Сухэ больше всего на свете любил свободу. Он был горяч, не терпел никаких оскорблений, ненавидел всякое притеснение. Правда, любил оружие. Всякое: острые клинки, винтовки, револьверы, пушки. Глаза его вспыхивали жадным огнем, когда он видел красивый нож или револьвер за поясом у какого-нибудь князя. Он считал себя охотником, хотя охотился редко, и страсть к оружию жила в его сердце, владела его помыслами. Он не однажды брал на праздниках призы по стрельбе из лука, сбивал орла на лету. Заветный лук до сих пор лежал в юрте. Стрелков из лука разделяли на команды по двенадцать человек. Каждый стрелок пускал за один раз пять стрел, всего же двадцать стрел с расстояния в сорок пять маховых саженей. А победителей награждали званием «мэргэнов» – метких стрелков.
Но настоящего огневого оружия у Сухэ не было никогда. Однажды в лесу он случайно повстречал охотника, и тот разрешил ему потехи ради выстрелить из своего самодельного ружья с сошками. Дрожащими от волнения руками юноша взял ружье и выстрелил. Это было самое высокое счастье. Тот свой первый выстрел Сухэ не мог забыть и до сих пор.
Мысль о солдатчине была страшна. И все же где-то в глубине сознания засела мысль: «Ну, а как же по-другому? Не сидеть же сложа руки! Если маньчжуры полезут на Монголию, пойду!»
С тяжелыми думами заснул Сухэ. Он не знал, что его судьба уже решена.
Утром в юрту зашли два чиновника. Один из них в фетровой шляпе, чесучовом халате и гутулах с загнутыми носками, сощурившись, оглядел Сухэ с ног до головы и произнес басовитым голосом:
– Вот где ты укрываешься от воинской повинности, собачья блоха! Не хочешь служить «многими возведенному»!