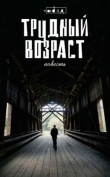Текст книги "Трудный переход"
Автор книги: Михаил Аношкин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
РАЗГОВОРЫ
Андреев спал много. Отсыпался за всю войну. Иногда во сне повертывался неловко, бередил больную ногу и просыпался ошеломленный, не сразу приходя в себя. Однажды и на перевязку возили в полусонном состоянии. Кореньков прятал в морщинках добрую улыбку – понимал солдата. Все они, фронтовики, очутившись в спокойной обстановке, после стольких тревог и лишений, впадали в такую прострацию, но зато потом круто шли на поправку.
Танкист проспал ночь, весь день, еще ночь и только на следующее утро проснулся, сказав:
– Ага, значит, я не в раю, а на грешной земле? Есть тут кто живой?
– Пока я один, – отозвался Демиденко. – Остальные дрыхнут.
– Я не сплю, только глаза закрыл, – подал голос Алехин. Григорию вообще лень было отзываться.
Танкист свесил с койки ноги, немного пугающий в своем облачении, сделанном аккуратным Дудкой, и констатировал:
– Значит, жить можно.
– Где жить нельзя? – спросил Демиденко. – В фашистском аду и то живут.
– Пошумел я вчера на вас, не обижайтесь. Невменяем был, на стенку готов был лезть.
– Бывает, – легко простил Демиденко, – но не вчера шумели, а позавчера. Вчера вы весь день храпели.
– Неужели?. Сколько же я проспал?
– Часов сорок, не меньше.
– Ничего себе! Постарался доктор, спасибо ему.
Григорий, не открывая глаз, слышал, как танкист встал и спросил:
– Тапочек ни у кого нет?
– Нам они, милый друг, без нужды.
– Зовите меня Мозольковым, майором Мозольковым.
Демиденко назвал себя. Не удержался и Алехин, хотя никто его не спрашивал:
– Я гвардии рядовой.
– Когда же ты до гвардии дослужился? – посомневался Демиденко.
– Дослужился вот.
За Мозольковым скрипнула дверь. Григорий снова задремал и сквозь полусон услышал песню. Мелодия была совсем незнакомая, но такая хорошая и душевная, что, казалось, родилась в самом Андрееве, явилась результатом его блаженного умиротворенного состояния. Боялся пошевелиться, боялся спугнуть эту неповторимую мелодию, но она не исчезала, несмотря ни на что. Григорий прислушался. Мелодия доносилась из коридора, напевал ее тенорок, не очень уверенный, но приятный, как и сама песня. Разобрал несколько слов:
…Но знакомую улицу
Позабыть он не мог…
Света принесла Алехину порошки. Забулькала в стакане вода. Алехин проглотил порошок, запил водой и проворчал:
– Горечь одна.
– На нее не нажимай, – посоветовал Демиденко.
– У меня голова болит.
– Молодой, пройдет и без порошков.
Света неслышно подошла к койке Андреева и положила ему на лоб ладонь, любила так делать.
– Жа́ра уже нет.
– Откуда ему быть? – отозвался Демиденко. – Лейтенант спит, как сурок.
– Света, – спросил Григорий, – ты слышала песню?
– Ту, что малахольный в коридоре поет?
– Почему малахольный?
– От девушки каждый день письма получает, вот и воркует.
– Это ж хорошо!
– Я и не говорю, что плохо.
– Но я о песне.
– Про «Огонек»?
– Она так называется?
– Ну да. Я ее знаю.
– Перепиши слова, а? И еще – не знаешь, как малахольного зовут?
– Нет. А вам кого надо?
– Юру. Мне надо Юру Лукина.
Света обещала узнать. Ему почему-то показалось, что это мог быть Юра Лукин, ведь ему Оля каждый день писала. Но нет. Не мог тот певец быть Лукиным, у Юры ранение тяжелое, а этот ходит. И Света вскоре подтвердила – не Лукин. Ранбольной Юрий Лукин действительно поступал сюда, но его позавчера эвакуировали на восток.
– У нас тяжелораненых отправляют в глубокий тыл, – пояснила Света.
– Мы какие?
– Тоже тяжелораненые.
– И нас отправят?
– Конечно! – удивилась Света наивности Григория.
– Когда?
– Будете на костылях подниматься – и уедете.
Света ушла. Демиденко задумчиво сказал:
– Гарная дивчина. Нравишься ей, лейтенант.
– С чего вы это взяли?
– Вижу.
– Ерунда.
– Почему же? Женат?
– Нет.
– Тем более. Поверь, в бабьем сословии я толк понимаю, будь уверен. И скажу честно, Света – сама чистота, завидую тебе.
– Почему?
– Молод ты, я ведь старик, под сорок подкатило. На таких, как я, Светы уже не смотрят. Нам остались вдовушки. Чего молчишь, лейтенант?
– Не привык так о женщинах говорить.
– Как?
– Неуважительно.
– Бог ты мой, разве я говорю неуважительно? Засвидетельствуй, Алехин!
– Я не разбираюсь.
– Святая простота. Нет, лейтенант, ошибаешься, о женщинах всегда говорю уважительно, я не циник и не донжуан.
– А вдовушка?
– То особая статья, рассказывать долго, можешь и не понять. Я говорю про Свету. Рекомендую, лейтенант. Не прогадаешь. И к тебе она неравнодушна. Такая, коль полюбит, будет до гроба верна. Это с полной убежденностью и от чистого сердца.
– Спасибо, но у меня есть невеста.
– Лучше Светы?
– А у меня девушки еще нет, – отозвался Алехин.
– Печально, – усмехнулся Демиденко. – Немного подрастешь – и девушка появится.
Григорий закрыл глаза. Он сказал Демиденко, что у него есть невеста. Слово-то это сорвалось невзначай. Его редко употребляли. До войны почему-то утвердилось мнение, что любимую девушку невестой называть старомодно, что понятие это устарело. Почему? И начисто изгнали это слово из обращения.
Значит, Таня его невеста? Пожалуй, в этом он покривил душой. А Таня назовет его своим женихом, единственным на всем белом свете? После той размолвки, когда он посоветовал ей идти на курсы радисток вместо института, не стало в их письмах сердечности и откровения. Что, собственно, было обидного в его совете? Он написал ей, что думал. Если совет не пришелся по душе, так и скажи: спасибо, но поступлю по-своему. Пожалуйста! Он бы не стал на нее сердиться за такой ответ. Но раз Таня обиделась, значит, нет у нее к нему прочного чувства. Может, они просто выдумали его, это чувство? В самом деле, учились на разных курсах, встречались всего несколько раз, стесняясь друг друга, перед уходом Григория в армию рассорились. И все перешло в переписку. Чем же было питаться настоящему чувству? Да и письма последний год она пишет такие, которые не очень подогревают. Положа руку на сердце, коль ему сказали бы «езжай к Татьяне», поехал бы? Без оглядки? С трепетным сердцем? Пожалуй, нет… Пораскинул бы мозгами сначала. Он ей написал о ранении сразу же, а ответа еще не дождался. От отца есть, а от нее нет. И будет ли?
Пришел Мозольков. В тапочках. Обожженные места, даже сквозь сетку заметно; поблескивали, вроде бы их смазали вазелином.
Мозольков лег и сказал:
– Горит. Доктор какой-то вонючей дрянью смазал.
Алехин спросил:
– Вы вправду в танке горели?
– Нет, зачем? Черти в аду хотели поджарить, да я сбежал.
– Вы, майор, не удивляйтесь, он у нас немножечко простоват.
– Уж и спросить нельзя?
– Спрашивай, милый мой, я ведь к слову.
– Страшно гореть?
– Попробуй.
– Боюсь я.
Улыбнулся даже Мозольков, но ответил серьезно:
– Страшно. Стукнул зажигательным, еще не было страшно. Гореть стали, опять не страшно. А вырвались из огня да подумали, что могли заживо сгореть, вот тогда стало страшно.
– Скажите, товарищ майор, вам не встречался танкист по фамилии Качанов?
– Старшина Качанов?
– Был-то он рядовой. Зовут Михаилом.
– Рядового не знаю, а старшина Качанов есть в роте Сидоренко. Служили вместе?
– До сорок третьего.
– Старшина этот жох большой. У меня, в штабе полка, шифровальщица была – заглядишься-залюбуешься. Кто только к ней не подъезжал, а парни у нас что надо! Всех отшила. Как сумел ее обработать этот дошлый старшина, понять не могу. Она в него влюбилась. Пришлось провести соответствующую разъяснительную работу, но слез сколько было!
– Он, – сказал Григорий.
– Кто «он»? – не понял майор.
– Я говорю – это Мишка Качанов.
– А так парень неплохой, балагур и в бою надежный. За Вислу Красную Звезду получил, я ему и вручал.
– Вторую.
– Знаю. Говорит, в партизанах получил первую.
– Там, – подтвердил Григорий. – Вместе были.
– Где, если не секрет? – спросил Демиденко.
– Под Брянском.
– У кого?
– У Давыдова.
– Знаком, – обрадовался Демиденко. – Про Старика слышал?
– Обязательно, – улыбнулся Григорий. – Между прочим, я его недавно встретил.
– Кого?
– Старика, вернее, подполковника Игонина.
– Не обознался, случаем?
– Исключено. Игонина знаю с осени сорокового года.
– Вот и появились у нас общие знакомые. Может, и про Сташевского слыхал?
– Конечно. Тоже мой старый знакомый. Был. Погиб недавно.
– Что ты говоришь?! Хороший мужик был!
– А вы где были, если всех давыдовских знаете?
– Я ж говорил – у вдовушки.
Григорий чертыхнулся про себя – неясный какой-то этот Демиденко. Разговор потихоньку затих.
ВЕСТИ ОТ КУРНЫШЕВА
Ночью был снова воздушный налет. На этот раз гремело на другом конце города. Утром Света принесла Андрееву костыли:
– Будем учиться ходить.
Григорий удивился – неужели разучился за эту неделю?
– А им? – кивнул головой на соседей.
– Им нельзя. У них обе ноги ранены.
С помощью Светы Григорий сел на койке. Взял костыли и порывисто встал. Считал, что простое дело – встать на костыли. Его качнуло, в глазах поплыли круги. Он наверняка бы упал, если бы не поддержала Света. Она испуганно обняла его за талию и прошептала:
– Сумасшедший, надо ж потихоньку!
Наконец Андреев приладил под мышки костыли, постоял несколько секунд с закрытыми глазами, собираясь с решимостью. Больная нога налилась тяжестью, от пальцев до коленной чашечки возникла тупая непроходящая боль.
– Что же вы? – спросила Света.
– Сейчас, сейчас, – проговорил он и, опираясь на костыли, перенес тело немного вперед и оперся на здоровую ногу. Демиденко его подбодрил, и Григорий вдруг вспомнил, что еще ни разу не видел лица соседа. И медленно, с опаской подковылял к его койке, протянул руку:
– Здравствуй, сосед!
– Здоровеньки булы, – улыбнулся Демиденко и энергично пожал руку Андрееву. Демиденко был красив суровой мужской красотой. Черты лица правильные, особенно выделялся волевой подбородок. Волосы русые, плотные и волнистые, глаза голубые, такие в решительную минуту могут обрести твердость стали. Виски припорошены сединой.
– Ты думаешь – почему все стриженые, а я нет? Как это удалось?
– Вообще-то, конечно, – смутился Григорий, хотя, честно говоря, об этом не успел и подумать.
– Принимала меня врач – армяночка, симпатичная такая. А рядом с ней верзила, в руках у него машинка. Думаю, махнет один раз своей ручищей, и прощай моя прекрасная шевелюра. «Доктор, – говорю, – неужели вы допустите такое варварство?» Она повела грозными очами и вдруг улыбнулась: «Зачем же, дорогой? Пусть остаются на здоровье при вас».
У Алехина лицо испитое. Уши лежали на подушке, словно маленькие розовые пластинки от граммофона. Брови белесые, их почти не видно.
– Живем? – спросил его Андреев.
– Домой бы.
– Ишь чего захотел!
– А чего? У меня мама и две сестры. Ухаживали бы. И бомбежек нет.
– Подлечим малость, и поедешь к своей маме, – сказала Света.
– Солдат, – усмехнулся Демиденко. – К маме захотел. Тебе сколько лет?
– Девятнадцать. Я ведь раненый.
Появилась сестра из соседнего отделения. Принесла для Андреева письмо. Сегодня доставили раненого из батальона, где служил Григорий, с ним письмо и прибыло. Оно было от Курнышева. Устроился поудобнее на койке и стал читать.
«Гвардейский привет тебе, Гриша, – писал капитан. – Из третьей роты отправляли бойца в госпиталь, я и решил черкнуть пару слов о новостях.
Из боев нас вывели, отдыхаем, стоим, недалеко от городка Радома. Ждал, что подвернется случай и смогу вырваться в Люблин, но не получилось.
На переправе наша рота здорово поредела, ты и сам видел это. В батальоне такая же картина. Позавчера прислали пополнение – необстрелянных юнцов, прямо сердце заболело. Теперь у нас так: половина старых бойцов и половина новых.
Только прибыло пополнение, а тут «юнкерсы». И давай молотить лесок, в котором мы стоим. Трое новичков убежали черт знает куда и заблудились, едва нашли. Веселая жизнь началась, и смех и горе.
Это я так, в жилетку поплакался. Конечно, понимаешь, охать да ахать не буду, и некогда. Пока передышка, я молодых день и ночь гоняю, готовлю к новым боям. А ветераны роты – золотые ребята, всех знаешь, с ними-то я ничего не боюсь, правда, бывают и накладки.
Твоим взводом временно командует Файзуллин, в помощниках Ишакин. У Файзуллина командирская косточка, я подумаю: не аттестовать ли его на младшего лейтенанта? О себе не беспокойся, вернешься – дело найдем. Хочу один секрет поведать: чую, заберут меня в батальон. Ты и примешь роту. Такой у меня прицел.
Теперь о накладке. Ишакин захандрил. Неподалеку остановились танкисты, Ишакин разыскал Михаила Качанова. Вечером как-то прибегает Файзуллин и докладывает: так и так, товарищ капитан, исчез Ишакин. Как исчез? А так – ушел утром, и нету. Я сразу сообразил, в чем дело, неприятность, нарушение воинской дисциплины. Заявились оба – Качанов и Ишакин, оба под хмельком. Стали мне в любви объясняться, я голос повысил. Но вижу – спрос с них небольшой. Вот выспится Ишакин, тогда поговорим по душам. И приказываю: Ишакину спать, Качанову идти в свой батальон. Они начали было о том, что встретились после разлуки, все-таки боевые друзья, и как было не выпить – и все в этом духе. Но я разогнал их по своим местам. Утром вызываю Ишакина и снимаю с него стружку. Он молчит. Я костерю его почем зря, он молчит. Меня злость разбирает – хотя бы, сукин сын, оправдывался, огрызался бы. Но стоит безразличный такой, вялый. Постращал ревтрибуналом и отпустил. Он спросил: «Когда?» Я не понял: что когда? В трибунал, говорит, когда? Меня взорвало. Что, кричу, в штрафную захотелось? Он тянет одно – мне все равно, товарищ капитан, один я остался, как казанская сирота. Качанов в танкистах, Андреев и Юра Лукин – в госпитале, а Файзуллин прижал – пикнуть не дает, дорвался до власти. Сейчас потихоньку отходит, извиняться приходил. Режьте, говорит, меня на пайки, ешьте с маслом, только простите, больше не буду.
Как твое ранение? Рядом стоит Воловик и шепчет, чтобы я передал от него привет. Он такой же скряга, но хорош тем, что всегда у него все есть. Выздоравливай побыстрее и возвращайся. До Берлина – рукой подать, успевай к тому времени, когда мы на него двинем. Жму руку!
Гвардии капитан М. Курнышев».
ВСТРЕЧА
На очередном обходе Кореньков сказал Андрееву, что отправит его на рентген, где должны сделать снимок коленного сустава. В зависимости от показаний рентгена будет решаться судьба лейтенанта. Если коленная чашечка разбита, то думать о возвращении в строй не стоит.
Андреев чаще и чаще вставал на костыли, бродил по коридору и даже осмелился спуститься вниз, на свежий воздух. Света взяла у него из левой руки костыль, и он обнял ее за плечи. Так и пошел по лестнице – левой рукой опирался на Свету, а правой на костыль. Чувствовал рукой крепкие Светины плечи, ее горячий упругий бок – и робел. Света, пока спускались, разговаривала с ним, как с маленьким:
– Вот так. Раненую ножку повыше. Еще повыше. Хорошо. Сейчас мы встанем на эту ступеньку. Так. А здесь немного постоим. Ишь какой вы у нас понятливый. Вот и спустились.
Света оставила его одного, пообещав прийти через полчасика.
Был августовский синий день. В густом, напоенном осенним ароматом воздухе летали серебристые паутинки. В кустах сирени и акации гомонили воробьи, набралась целая стая – собрание, что ли, устроили. В кроне ясеня обозначились нежно-желтые листья, и на солнце они просвечивали насквозь, даже видны были причудливые прожилки.
Сквер возле госпиталя был полон раненых. Некоторые лежали на носилках, эти, видимо, с первого этажа. Многие ходили без всякой помощи – у одних перевязаны головы, у других – руки, у третьих бинтов не видно, но они заметно горбились – раны скрыты под халатами. Были и такие, как Григорий, – на костылях.
Андреев выбрал укромное местечко возле ограды. Лег в густую прохладную траву на спину, закинув руки за голову. Над ним опрокинулось голубое небо чужой стороны. Оно и такое, как на родине, и не такое. Такое же призывное, но нет в том призыве щемящего радостного чувства.
И мысли путались.
Рядом шумел большой, малознакомый город. Где-то есть улица, по которой батальон вступал сюда несколько недель назад, встречаемый ликующими толпами; есть склады, которые хлопцы Курнышева разминировали; где-то недалеко притих зловещий Майданек, где под ногами человеческий пепел. Было это совсем недавно, но стало уже историей, еще теплой, еще живой и осязаемой, но уже историей.
Недалеко от города, на западе, медленно катит воды главная польская река Висла. Недавно там, возле двух островков, работали гвардейцы Курнышева. Там сейчас тихо, фронт ушел на запад. А Висла так же катит свои воды, горячие дни тоже стали историей, обжегшей навечно многих друзей Григория и его самого. Та река стала могилой Николаю Трусову и многим его побратимам. Где-то за Вислой есть городок Радом, здесь в неведомом лесу живут друзья Григория, а он, возможно, никогда и не увидит тех мест и своих друзей.
У Ишакина опять хандра, он ею страдает часто, но держится молодцом. Мишка Качанов стал старшиной, охмурил штабную шифровальщицу и, видимо, имел неприятности от майора Мозолькова. Все идет своим чередом.
Как и обещала, Света прибежала через полчаса. Она спешила будто на крыльях: полы халата развевались в стороны, каштановые волосы рассыпались – косынка торчала из кармана халата. Крепко сбитая, стройная и милая – Григорий точно впервые видел ее такой. И ненароком вспомнил слова Демиденко о ней.
Света опустилась на траву рядом, поджав под себя ноги.
– Уф! – вздохнула она. – Еле вырвалась.
– Достается? – участливо спросил он.
– А то! Сутками на ногах, присесть некогда. Раненые, особенно тяжелые, привередливые. То не так, это нехорошо. Ужас!
– Нашему брату угодить трудно, – согласился Григорий. – Как сюда попала?
– Курсы закончила.
– Но в Красноярске тоже, наверное, есть госпитали?
– А то! Меня поначалу-то в санитарный поезд зачислили, потом встретила доктора Коренькова.
– Раньше знала, что ли?
– И видом не видывала. В Гомель поезд наш прибыл. Там и встретила. Девчонки из госпиталя подговорили и доктора нахвалили. А госпиталю сестры требовались, я и пошла.
– Взял?
– Взял. У нас начальница поезда ведьма была, баба-яга. Придиралась – спасенья нет. К пустякам. Без косынки увидит и начнет пилить. Можно подумать, что из-за косынки поезд под откос полетит. Но вы не подумайте, я не из-за нее, мы над ней смеялись, над бабой-то ягой. А я хотела на фронт, сестрой милосердия.
– Отпустила ведьма?
– Отпустила. Слова не сказала. Она не вредная. С доктором Кореньковым хорошо работать, хоть во сто раз труднее. Ни разу не слышала, чтоб он на кого-то накричал либо грубое слово сказал. Однажды раненый капитан при нас матом выругался, доктор девчонок выслал и дал нагоняй капитану.
– Значит, работы много?
– А как же? Особенно, когда за Вислу сражение было. Андрей Тихонович сутками из операционной не выходил, и мы с ним. С ног валились. Бывало, присяду на минутку – и уже сплю. А доктор тихонечко потрясет за плечо и говорит: «Проснись, доченька, нового привезли».
– А сейчас?
– Сейчас легче.
– Десятилетку окончила?
– Ага.
– После войны в институт пойдешь, тоже доктором станешь.
– Хорошо бы!
– Приду к тебе на прием с костылями, а народу у тебя – уйма. Еще бы! Знаменитая докторша Светлана батьковна!
– Фантазер вы. Я вас сразу приметила.
– Да ну?
– Ага. Вы какой-то не такой, как все.
– Какой же?
– Не знаю. Тихий, наверно.
– Ничего себе тихий!
– А то! Хотела покормить с ложечки, все же лежачие так делают, а вы покраснели.
– Невелика доблесть – есть с ложечки.
– Встречаются нахальные. Липнут и липнут. Один со второй палаты норовит ущипнуть, с гадкими разговорами пристает.
– Всякие есть люди, Света. Да и огрубели на войне.
– Вы не такой.
– Может, пора нам?
Света неохотно встала. Ему не хотелось углублять разговор, а она что-то еще недосказала.

После обеда Андреев обычно засыпал, а тут сна не было. Разговор со Светой был вроде бы самый обыкновенный, а вот удивительно – взволновал. Не сами слова взволновали, нет, они обычные. А то, что Света говорила их с подкупающей простотой и с непривычной для него доверчивостью. Она как бы безоговорочно принимала Григория за такого близкого знакомого, перед которым не надо таиться ни в чем. Такая доверчивость встречалась ему впервые и волновала.
Света сказала, что он совсем не такой, как другие. И подкрепила эти слова приветливым взглядом своих карих глаз, затаенной полуулыбкой. Григорий растерялся и в то же время, кажется, покраснел от удовольствия.
Если до этого разговора он не обращал внимания, когда Света заходила в палату, то сейчас, лежа с закрытыми глазами, с трепетом ждал, когда легонько скрипнет дверь и появится Света, неизменно приветливая и улыбчивая. Но она где-то задерживалась, а он уже загадывал: сейчас войдет, положит ему на лоб свою ласковую ладонь. А потом даст Алехину какие-нибудь порошки. У того вечно что-нибудь болело: то голова, то горло, то живот.
И у него екнуло сердце, когда она вошла, но нарочно притворился спящим. Света привела в палату кого-то чужого, сказав:
– Демиденко, к вам пришли. – И тихо выскользнула из палаты, не подойдя к Григорию.
Мимо койки проскрипели сапоги. Пришедший вроде бы знакомым голосом сказал:
– Здорово, Иван Тимофеевич! Запрятался – не найдешь!
У Демиденко от неожиданного волнения задрожал голос, ответил глухо и тихо:
– Здравствуй, командир. С моими ногами не очень-то запрячешься!
– Сильно, значит, досталось?
– Подковал фашист на обе. Одну хотели до колена отсечь – не дал. Хоть плохая, а своя.
– Где ж ты пропадал, Иван Тимофеевич?
– Трудная история, командир.
– Все же? Тебя ж гестапо взяло.
Андреев напряг слух, стараясь уловить каждую интонацию в голосе посетителя. Где же он слышал этот чуть хрипловатый, но властный голос? А что слышал, и совсем недавно – не сомневался. Григорий подтянулся на койке и сел. Повернулся в сторону Демиденко и обомлел. Там сидел Петро Игонин в накинутом на широкие плечи халате. Профиль четко вырисовывался на фоне открытого окна – с чуть курносым носом, с бугорком пшеничных усов. Волосы старательно зачесаны назад, однако на макушке упрямо торчал хохолок. По профилю видно – еще молод, этот Петр Игонин, и задорный, как всегда. Но держится уверенно и властно, привык к своему положению. Трогательно спорила в нем задорная молодость с солидностью.
Григорий чуть не вскрикнул, но вовремя прикусил язык и снова растянулся на койке. Решил послушать, любопытно, какие общие нити связывали этих двух людей?
Разговор Игонина и Демиденко продолжался.
– Они же известные костоломы, – говорил Демиденко, и Григорий сообразил, что он имеет в виду гестаповцев. – Меня успели допросить всего один раз, без мордобития, вежливо. Но я понял: следующий раз будут ломать кости и мне. А Нину избили до полусмерти. Меня-то врасплох взяли, прямо в управлении. Она дома была, почему задержалась – не скажу. Нина отстреливалась, троих положила, но увлеклась и последний патрон себе не оставила. Со счета сбилась. Приложила пистолет к виску, чок, а выстрела нет. Гестаповцы на нее и насели.
– У нас донесение было. Николай Павлович из Брянска прислал. Нину повесили возле сельсовета. А ты пропал загадочно. Бесследно и бесшумно.
– Это со стороны. На самом деле никакой загадки. У шефа гестапо был шофер, Курт Майер, из Гамбурга. Появился за год до моего провала. Я по-немецки кумекаю, он – по-русски. Вот и сблизились. Я сразу понял, что он не фашист, чутье, понимаешь, подсказало. Я ему открылся, не полностью, а так – дал понять, кто я на самом деле. Вижу – дошло. Когда меня сцапали, он окончательно догадался, что я за птица. Ночью прихлопнул часового, который стерег меня в подвале, и мы с ним дали деру. Километров пятьдесят на машине, возле леса бросили – и пешедралом. Цель была – найти любой партизанский отряд, а через него связаться с тобой, командир. Карты не было, шли наобум. От усталости и голода в глазах круги шли и сознание мутилось. Добрались до какой-то деревеньки. Курта я оставил в лесу, а сам двинул вперед. Постучал в первую хату и нарвался на полицаев. Вот что такое не везет и как с ним бороться.
– А еще разведчик, – упрекнул Игонин.
– Упрекать можно, но я тогда мог умереть от изнеможения. Еле душа держалась в теле. Сцапали меня полицаи, и какие-то особенно злые, сволочи, попались. Приняли за партизанского лазутчика. Я думал – обойдется, не хотел открываться, а тут гляжу, дело керосином пахнет, за милую душу к стенке поставят. Показываю им удостоверение, что на всякий случай у меня было, мол, я тоже такой же, как вы, сучье племя, и на них еще рыкнул. Наврал кучу с коробом: мол, на село партизаны налетели, все порушили, еле удрал, не то вздернули бы на осине. Думаю, будь что будет, пока проверяют, а я тем временем что-нибудь соображу. Может, и проверять не будут, дело не близкое до того села добраться. А телефона нет. Немного смягчились, но полностью не верят. Я переживаю за Курта. Ихний главный гад – полицейский, рожа, поверишь, – во! – с арбуз, от пьянства опухла, решил мою судьбу так: я остаюсь с ними, работенку мне дадут. А глаз с меня не спускать.
– А Курт?
– Я говорю: со мной немец есть, в гестапо служит. «Показывай!» Пошел с полицаями туда, где его оставил, а его и след простыл. Может, и видел меня, да не подошел – побоялся, я ведь с полицаями был.
– И не нашел?
– До сих пор не ведаю, где он и вообще жив ли. Совесть мучает. Подвел я хорошего человека. Посчитает, что я бросил его.
– Не подумает, если стоящий парень.
– В том-то и дело – стоящий. Чего бы я за проходимца стал переживать? А тут заваруха началась. Убей, не понимаю, как случилось – то ли наши обходной маневр совершили, то ли десант выбросили, но деревушку захватили молниеносно, никто и пикнуть не успел. Я обрадовался, хотя меня под стражу со всеми полицаями посадили. Думаю, разберутся и выпустят.
Демиденко помолчал, потом виновато сознался:
– Куряка я здоровый, бывало, смолю и смолю. А тут вторую неделю крошки табаку во рту не было, дыму даже не нюхал. Нельзя в палате. В глотке все пересохло.
– Закури, – предложил Игонин.
– Нельзя. У нас сестрица строгая.
– Можно, – озорно возразил Игонин. Он и таким еще мог быть, оказывается. – На, закуривай моего «Беломора». А я постерегу, как говорят, на стреме постою. Кури, кури.
Демиденко закурил и крякнул от удовольствия. Приятный табачный дымок растекся по палате.
Игонин подошел к двери – выглянул, есть ли кто поблизости, и успокоился. Сначала посмотрел на пустую койку Мозолькова, потом лихо подмигнул Андрееву: мол, вот так, конспирация что надо.
Подмигнул и вдруг округлил глаза.
– Стоп! – проговорил он, приходя в себя. – Или глаза мои врут, или это лежит Гришуха Андреев? Или кто похожий на него?
– Не ошибся, – прохрипел Андреев, у него запершило в горле. – И глаза твои не врут, и никого тут на меня похожего нету. Тут я сам.
– Все же погоди, – покрутил головой Игонин, словно сбрасывал с себя странное наваждение. – Так я ж тебя несколько дней назад видел на переправе, а наш полковник Смирнов говорил, что наградил тебя медалью.
– Все течет и меняется, – улыбнулся Григорий.
– Здорово! Разыскивал одного, а нашел сразу двоих. Куда тебя?
– В ногу.
– Вот мерзавцы! По ногам бьют моих друзей, чтоб до Берлина не дошли. А мы-таки дойдем! Ну, здорово, что ли! – Петро протянул Григорию руку, и тот пожал ее своими двумя, ослабшими в госпитале.
– Слышал, Иван Тимофеевич? – обратился Игонин к Демиденко. – Это мой старинный фронтовой друг, войну в одном отделении начинали.
– Рад за тебя, командир.
– Ну, а потом что было? – не выдержал Алехин. – Интересно же!
– Потом, милый мой, больно гладили утюгом.
– И в самом деле, Иван Тимофеевич, – быстро отозвался Игонин, снова подходя к койке и садясь на табуретку, – перекур кончился, и перекур без дремоты.
– Я сказал нашим, что партизанский разведчик, очутился здесь волей случая. А полицаи стали меня дружно топить, валили все, что было и не было. И Курта припомнили, сказали, что я дружил с гестаповцами. Мне верили и не верили, а проверять кто будет и у кого было время? Где тебя искать, где Давыдова… И загремел я в штрафной батальон и был рад, что легко отделался, могли бы и к стенке поставить. Честно скажу, воевал зло, лез на рожон, но пуля не брала, а я искал ее. Дело прошлое, грешен в этом. Через несколько боев получил прощение, считалось, что смыл своей кровью позор – легко ранен был. Дослужился вот до старшего лейтенанта.
– Попал в переделку, – задумчиво проговорил Игонин. – А мы похоронили тебя. Считали, что в гестапо ликвидировали без шума – и концы в воду. Может, по каким-то причинам им было невыгодно шуметь, как шумели с Ниной?
– Твой друг, лейтенант Андреев, по-моему, страшно презирает меня.
– Почему?
– Из-за вдовушки. Сказал ему, что два года жил под ее крылышком. А он мне мораль прочел – мол, люди воюют по-разному.
– Так, Гришуха?
– Он загадками объяснялся, не поймешь что к чему.
– А Нина – та вдовушка? – это опять Алехин не умолчал.
– Та.
– Мы первое время искали тебя, потом поняли – бесполезно. Недавно на переправе через Вислу встретил вашего комполка, я знал его хорошо, он мне и пожаловался, что отправил в госпиталь лучшего командира роты. У вас там Рогожин по полку гремит.
– Знаком.
– Я посчитал, что он мне о Рогожине говорит, еще посочувствовал. А комполка поправку: не Рогожин, а Демиденко. Я вроде бы фамилию мимо ушей пропустил, чуть позднее догадка взяла. Спрашиваю – зовут Иваном Тимофеевичем? Так точно. Ехал сюда, терзался: может, однофамильцы? Нет, что ни толкуй, а сердце – вещун.
Алехин давно с любопытством поглядывал на Игонина, ерзал на спине – не терпелось спросить. Наконец не выдержал. В этом смысле он молодец – никогда в себе вопросов держать не будет, хотя частенько они и наивными были.
– А вы кто, товарищ командир?
– Как кто? Сам сказал – командир.
Григорий лежал и думал: ты меня, Алехин, спроси, лучше меня про него никто не расскажет, потому что я Игонина знавал еще рядовым красноармейцем, видел его в партизанах и вот теперь – в подполковниках.
– Вопрос прост, а ответить не просто. Умеешь ты загонять вопросами в угол, братец.
– Вспомни-ка, Алехин, – вступился Демиденко, – когда нас с тобой первый раз сволокли в убежище?
– Ну.
– Я тебе про Старика рассказывал?
– Это про геройского партизанского разведчика?
– Так это и есть Старик.
– Да ну?! – округлил глаза Алехин и произнес эти слова с таким искренним восхищением, что Демиденко засмеялся, довольный эффектом. Григорий подумал: «И чего мог рассказать Демиденко о Старике, он же его знает лишь по партизанской жизни, а я перед войной с Петькой Игониным из одного котелка щи хлебал».
Алехин теперь, что называется, ел глазами Игонина, и тому это было неприятно. Он заторопился уходить. Пообещал Демиденко навести справки где следует, а главное, помочь хоть на бумаге вычеркнуть из биографии штрафной батальон. К сожалению, из жизни этого вычеркнуть уже нельзя.