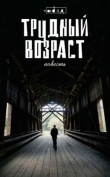Текст книги "Трудный переход"
Автор книги: Михаил Аношкин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
Подъем был опять чуть свет. Григорий только успел забыться, как надо было уже вставать. Сбросил сонливость, пружинисто вскочил на ноги и выбежал из клуни.
Солнце едва поднималось. Розово зажгло верхушки деревьев. В лесу было еще сыро и сумеречно. Над рекой плыли клочья молочного тумана. Деревня на той стороне все еще горела, хотя, казалось, там и гореть-то уже нечему было. Сизый дым пожара смешивался с туманом.
Тишина. Григорий поставил свой паром под погрузку на старом месте; метрах в ста – ста пятидесяти от островка.
Сразу же на паром вскарабкалась машина. Солдаты закатили прицеп-кухню, в топке которой весело потрескивал огонь, а из трубы курился сизый дымок.
Проделали первый рейс. Когда встали под новую погрузку, кругом вдруг задрожало. Ишакин испуганно пригнулся, вобрав голову в плечи. Файзуллин смотрел на небо. Григорий тоже поднял голову. Летели огненные стрелы. Это снова били «катюши».
Никто не работал, все наблюдали за необыкновенным зрелищем. Андреев вдруг вспомнил рассказ одной крестьянки, как она впервые видела стрельбу «катюш».
– В хате я сидела, батюшки мои. А тут как учнет грохотать, как учнет, а под самыми окнами, батюшки мои, огненные мечи полощут, да страшно так. Освятила я себя крестным знамением да на пол легла. Ну, думаю, конец света настал, архангел Гавриил на землю спустился.
Солдаты обычно говорили, услышав скрежет гвардейских минометов:
– «Катюша» играет!
Туго приходилось фашистам, когда начинала «играть «катюша». Ишакин хлопнул себя по колену и сказал:
– Не позавидуешь фрицам, нет, не позавидуешь!
И на душе стало веселее. От яблоневого сада по дороге к переправе устремилась колонна странных машин – они были неуклюжие, чем-то напоминали лодки, только на колесах, сухопутные.
Это были машины-амфибии. Они катились к речке на небольшой скорости, штук десять, и в каждой – не менее отделения автоматчиков.
Появился Курнышев. Поздоровавшись, встал рядом и спросил для порядка:
– Как дела?
– Нормально, товарищ капитан, – ответил Григорий, с любопытством присматриваясь к приближающимся амфибиям. – Сегодня с утра нас удивляют: сначала «катюши», теперь вот амфибии.
– Расширяют плацдарм, – сказал Курнышев. – На левом фланге, за деревней, наши продвинулись далеко вглубь, а здесь, прямо, противник цепляется за увал.
Головная машина-амфибия с рифлеными боками спустилась к реке и осторожно, будто кряква грудью, сунулась передними колесами в воду, вроде бы замерла на минуту. И вдруг смело легла на воду и свободно поплыла, оставляя за собой белый бурунчик. За ней легла на воду вторая, и так они выстроились друг за другом гуськом. Неожиданно одна из машин, не доходя до воды, выскочила из цепочки и, приблизившись к парому, остановилась. Через борт ловко перевалился коренастый подполковник и подбежал к Андрееву.
– Здорово, Гришуха! – радостно воскликнул подполковник. – Вот так встреча!
Андреев в первую секунду растерялся. Он знал, что где-то здесь воюет Петро Игонин и что с ним не исключена встреча, раз уж Ишакин видел Анюту, но чтобы эта встреча была вот такой, быстротечной, он даже и не представлял. Иначе какой же она может быть, если у Григория под погрузкой стоит паром, а Игонина ждет машина, готовая переправить его на ту сторону. Там Петра, конечно, ждут такие хлопоты, какие Григорию, может быть, и не снились.
Но Андреев поборол растерянность и с любопытством взглянул на друга, своего старого доброго друга, с которым когда-то хлебали из одного котелка и делили пополам последнюю папиросу. Было… А потом военная судьба усиленно разъединяла их дороги. Подполковник. Солидный, без орденов, видимо, в чемодане возит их, только пламенеет на груди гвардейский знак, тоже гвардейцем стал. Бороды нет, потому заметны на горле шрамы. Когда-то немецкий офицер сильно порвал кожу, стараясь задушить Петра. И эти шрамы делали его чужим, незнакомым, хотя глаза остались прежними – озорными и умными. Но в них заметно пробивались озабоченность и усталость. У кого не было этой усталости? И совсем неузнаваемым делали Петра пшеничные усы. Бороду сбрил, а вот усы зачем-то оставил. Петру, если Григорий не ошибается, двадцать четыре года, а можно дать все тридцать.
Игонин протянул Григорию руку, но потом вдруг схватил его за плечи, от души стиснул и, не в силах погасить радостную улыбку, спросил:
– Воюем, значит?
– Надо, – ответил Григорий. – Время такое.
– Вижу, исправно воюешь. – Петро глазами показал на орден и медаль, поблескивающие на гимнастерке Андреева.
– Как могу.
– Эх, поговорить бы нам с тобой, – вздохнул Игонин. – Душу бы отвести, вспомнить сорок первый, но вот, понимаешь, незадача! Тыщу лет не виделись, а встретились – поговорить некогда. Твоя посудина? – кивнул Игонин на паром.
– Моя.
– Ничего, после войны встретимся, поговорим. Вдоволь. Или в Берлине встретимся, а?
– Где-нибудь встретимся, – улыбнулся Григорий.
– Послушай, дружище, – вдруг оживился Игонин, – идея возникла. Хочешь, я тебя в нашу дивизию переведу, ко мне в разведотдел, а?
– Спасибо, польщен, но не надо.
– А чего? Поговорю с полковником Смирновым, и он мигом все устроит. Зато вместе будем. Все же мы с тобой побратимы. Помнишь, как через Беловежскую пущу пробирались, когда нашего капитана Анжерова убило?
– Недавно я с его сестрой встречался.
– Что ты говоришь?! Вот был человек!
Григорий был удивительно спокоен, будто сейчас судьба его свела не с Петром Игониным, а с чужим подполковником Игониным, с которым встретился невзначай при исполнении служебных обязанностей. Да, Петька Игонин, закадычный друг, остался там, в сорок первом году. Ничего не поделаешь, как говорят французы, – такова жизнь. В сорок первом сроднило их одно трудное дело, прикипели они тогда друг к другу так, что при вынужденном расставании оба чуть не разревелись. А потом шагали по разным дорогам, не было у них общих переживаний, не лежали они рядом под пулями, не прятались вместе от вражеских бомб. И вдруг – в Брянских лесах нечаянная встреча.
Было даже удивительно – легендарный Старик, партизанский разведчик, о котором Григорий был еще наслышан на Большой земле, оказался не кем иным, как Петром Игониным, закадычным другом. И хотя встреча в лесу до слез взволновала Григория, и хотя он был безмерно рад, что Петро сделался таким отчаянно знаменитым партизаном, но уже тогда Андреев почувствовал главное – близкая, закадычная дружба осталась в сорок первом. Они были тогда рады встрече, но то была радость за совместное прошлое. Общего настоящего у них не было: ни общих друзей и знакомых, ни общих интересов и заданий. Дружба не может питаться только прошлым, она должна подкрепляться и сегодняшним. Боль от этого перегорела еще в Брянском лесу, и сейчас Григорий был спокоен.
Согласиться на предложение? Петро сделает все, и завтра же Григорий будет под его началом. Но зачем? Одно дело – разность их положения, а другое – они же начисто отвыкли друг от друга. А батальон для Григория – родной дом, и все эти ребята – его родная семья. Как это можно все бросить?
Петро посмотрел на Григория с теплой улыбкой и сказал:
– Ладно, Гришуха, я тебя понял без слов. Считай, что я тебе ничего не предлагал. Так?
– Конечно! – улыбнулся Андреев.
Шофер амфибии поторопил:
– Товарищ подполковник, мы уже отстали.
– Эх, черт, – вздохнул Игонин. Действительно, на этом берегу осталась всего лишь одна машина. Остальные цепочкой растянулись поперек реки, и головная уже вылезала на песчаный противоположный берег. – Давай твою мужественную, – грустно сказал Игонин и ударил своей ладонью по ладони Андреева. Хлопок получился гулкий, как пистолетный выстрел. – Посидеть бы нам с тобой в укромном месте, с глазу на глаз. Но не судьба! В лесу я тогда еле жив был. Сейчас секунды лишней нет. Ну, до встречи!
– Хочу спросить.
– Крой.
– Сташевскйй с тобой?
– Федя? – переспросил Игонин и нахмурил брови. – Был. Но нету больше Феди.
– Как нету? – спросил Григорий.
– А так. Ходил в разведку в тыл фашистам и в чем-то сплоховал. Схватили и замучили, гады. Вот так, брат Гришуха. А я ведь женился.
– Догадываюсь.
– Смотри ты какой провидец!
– Не в этом дело. Просто один наш парень вчера видел Анюту, вот я и догадался. Сразу понял – ты здесь, вот только не ожидал, что так встретимся.
– Как?
– Да так: здравствуй – прощай.
– Война, Гришуха, все она, проклятая. Живи, не поддавайся курносой, до конца уже недалеко! Бывай!
Игонин подпрыгнул, перебросил свое тело через борт амфибии и устроился рядом с шофером. Машина взяла скорость, с маху влезла в реку и поплыла, железной грудью рассекая воду. Шофер торопился. Остальные машины все выбрались на берег и двигались в направлении деревни.
На середине реки Игонин обернулся и помахал рукой. Григорий ответил. Курнышев, молча наблюдавший за встречей друзей, спросил:
– Откуда его знаешь?
– Воевали вместе, давным-давно.
– Так это же, товарищ капитан, Старик, – встрял в разговор Ишакин – он был на пароме, а сейчас спрыгнул на землю и скручивал цигарку. – Юра Лукин к нему прибился, в лесу-то, когда не вовремя сиганул из самолета.
– Постой, постой, – вспомнил капитан. – Так ведь о нем тогда воронинцы еще рассказывали. О нем?
– Так точно, товарищ капитан, – подтвердил Ишакин и попросил у Андреева огонька. – Знаменитый подполковник!
– Мы до войны служили в одном отделении, войну начали под Белостоком, а потом с боями прорывались из окружения, – пояснил Григорий.
– А я думаю, откуда начальник разведки дивизии тебя знает, а у вас, оказывается, дружба давнишняя, – заметил Курнышев.
Значит, Анюта рядом с Игониным, любовь у нее покоряющая – не устоял перед нею Петро. И Григорий по-хорошему позавидовал товарищу. Такую девушку взял в жены! В отряде Давыдова многие были в нее влюблены, и каждый бы посчитал себя счастливым всегда быть рядом с нею. Такое вот счастье привалило Петру. Ему вообще здорово везет. А Сташевского вот нет. Был робким, застенчивым парнем, маменькиным сынком, тепличным растением. Сделался опытным разведчиком, один ходил за «языками», не боялся ни черта, ни дьявола, был самым близким помощником Старика.
И нет Сташевского…
Долго еще находился Григорий под впечатлением встречи.
День на переправе катился спокойно. Немцы постреливали изредка, неприцельно, скорее всего, для острастки. На берегу появились новые воинские части со своими средствами переправы. На реке стало особенно людно и шумно. И по всему было ясно, что не завтра, так послезавтра советские войска отбросят фашистов на запад и на Висле навсегда кончится боевая страда.
Вечером стряслось то, чего никто в роте не ожидал. Капитан заявил Григорию, что это будет последний рейс и взвод может идти отдыхать. Ночью поработают еще хлопцы Черепенникова. Завтра батальон сам переправится на ту сторону, где его надет новое задание. Приказ уже получен.
Солнце клонилось вниз, к лесу. На бугре то и дело взлетали ракеты – то зеленые, то красные, то оранжевые. Вспыхивали в синем небе и гасли, рассыпаясь на мелкие огненные капли. Это немцы тешат себя напоследок. Ночью они сами уберутся с бугра. Или вдруг начинал частить пулемет, да еще трассирующими пулями. Они стаями неслись над лесом, быстрые и разноцветные. Темный лес, подернутая дымкой река, уходящая в лиловую от пожарищ даль, синее небо и мчащееся бешено разноцветье трассирующих пуль: зрелище!
На западном берегу сгрузили с парома ящики со снарядами, и старший лейтенант, сопровождавший боеприпасы, махнул Андрееву рукой:
– Отчаливай, лейтенант! Спасибо!
Понтон снова закачался на воде. Бойцы лихо нажимали на весла: последний рейс! Вообще последний на этой реке. Сколько еще рек встретится на пути, никто не подсчитывал, но на этой – последний! Тяжело пришлось саперам, побывали они в огненном переплете, но все позади. Старшина выдаст по сто граммов наркомовских, сытно накормит повар – пусть даже своим белорусским кулешом. И можно будет на боковую, покемарить минут шестьсот, если выразиться словами Ишакина. А утро вечера мудренее. Ишакин бинты с ладоней сбросил. Вместо мозолей у него появились жесткие надавы, которым теперь любая нагрузка не страшна. Файзуллин посмеивался: мол, поработал бы ты еще недельку так-то, и стали бы у тебя руки настоящими, рабочими.
– А у меня сейчас ненастоящие? – спросил Ишакин, подозрительно покосившись на татарина.
– Настоящие, да не совсем.
– Темнота, – усмехнулся Ишакин. – Не знаешь, какие у меня были руки. Попался бы мне на гражданке, где-нибудь в людном месте, мигом бы остался без штанов – и не заметил бы.
– Шибко хорошо врешь, – улыбнулся Файзуллин.
– Если хочешь знать, меня один фокусник звал к себе работать, помощником своим. Скумекал?
– Ловкость рук и никакого мошенства?
– Гляди ты – угадал ведь!
Паром добрался до середины реки, когда немцы неожиданно начали обстрел. Весь день почти молчали, а тут их вдруг прорвало. На реке было пустынно, торчал лишь один андреевский паром, тихоходная колымага. Багрово полыхал закат. Красноватые отблески переливались в быстрых струях воды. Вспыхивали и гасли на увале ракеты.
Обстрел сосредоточился на пароме. Уже третьим бризантным снарядом посекло надувные лодки, и настил плотно лег на воду. Андреев скомандовал:
– В воду! Прыгать в воду! До берега добираться вплавь. Живо!
Когда паром опустел, Григорий нацелился было прыгнуть, но что-то сильно и тупо ударило его по ноге. Григорий свалился на настил. Хотел подняться, но над головой гулко треснул новый снаряд, и опять безжалостно ударило по ноге, по той же, по левой, будто специально в нее целили.
Андреев потерял сознание. Очнулся в клуне. Лежал на тех же санях, на которых вчера бинтовали Юру Лукина. Знакомая медсестра совала Григорию под нос пузырек с нашатырем. Доктор грубо копался пинцетом в коленке, и такая острая боль пронзила Григория и надолго застряла в мозгу, что он уже не мог кричать и только скрежетал зубами.
– Терпи, мой друг, – успокоил доктор, не прекращая копаться в ране.
Медсестра облегченно вздохнула:
– Слава богу, отудобел.
Под раненую ногу положили доску, которую доктор назвал по-своему – шиной. К ней накрепко прибинтовали ногу. Курнышев положил в полевую сумку Андреева партийный билет и офицерское удостоверение. Все эти документы, пока лейтенант работал на переправе, хранились у старшины.
У капитана тоскливо блестели глаза. Он в мучительном раздумье тер пальцем переносицу, и она у него покраснела. Хотел что-то сказать, но, видимо, не нашел подходящих к обстановке слов и лишь сухо отдал приказ отвезти раненого в медсанбат.
Григория уложили в двуколку, на которой в свое время отвезли Женю Афанасьева и Васенева. Курнышев хрипло сказал:
– Поправляйся. Будем ждать. – И как-то заметно ссутулившись, добавил: – Эх, Гриша, Гриша… – и зашагал к реке, где приступал к работе взвод Черепенникова.
Уже смеркалось.
На всю жизнь Андреев запомнил слезы Ишакина. Он стоял поодаль и плакал. Ничего поделать с собой не мог. Потом, как-то странно заикаясь, сказал:
– Про-щай, старшой, – он и назвал-то его по старинке.
Файзуллин молча пожал Григорию руку.
Стуча на ухабах, двуколка повезла Андреева в медсанбат.
ГОСПИТАЛЬ
Андреев очнулся вдруг, будто вынырнул из омута. Открыл глаза и увидел над собой голубое небо. Там в глубине парил коршун. Повозку, на которой везли Григория, покачивало из стороны в сторону, колеса постукивали о камни.
Вдруг к горлу подступила тошнота, в глазах замутилось, а на языке почувствовалась противная кислость.
Григорий опять устало закрыл глаза. Ездовой свистнул на лошадь.
– Но, но, саврасая!
Лошадь перешла на мелкую рысь. Повозку затрясло сильнее. Но лежать было мягко. Ездовой не поскупился наложить сена. Оно пахло духовито. Именно в эту минуту Григорий почувствовал боль в левой ноге. Хотел ее передвинуть – и не мог, чуть не взвыл от рези в коленке.
И вспомнил все. Багровый закат на Висле, разноцветные всполохи ракет, четкие пунктиры трассирующих пуль и гулкие разрывы снарядов над головой. Это воспоминание горячило воображение.
Но дикая боль в ноге возвратила его к действительности. Вспомнил медсанбат, пожилую усталую докторшу с майорскими погонами, деловито готовящуюся к операции. Некрасивая медсестра положила Григорию на рот и нос марлю, пропитанную какой-то жидкостью, пахнущей остро и неприятно, и сказала:
– Считайте, больной. – Григорий не понял, она повторила и добавила: – Вслух.
Он стал считать и чувствовал, как голубая дремота обволакивает мозг, как он легко и свободно летит куда-то далеко и от докторши, и от медсестры. И он провалился в это немыслимое далеко и пробыл там долго. За это время ему сделали операцию, уложили в повозку. Он проспал всю ночь, все утро и очнулся только что. Его мутило от того острого приторного запаха, от которого он тогда уснул, и тошнота снова подкатывала к горлу.
Григорий не мог повернуться к ездовому, не имел сил сесть, а ему было плохо. Хотел крикнуть, но из горла вылетел хрип:
– Погоди же!
Этот чуть слышный хрип ездовой все-таки услышал и повернулся к раненому.
– Никак очухался? – удивился он.
– Пить, – попросил Григорий.
– Пить тебе, сынок, не положено, докторша наказывала, не то муторно станет.
– Мне и так муторно.
– Знамо! Усыпили – еле проснулся. Гадко. Бывал в твоем положении, еще в германскую тую войну. А яблочко можно.
Ездовой протянул Григорию краснобокое крупное яблоко, и тот почему-то вспомнил, как Воловик угощал его зеленой «мамой-кисой». Ездового Андреев видеть не мог, потому что лежал к нему головой. Но обратил внимание на руку, протянувшую ему яблоко. Она была морщиниста и крепка, задубела на солнце и ветру. По таким рукам можно читать, как по книге. Пожилой человек, воевал еще в первую мировую и, конечно, в гражданскую. Пахарь. Отец солдата. И снова вот на войне.
Григорий взял яблоко и вонзил зубы в сочную брызжущую мякоть. Во рту сразу посвежело, и стало легче.
– Куда вы меня везете?
– В Люблин, куда же еще? Всех раненых туда везут.
– Далеко еще?
– Считай, половину проехали. Дать тебе еще яблочко?
– Пока не надо.
– Глянь, какая тута благодать. Дорога, а скрозь ее с той и этой стороны – яблони. Яблоки – ешь не хочу. У нас ветла, либо тополь, а здесь яблони. Куда как хорошо!
В Люблин приехали в середине дня. Остановились во дворе трехэтажного из красного кирпича здания, на вид немного мрачноватого. Григория сняли с повозки на носилки, и только теперь ему удалось разглядеть лицо ездового. Ему, наверно, под пятьдесят, у висков расходятся улыбчивые морщинки.
Ездовой улыбнулся, обнажив еще крепкие, но пожелтевшие зубы, и кивнул головой: мол, не журись, сынок, поправляйся поскорее, у тебя еще все впереди.
Андреева заносили в помещение, когда ездовой догнал его и положил прямо на грудь три краснобоких яблока:
– Ешь, сынок, они пользительны.
Григория устроили в палату, где стояли четыре койки. Ему досталась койка у двери. На двух других, возле окна, лежали раненые, а вторая у двери хотя и пустовала, но хозяин у нее был: видимо, где-то прогуливался.
Андреев, очутившись на койке, впал в полуобморочное состояние. Вроде бы какой-то туман пьянил его мозг, и Григорий барахтался в этом тумане, но вместе с тем видел и слышал все, что делалось вокруг, но воспринимал без интереса, как будто все это было не для него. Машинально отвечал на вопросы дежурного врача, безропотно подчинялся сестре, которая измерила ему температуру и сунула в рот противный порошок, дав запить безвкусной кипяченой водой.
Потом он уснул. Возможно, проспал бы до утра, но среди ночи его разбудила тихая, но въедливая суетня.
В палате было темно, но чувствовалось, что никто не спал. По коридору раздавались шаркающие шаги многих ног, приглушенный говор. Вдруг где-то загрохотало, по стене запрыгали багровые блики, и Григорий догадался – начался ночной налет немецких бомбардировщиков на город. Грохотали зенитки, по небу метались лучи прожекторов. Далеко, но сильно ухнуло.
Раненые, которые могли ходить, торопились в бомбоубежище. Тех, которые не могли подняться, санитары уносили на носилках.
На койке, что стояла с андреевской в один ряд у окна, послышались всхлипывание и горячий шепот:
– Ну чего же они, ну где же они? Ну, санитары… Ну, идите же сюда!
Его сосед недовольным баритоном проговорил:
– Хватит ныть, Алехин. Стыдно.
– Налет же…
– Ты не один, терпи.
– Санитары! – обессиленно простонал Алехин, и Григорию захотелось зажать ему рот – так остро действовал его стон на нервы.
Санитары в конце концов появились. Они остановились у койки Андреева. Напротив койка пустовала. Ее хозяин сам ушел в бомбоубежище сразу же, как начался налет.
– Оставьте меня, – отмахнулся от санитаров Григорий.
– Меня! Меня! – обрадовался Алехин, а баритон насмешливо поддержал:
– Унесите вы его, ради бога. И можете не приносить.
Санитары не стали мешкать. Они понесли нытика в бомбоубежище, а тот поторапливал:
– Ну, быстрее же!
Один из санитаров в дверях спросил у баритона:
– За вами приходить?
– Обойдусь!
Зенитки стреляли чаще и злее. Прыгали на стене отсветы от прожекторов. Сквозь зенитный тарарам можно было услышать нудное завывание моторов. Значит, самолеты приблизились к этой части города. Совсем недалеко тяжело ухнула бомба. Григорий спиной почувствовал, как вздрогнуло здание. В окне жалобно звенькнуло стекло. Самолетный гул нарастал. Скороговоркой частили зенитки. Баритон сказал:
– Тут, милый мой, не заскучаешь.
– Часто налетают? – спросил Григорий.
– Иногда.
– Давно здесь?
– Неделю. Скажу честно – страшно боюсь бомбежек. Чувствую себя беспомощной козявкой.
– Я тоже.
– Плохой был, когда тебя принесли. Где зацепило?
– На Висле.
– И меня там. У двух островков переправлялись.
В это время бомба разорвалась совсем близко. Раздался треск, звякнули разбитые стекла, но в других палатах. В окне этой палаты стекла уцелели.
– Могла и нас зацепить, – констатировал баритон.
– Вполне.
– Давно воюешь?
– С первого дня.
– Порядочно! Этот, который ныл, и дня не воевал. Попал на передовую, в тот же день ноги осколками перебило. Молокосос еще.
Зенитная пальба стала потихоньку ослабевать. Самолеты улетели. Наступила наконец тишина. Живое притаилось, тревожно прислушивалось: вернутся бомбардировщики или нет? По коридору кто-то пробежал, хлопнула дверь. За окном погасло, сизая темень прильнула к стеклу.
– Все, – сказал Григорий. – Отбой.
– Могут вернуться. Позапрошлую ночь прилетали дважды.
– Ночевать будут в бомбоубежище?
– Обязательно. Попробуй потаскай лежачих с этажа на этаж. В первую ночь меня тоже сволокли в бомбоубежище. Пока несли, все потроха вытрясли. Думаю – шалишь, дураков больше нет. Если в эту домину хрястнет бомба, то там, внизу, будет тоже не малина.
– Но безопаснее.
– Обязательно! С какого года?
Григорий ответил.
– Мало вас осталось. Я заметил – среди раненых нет рождения девятнадцатого, двадцатого и двадцать первого годов. Либо старики, как я, либо молокососы, как наш сосед. Страшно подумать: целое поколение вырубила война, и какое поколение – самое цветущее! Ты, наверно, во всем госпитале один, ровесников себе не найдешь.
– Может, и не один.
– Наверняка не найдешь. Не заговариваю?
– Спать все равно не хочется.
– Какое у тебя звание?
– Лейтенант.
– Я старший. У меня дружок уже майор.
«А у меня дружок, – подумал про себя Григорий, – уже подполковник». Но вслух сказал:
– Воевать можно в любом звании.
– Само собой. Но я два года под немцем был.
– В партизанах?
– Не совсем. У одной вдовушки под крылышком, в мужья к ней пошел.
– Как в мужья?
– А так.
– Погоди, и в партизанах не был?
– И был, и не был.
Григорий не нашел, что сказать. «Ну и фрукт, – подумал он. – Подался в мужья, ко вдовушке, в партизанах был и не был, два года под немцем кантовался. А люди воевали».
Постарался представить собеседника. Какой он? Голос вроде симпатичный, наверно, песни умеет хорошо петь. Такой может принадлежать только мужественному человеку.
А услышал про вдовушку – что-то перевернулось в воображении, словно бы вдруг заменили одну картинку другой. Такой баритон может быть и вкрадчивым, и елейным, и вообще человек, обладающий им, скорее похож на лису, которая умеет вывернуться, приспособиться, и физиономия у него, конечно, лисья.
– Уснул? – спросил баритон.
– Нет.
– Наверно, подумал, что я прятался от войны?
– Вообще-то, конечно, странно.
– Чего же странного?
– Весь народ воюет, даже дети и женщины.
– Воевать можно по-всякому.
– Вот именно. Одни идут под пули, на амбразуру кидаются, а другие за их спинами прячутся. И тоже считается, что воюют.
– Ладно, я на тебя не в обиде, лейтенант, хотя ты сказал такое, на что я мог бы обидеться. Давай-ка лучше соснем. Поговорить у нас времени хватит.
У Григория тоскливо сжалось сердце. Были у него боевые друзья-товарищи, многое с ними пережил, побывал во всяких переплетах. И вот один. Некоторые друзья погибли, другие мотаются по госпиталям, а третьи продолжают идти вперед.
На фронте тоже тревожная ночь. Что-то делает Курнышев со своей ротой, чем заняты Ишакин с Файзуллиным? Кого капитан назначил командиром первого взвода? Стряхнуть бы с себя эту немощь, по-волшебному молниеносно исцелить бы рану – и к своим друзьям! Не стал бы ждать ни попутной машины, ничего, бегом бы помчался искать родную роту. Пришел бы к Курнышеву и сказал: вот он я, прошу дать боевое задание! Просто, а сделать невозможно. Как невозможно воскресить чистюлю Трусова, вернуть в саперы Мишку Качанова, сделать снова солдатом лейтенанта Васенева.