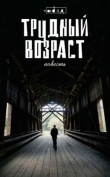Текст книги "Трудный переход"
Автор книги: Михаил Аношкин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
ЗЕМЛЯК
Андреев забылся под утро. Проснулся, когда санитары принесли Алехина. Григорий успел заметить наголо остриженную круглую голову, а лица увидеть не удалось, потому что его закрыла широкая спина санитара. Алехин, очутившись на койке, облегченно вздохнул, что-то хотел сказать, по, видимо, постеснялся.
– Наглотался страху? – спросил баритон.
– Не смейтесь.
– Я не смеюсь, а сочувствую.
Четвертый обитатель палаты, появившийся следом, был в халате, надетом прямо на нательное белье. Густобровый, хмурый. Сел на койку, опустил между коленей руки и задумался. Так просидел до тех пор, пока не пришли лечащий врач и медсестра. Врач был высокого роста, халат туго обтягивал плечи. Григорий обратил внимание на сапоги. Они были начищены до зеркального блеска. Во взводе так чистил свои сапоги только Трусов. Вспомнив его, Григорий закрыл глаза. Слышал, как врач остановился у койки соседа:
– Самочувствие, Веденьков?
– Плохое, – отозвался тот глухо.
– Почему?
– Обрыдло. Я же здоров! Целыми днями шатаюсь с этажа на этаж, из палаты на улицу и обратно. Сбегу.
– Так и сбежишь?
– А что? Завтра и сбегу.
– Почему не сегодня?
– Могу и сегодня.
– Валяй. Разрешим ему, Света, бежать?
– Пусть бежит, Андрей Тихонович.
– Сегодня же выдать обмундирование и документы. Доволен?
– Спасибо, товарищ военврач!
– Воюй и больше сюда не попадай. Хватит с тебя. Третий раз ранен?
– Четвертый, товарищ военврач.
– Ну, до победы!
Доктор и сестра придвинулись к койке Андреева.
– Молодой человек! – позвал доктор, и Григорий открыл глаза. Ахнул от удивления: а врач-то знакомый, земляк, черт возьми! Всю войну прошагал по фронтовым дорогам, мечтал встретить земляка и никого не встретил. И вдруг – земляк! То-то ему знакомым показалось имя – Андрей Тихонович, да вот не придал значения. Виски седые, а перед войной седины не было, это Григорий хорошо помнил. Глаза усталые, цвета березовых почек – иссветла-коричневые.
Андреев смотрел на него, радостно. Узнает или нет? Нет, конечно, мало ли знал доктор Кореньков кыштымских ребят, только ведь не всех помнил. И времени столько прошло.
– Вижу, самочувствие отличное, – улыбнулся Андрей Тихонович. – Хорошо.
Ловко откинул одеяло, обнажая ноги, спросил Свету:
– Куда?
– В голень, Андрей Тихонович.
– После обхода – в перевязочную.
Девушка рядом с доктором кажется миниатюрной. И на лицо симпатичная. В левой руке у нее блокнот, а в правой – карандаш. Записала распоряжения Коренькова и с любопытством покосилась на Андреева.
А Григорию хотелось сказать: «Здравствуйте, товарищ Кореньков, я же ваш земляк, не узнаете?» Но промолчал.
Военврач уже спешил к Алехину. Обычно спросил:
– Как дела?
– Болит…
– А ты как думал? Заиметь такие дырки на ногах и чтоб не болело?
– Я ничего…
– Он, товарищ военврач, бомбежек боится, – отозвался баритон.
– А ты что, Демиденко, не боишься их?
– И я, товарищ военврач, боюсь.
– Спасибо за откровенность. Это мука – лежать прикованным к постели, а в это время в тебя бомбы кидают. Верно, Алехин?
– Так точно, товарищ военврач, боязно.
– Были бы здоровые ноги, убежал бы, спрятался бы, а тут – лежи. Но ничего, Алехин, сегодня зенитчики трех сбили, завтра, если прилетят, десять собьют. И пусть попробуют сунуться еще. Город освобожден недавно, а теперь налаживают противовоздушную оборону.
Кореньков осмотрел Алехина и Демиденко, перевязки им пока не назначил и собрался уходить. Тогда Андреев, преодолев волнение, проговорил:
– Разрешите обратиться, товарищ военврач?
– Что у тебя?
– Вы из Кыштыма, я знаю.
– Правильно. Земляк?
– Да.
– Как, говоришь, твоя фамилия?
– Андреев.
Доктор смешно собрал на лбу морщинки и неожиданно улыбнулся, широко так, приветливо:
– Помню. Ты у Анны Сергеевны немецкий язык изучал?
– Так точно! Мы с вами на охоте встречались, на Разрезах, помните? В сентябре сорокового?
– Может быть. Гляди, Света, первого земляка за войну встретил, а сколько через мои руки раненых прошло!
– И я тоже первого!
Андрей Тихонович и Света ушли. Демиденко, обладатель баритона, спросил:
– Повезло тебе, лейтенант. Где же такой Киштим?
– Кыштым, – поправил Андреев. – На Урале, возле Челябинска.
Вскоре Григория унесли на перевязку. Света в белой косынке ловко принялась разбинтовывать ногу. В медсанбате, после операции, Григорию положили под ногу деревянную шину, и она была очень неудобной, потому что не сгибалась. Сейчас, когда Света сняла ее, ноге стало легче, Григорий даже вздохнул облегченно. Появился Кореньков. Он рывком содрал с раны тампон, аж слеза прошибла, так было больно. Потом обжал края раны прохладными пальцами и один раз так сильно нажал, что Григорий непроизвольно ойкнул.
– Думаешь, если я земляк, так от боли освобожу?
– Ничего я не думаю, – сердито отозвался Андреев, его все еще сверлила колючая боль.
– И то хорошо. Не обещаю, что будешь брать призы в марафонском беге, но на охоту ходить будешь вполне.
– Спасибо.
– Я ни при чем. Могло всю коленную чашечку разнести, да не разнесло, слава аллаху. И я вспомнил – я возглавлял врачебную комиссию, когда тебя призывали. У тебя был аппендикс.
– Так точно!
– Операцию делал не я, в армию ты уехал позднее других. Правильно?
– Сходится, товарищ военврач.
– Ну вот, а ты говоришь, что я не помню тебя.
– Не говорил я этого.
– Вслух не говорил, а про себя.
На ногу наложили специальную проволочную шину, и она пришлась впору, ноге было лучше.
В палате Григорий отдышался от перевязки. Рану обработали спиртом, что ли, и ее сильно саднило. Был свет не мил, и Григорий не отвечал на вопросы, которые задавал Демиденко. Тот, в конце концов поняв, что соседу худо, умолк.
Когда боль успокоилась, Андреев стал думать о Коренькове. Анна Сергеевна, его жена, преподавала немецкий язык. Григорий у нее учился. Сначала в пятом и шестом классах, потом в педучилище. Когда она появилась в педучилище, по классному журналу сверила, нет ли здесь прежних учеников, и нашла Андреева. Вызвала, а он отвечал урок туго. Она сказала:
– Недовольна тобой, Андреев, весьма. Живешь старым багажом, а он у тебя невелик. В шестом знал столько же, сколько сейчас. Придется подтянуться.
Но с немецким у него так и не клеилось.
Врача в городке знал и стар и мал. У него лечились. Ходили за советом. Он жил общей жизнью с кыштымцами, ничем не выделяя себя. Ходил на охоту, удил рыбу, сажал картошку в огороде, разводил малину. И это нравилось. Андрей Тихонович, по твердому убеждению кыштымцев, мог любого вылечить от недуга и этим как бы возвышался над всеми. Но вместе с тем с ним можно было расхлебать на берегу лесного озера уху из окуней, потолковать, как лучше обрезать и укрыть на зиму малину, заночевать у костра на охоте. Рабочие люди ценят человека за знания и умение, но они любят его, если он к тому же прост и понятен, как и все.
Вот таким и был врач Кореньков, и, конечно же, Григорий знал его. И удивлялся тому, как это Андрей Тихонович умудрялся запомнить чуть ли не каждого кыштымца.
Осенью сорокового Григорий собрался в армию. Напоследок, в теплый сентябрьский денек, решил с друзьями сходить на охоту. За горами Егозой и Сугомак, в долине, есть озеро, которое называется Разрезы. В давние демидовские времена на этом месте пробили шахту и добывали железную руду. Потом руда иссякла, рудник забросили. Пробились грунтовые воды и затопили выработки. Получилось довольно большое озеро. По осени здесь жировали утки. В то время охотники туда заглядывали редко, потому что далеко было идти.
Друзья пришли на Разрезы вечером, наловили окуней и расхлебали уху. Недалеко от озера в свое время покосники построили балаган с камином, в нем-то и решили скоротать ночь. Улеглись спать на устланные духовитым сеном нары пораньше, чтоб встать с рассветом и пострелять на зорьке. Не успели заснуть, как в дверь забарабанили. Колька Бессонов спросонья крикнул:
– Кого там несет?
– Открой!
Бессонов нехотя вытащил из скобы двери палку и впустил ночного гостя. В камине еле заметно тлели угли, покрытые жирным слоем пепла. Вошедший чиркнул спичку и поднял над головой, и друзья узнали доктора Коренькова. Тот шумно улегся на краю нар. Но спать уже не хотелось. Бессонов закурил и закашлялся.
– Я бросил, – послышался из темноты глуховатый голос доктора. – Курил страсть как много. Даже принято считать, что люди моей профессии обязательно должны курить. Но почему? Как-то отправился на охоту, а воздух такой изумительный – и землей пахнет, и травами разными, и горным ветром. А я добровольно отравляю легкие никотином. Зачем? И бросил.
– Сразу? – усомнился Бессонов.
– Как отрезал. Вам сколько лет?
Андрееву было восемнадцать, а двум другим – по семнадцати.
– Молоды. И курить не привыкли еще. Бросайте, мой совет. Вам же столько предстоит в жизни – сами не представляете, потребуется железное здоровье.
– А что предстоит? – не унимался Бессонов.
– Как что? Целый непознанный мир перед вами. Кто же его будет познавать, если не вы?
– Трудно!
– Труднее, чем сшибить на лету утку. Но необходимо. Вы когда-нибудь обращали внимание на ночное звездное небо? Не вглядывались в него?
– Нет.
– Э, да вы не любопытные. А я иногда смотрю, и у меня холодок по телу пробегает. Сколько скрыто тайн! Немыслимо! Может, в какой-нибудь другой Галактике, на такой же планете, как наша, вот так же лежат четыре охотника и гадают – есть на других звездах жизнь или нет? А?
– Здорово!
– То-то и оно!
И всю ночь, до рассвета, они слушали откровения Андрея Тихоновича. Ни в одном глазу спать не манило. Раньше ребята считали, что Кореньков только лечить людей умеет, а он еще мечтать горазд. С той памятной ночи Григорий бросил курить, но в армии опять научился.
БУДНИ
Веденьков, сосед по палате, пришел попрощаться. Одет в офицерскую форму, на плечи накинут халат. Из тумбочки переложил свои пожитки в вещевой мешок, энергично поднял правую руку, сжатую в кулак, и сказал:
– Рот фронт, славяне! До встречи в Берлине! – и вышел, непривычно громко стуча сапогами.
– На фронт, – вздохнул Алехин, и не разберешь – то ли он сочувствовал, то ли завидовал.
– Не завидуй, – сказал Демиденко. – В полку выздоравливающих насидится, ремешок потуже придется затянуть. Харчишки там неважнецкие.
– Он напрямую – в свою часть, – возразил Андреев. Ему обязательно хотелось возражать баритону. Это после того, как узнал, что тот два года отирался возле жалостливой вдовушки, когда другие воевали.
– Я к слову. Главное – нам загорать и загорать здесь.
– Мало веселого, – подал голос Андреев.
– Само собой.
– А немец, он какой? – это опять Алехин, наивен парень до чертиков.
Какой немец? Фашист, ясное дело, разбойник с большой дороги. Григорий так и сказал. Выждав паузу, проговорил и Демиденко:
– Немец, он, милый мой Алехин, разный.
– Чего разный? – завелся Андреев. – Рушили города, жгли села, миллионы людей погубили – одно злое дело делали. Цвет глаз у них, понятно, разный, волосы тоже. Один немец любит цветочки, другой – собак, в этом они разные. Но разбойничали везде одинаково, что у нас, что в Польше, что в других странах.
– Наивно, лейтенант, и не убедительно.
– Насчет убедительности – проще простого. Недалеко отсюда есть Майданек, посмотрите, что там было, увидите красные цветочки-маки на человеческом пепле, может, кое-что вам это скажет.
– Знаю. И все-таки утверждаю свое. Ты немца, кроме пленного, видел когда-нибудь, жил рядом с ним?
– Когда я видел не пленного немца, я стрелял в него. А он в меня.
– Все это так. Но немцев я знаю лучше, почти дна года жил рядом, всякого навидался. Видел садистов, двуногих зверей. Но были ведь и такие, которых сами же фашисты расстреливали, которые помогали партизанам.
– Сколько же было таких? Раз, два – и обчелся.
– Неважно, но были и есть, такие будут новую Германию строить. Уразумел, Алехин?
– А как же!
– Небось и пленного-то не видал?
– Не-е, не приходилось. Сельцо у нас маленькое, где я жил-то, от Иркутска далече.
Вот Алехин и на фронте-то был всего один день. С немцами с глазу на глаз не встречался. Они по нему стреляли, а он их даже и не видел. Григорий же повидал всяких. Нахальных в первые дни войны, тотальных, пришибленных совсем недавно. Войне скоро конец, капут наступает третьему рейху. Но ведь немцы-то останутся, народ-то будет жить и после войны. Хотя и бед он принес миру много, но ведь уничтожать его никто не собирается. Но как он устроит свою жизнь после войны?
Анна Сергеевна знала немецкий язык в совершенстве. При любом удобном случае подчеркивала, что немецкий надо знать хотя бы потому, что это родной язык Маркса и Энгельса, тогда можно будет читать произведения классиков марксизма в подлиннике. И вообще – немецкий народ выдвинул целую плеяду гениальных деятелей науки и культуры, таких гигантов, как Бетховен и Гёте.
Но ведь немцы, а никто другой, выдвинули из своей среды Гитлера, всю эту коричневую чуму, которая потопила в крови Европу, стремилась властвовать над миром!
И не отдельные головорезы вторглись на наши поля, а сотни дивизий; не отдельные бандиты, а миллионы людей, одурманенных подачками и посулами, полезли на нас войной. Это как объяснить?
Демиденко говорит – разные они. Конечно! Те, кто не был согласен с Гитлером, либо мертв, либо гниет в тюрьме. Разные они сейчас стали потому, что скоро грянет Гитлеру капут, и они отлично понимают, что придется держать ответ за содеянное.
Первых пленных немцев Григорию пришлось увидеть в июле сорок первого. Тогда отряд Петра Игонина расколошматил роту противника. Многие солдаты попали в плен. Петро их разул, в отряде плохо было с обувью, и отпустил на все четыре стороны. Ведь ни один из пленных тогда не подошел к командиру и не сказал, что не хочет воевать за фашизм, а хочет воевать против фашизма.
Угорели от побед – и фельдмаршалы, и солдаты, хмель такой напал. Осенью сбили фашистский самолет, летчика пленили. Так тот орал, покраснев от натуги: «Большевикам и жидам капут!» Его расстреливать повели, а он кричал: «Хайль Гитлер!». Убежденный оказался фашист, значит, по нутру пришлась ему кровавая гитлеровская доктрина. Почему же он тогда не сообразил, что воевать-то надо, уж коль полез в драку, с солдатами, а не с женщинами и детьми, на которых сбрасывал бомбы?
Сложное дело – философия.
В сорок третьем в отряд Давыдова привели до десятка пленных немцев. С этих слетел внешний лоск, они не хорохорились, старались уверить комбрига, что они люди маленькие, им приказали – вот и воюют.
Нынче под Бобруйском пленных взяли массу, они лопотали одно: «Гитлер капут, война капут!» Поумнели, когда навалилась грозная сила.
Демиденко жил у вдовушки, с немцами якшался. Конечно, лучше их знает, чем я, ну и что? А какой ценой эти знания получены? В этом, видимо, надо разобраться.
Андреев очнулся: кто-то положил ему на лоб теплую сухую ладонь. Открыл глаза и увидел Свету. Она смотрела улыбчиво, но-доброму, и он лишь сейчас рассмотрел, какая она хорошая. Глаза карие, глубокие. Такие могут быть очень ласковыми. Носик чуть вздернут, и, пожалуй, это хорошо, потому что прямой нос мог бы нарушить симметрию лица. Губы пухлые, сочные, сердечком.
– Обедать пора, – проговорила Света.
На табуретке стояла миска с борщом и лежало три ломтика хлеба. Григорий ощутил раздражающе вкусный запах борща и услышал, как два соседа дружно скребут ложками.
– Вы лежите, лежите, – обеспокоилась Света, когда Григорий хотел подтянуться и сесть. – Я вас покормлю.
Григорий опешил: она его будет кормить? С ложечки? Не было такого и не будет! Он покраснел от досады.
– Помогите-ка, – властно сказал Свете, и она безропотно помогла ему подтянуться и сесть, сунув под спину подушку. Полотенце постелила на грудь и поставила туда миску.
– Свет, – подал голос Демиденко, успевший расправиться со своей порцией, – поухаживай за мной.
– Вы и без моих ухаживаний обходитесь.
– Могу и не обходиться.
– Попробуйте только.
– А что будет?
– Доктору скажу.
– Ай, ай, ай, ябедничать нехорошо. Откуда такая?
– Отсюда не видать.
– Все же?
– Из Сибири.
– И я из Сибири, – обрадовался Алехин. – Сельцо у нас маленькое, а кругом тайга.
– Видишь, и земляк выискался.
– Я из Красноярска.
– У нас Байкал рядом.
– Ешьте, ешьте, хватит разговаривать, я за вторым пойду.
Уходя, она мельком взглянула на Григория, он, перехватив ее взгляд, улыбнулся.
После обеда Андреев попросил Свету принести какую-нибудь книгу, и она дала Островского «Как закалялась сталь».
Вечером на четвертой пустой койке заменили белье, а позднее Света привела нового обитателя. Григорий оторвался от книги, чтоб посмотреть, и содрогнулся. Человек не был ранен, он обгорел. Шел медленно, неся впереди себя вытянутые руки. Кожа на них сгорела до локтей. Это был сплошной розово-сочащийся ожог. Лицо походило на безжизненную маску. Не было даже ресниц и бровей – сгорели.
Света помогла новичку лечь на спину, и он лежал, подняв руки. Девушка стояла возле него и полотенцем отгоняла мух. Окно в палату почти не закрывали: на улице было тепло, и мух набралось много. На них как-то не обращали внимания. Сейчас же мухи устремились на обожженное тело.
Появился доктор Кореньков. Он приказал Свете принести две подушки и вызвать какого-то Дудку. Подушки Света подложила под локти больного, и ему стало удобнее держать их. Дудка оказался щупленьким рыжим мужичком, на котором красноармейская форма висела, словно на вешалке.
– Сделай, – сказал ему доктор, – такие колпаки-наручники из мелкой сетки. Для лица тоже.
– Слушаюсь, товарищ военврач.
Дудка, боясь прикоснуться к больным рукам, на расстоянии смерил их длину складным метром и исчез так неслышно и незаметно, что Григорий глазом не успел моргнуть. Проворен Дудка!
– Где вас так? – спросил Кореньков.
– Под Радомом.
– Ничего, до свадьбы заживет.
– Я женат, доктор.
– Тем более. Значит, еще быстрее заживет.
– Доктор, я хочу спать. Не спал четверо суток. Но уснуть не могу.
– Потерпите. Вот Дудка сделает вам латы, и что-нибудь придумаем. Перевязывать нельзя, а так мухи замучают.
Через час Дудка принес свои изделия. На лицо надели что-то вроде накомарника из тонкой металлической сетки, очень просторного – между сеткой и лицом расстояние было не меньше десяти – двенадцати сантиметров. На руки Дудка смастерил подлокотники, которые сверху тоже обтянул сеткой. Руки по локоть оказались внутри, словно в мышеловке. Дудка, видать, головастый мужик: сделал так, что эти приспособления не больно, но прочно крепились, и человек мог вставать и ходить с ними.
Света принесла маленький стаканчик мутноватой жидкости – снотворное. Новенький принял его, но уснуть не мог. Лежал на спине и ждал, когда лекарство станет действовать, а оно не действовало. Тогда он разозлился, сполз с койки и, открыв дверь, закричал:
– Сестра-а-а!
Кто-то из коридора отозвался, пообещав прислать ее. Но для большей убедительности больной еще раз крикнул сестру и остался ждать у двери, странный в своем облачении, словно бы пришелец из другого мира.
Прибежала Света. Новенький потребовал:
– Дайте еще этой пакости!
– Не могу, да вы ложитесь.
– Не можешь?! А я мог гореть в танке?! Думаешь, на коленях буду упрашивать?! Не принесешь, весь госпиталь на ноги поставлю, я вам устрою концерт! Живо!
У Светы от обиды задергались губы, и, чтобы не расплакаться, она круто повернулась и убежала.
– Доктора! – закричал ей вслед танкист.
Григорий сказал:
– Разве можно так с девушкой разговаривать? Она-то при чем?
Танкист зло глянул на Андреева сквозь сетку красными без ресниц глазами и отшил:
– Не ваше дело!
– Послушай, милый человек, – подал голос Демиденко, – в чужой монастырь, со своим уставом не ходят. Ты что же, всех здесь идиотами считаешь?
– Катитесь вы… – огрызнулся танкист, но на койку завалился снова и уже спокойнее сказал: – Побыли бы в моей шкуре…
Пришел Андрей Тихонович вместе с заплаканной Светой.
– Я вас слушаю, – обратился он к больному, прикрывая ему одеялом ноги.
– От вашей микстуры ни жарко, ни холодно. Я хочу спать или сойду с ума!
– Я дал усиленную дозу.
– Ваша доза на меня не действует. Дайте такую, чтоб я всех забыл к чертовой матери!
Танкист разговаривал раздраженно, готовый сорваться. Но его, видимо, удерживало спокойствие доктора и его благожелательное отношение. Андрею Тихоновичу было над чем задуматься. Он-то лучше других понимал, что для измученного танкиста сон – это все. Это главное лекарство. Нервы напряжены до предела, и уснуть, как обычный человек, он не в силах. Даже усиленная доза брома не берет. Дать еще? А если уснет и не проснется?
– Доктор, войдите в мое положение, – умолял танкист, – я дал бы расписку, что за последствия отвечаю один, но вы же видите – я не могу писать.
Кореньков решительно махнул рукой. Света принесла брому, и танкист выпил еще два маленьких стаканчика. И уснул.