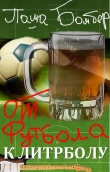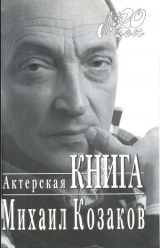
Текст книги "Актерская книга"
Автор книги: Михаил Козаков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 32 страниц)
1992 год. Актер Леонид Филатов сидит у меня в тель-авивской квартире. Мы знакомы еще с тех самых, 60—70-х, таганских. Говорим, говорим и не можем наговориться. Нас с Леонидом многое объединяет: любовь и отношение к театру, кино, поэзии. Я помню его еще в любимовском «Товарищ, верь» и знаменитую пушкинскую реплику из «Годунова», которой Филатов завершал спектакль. Не произносил вслух, а безмолвно, одними губами артикулировал: «Ha-род без-мол-вству-ет».
Сегодня народ не безмолвствует. Вся Россия громко кричит, во весь рот, во все горло. Мы сидим с Леней у меня дома, и я пытаюсь понять, что случилось в Театре на Таганке. Почему Филатов с Губенко, а не с Юрием Петровичем? А Петрович-то, Юрий Петрович Любимов, недалеко, всего в четырех часах езды от моего тель-авивского дома, но, судя по всему, Леня ему звонить не намерен. Да и Учитель такого звонка от него не ждет.
Мы говорим о недоснятом фильме Филатова, обо всех этих спонсорах, которые посулили и бросили, о беспомощности обедневшего Госкино, о чернухе в кинематографе, о развале кинопроката, о литдраме на телевидении, где мы оба когда-то трудились. Словом, обо всем, о чем могут говорить два московских актера, которые давно не виделись. Легко догадаться, что разговор наш получился не слишком веселым и оптимистичным. Он рассказывал – я слушал, лишь иногда задавая вопросы.
Потом мы поехали на Лёнин концерт в тель-авивскую синематеку, где артист читал стихи, исполнял монологи и показывал фрагменты своего фильма «Сукины дети» из жизни актеров одного театра в Москве в суровые времена застоя. Один, не предавший Учителя, в конце умирал, и гроб с его телом его товарищи выносили из театра. Хороший концерт, добрая грустная картина.
Не раз я смотрел по телевидению передачу Леонида Филатова о знаменитых, популярных, покойных ныне актерах, об их судьбах, об их уходах. Зеленое поле и портреты со знакомыми лицами, как на свежевырытых могилах. Кладбище талантов.
Филатов – автор и ведущий этих невеселых передач. Леонид взвалил на свои плечи нелегкую ношу. Когда-то я записывал на радио повесть Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана Ильича». После каждой записи у меня тряслись руки. Я не шутя боялся заболеть тем же, отчего скончался герой повести Толстого.
Исполняя ту или иную роль, мы, актеры, вольно или невольно погружаемся в атмосферу происходящего. Потом уже я услышал, что Леонид Филатов заболел. Инсульт. Спустя какое-то время я вновь увидел его в качестве ведущего этой передачи. Сказать: постарел – ничего не сказать! Это был другой человек. Довелось мне услышать интервью с Филатовым. Потом были слухи, что Леня вдруг подался то ли к коммунистам, то ли к русофилам, то ли еще к кому-то из этой братии. Я не удивлен. Хотя можно было бы и удивиться: резкий, вольнолюбивый, ироничный, интеллигентный, талантливый киногерой 80-х, режиссер «Сукиных детей», автор аллегорических сказок в стихах… Нет, и все-таки не удивлен.
Владислав Заманский, фронтовик, совесть молодого театра «Современник», кристальной души человек, актер Алексея Германа, друг Самойлова и Окуджавы, христианин… Достаточно? Окуджава рассказал мне в один из своих приездов в Израиль, что до него донесся слух, будто бы Влад стал писать и печататься в красно-коричневой столичной прессе. Булат позвонил своему другу и задал вопрос: «Это правда, Влад?» «Да», – ответил Заманский. Окуджава повесил трубку.
Талантливый актер Гостюхин на митинге топчет принародно пластинку Окуджавы, совершая акт духовного вандализма. Николай Бурляев, актер Тарковского, во второй половине 80-х снимает фильм «Лермонтов». На балу у Николая Первого мы видим и Лермонтова (Н. Бурляев), и его убийцу Мартынова. Режиссер акцентирует наше внимание на отчестве Мартынова – Соломонович… Но мало этого. На балу у Николая Первого Гоголь (тот же Бурляев), где он просто-напросто и быть-то не мог, – видел Николая всего два раза в жизни, и то издалека, слушает пространные рассуждения о том, что шинкари-евреи споили русский народ, и согласно кивает головой.
Гостюхин и Бурляев артисты хорошие. Наверное, люди темные. Но вот Филатов, Заманский – это же совсем другие люди. Как тут не задуматься, если даже и они… Кто не растеряется, не сломается, не перепутает берега реки Чернобыль, правый, левый? – не возненавидит вчерашних друзей-единомышленников, если на развалинах Третьего Рима, под обломками помпейских колонн корчатся и задыхаются одни, а вокруг мародерствуют и наживаются другие, делят пирог власти, присваивают чужое не моргнув глазом.
«Пир во время чумы» – эта пушкинская фраза стала расхожей. Как тут не перепутать, кто свой, кто чужой? Как разобраться, если один твой вчерашний друг-единомышленник, твой партнер по театру или кино заделался министром, другой стал совладельцем здания и ресторана Киноцентра? А по ленфильмовским коридорам разгуливает ветер, а на Мосфильме скоро запорхают одни летучие мыши. Снимать там будут или рекламные видеоклипы, или чужие дяди из-за бугра, из-за океана. И выясняловка, выясняловка, выясняловка, сплошная, поголовная выясняловка отношений! На всех уровнях – от Думы до маленького театра – выясняют отношения народы и театральные коллективы, руководители вчера братских республик и два партнера, сидевшие вчера в одной грим-уборной. Что поделаешь, время такое. Снявши голову, по волосам не плачут.
Трудно смириться и принять новый уклад, если лично ты не можешь доснять фильм, если лично тебе нет места в чернушном или порнографическом кино, если лично ты не умеешь приватизировать и продавать, если не в твоих правилах выступать на митингах, якшаться с политическими лидерами всех мастей, рвущимися к власти. Уехать? Некуда; да и почему ты, актер, должен потерять свою страну, свой язык, свою публику? Отойти в сторону и тихо переждать не удается. Пережидать вообще не в твоих правилах, да и ждать придется долго, а время торопит, время уходит. Возраст у тебя не детский. И вот тогда заносит. Один делит со своим Учителем театр, другой пишет в газету «Сегодня» или «Завтра». Трудно обрести душевную гармонию. И тогда ты обращаешься к прошлому, и на твоем русском поле, твоем грустном поле чудес пестрят портреты недавно ушедших, которых сломали или которые сломались. И твое положение, и твое душевное здоровье ничуть не лучше, чем у твоего вчерашнего коллеги, который сидит в Тель-Авиве и водит пером по бумаге, пытаясь разобраться, что к чему.
Характер у нас с тобой, Леня. А характер – это что? Правильно! – судьба. И беги не беги, хоть на край света, от характера своего ты никуда не убежишь.
Ты, как черепаха, что тащит свой дом на себе. Твой Учитель, Леонид, живая легенда твоего и нашего русского театра, живет в Иерусалиме с видом из окон на библейские места. Семья. Сын Петя прекрасно говорит на четырех языках, и на иврите в том числе. Юрий Петрович только по-русски. На нем и ставит, в Москве, в Англии, в Греции ставит. Ставит всюду, кроме Израиля. Ему иврит ни к чему. В Москве с Губенко он выясняет отношения на хорошем, полнокровном, я бы сказал, избыточном русском. Губенко с Учителем тоже в выражениях не стесняется, словом, пищу газетчикам и телевизионщикам дают который год. Это не упрек. Время такое.
И МХАТ на женский и мужской разделился. Склок, дрязг было предостаточно, на радость щелкоперам всех мастей. И пошла писать губерния! Гласность, новый взгляд. Куда денешься – новый стиль, бомонд! Оставайтесь с нами! Коррида! «Тореадор, смелее в бой!»
А мы прилипаем к телекам. Раньше бы по тому же телеку фильм-спектакль женского или мужского МХАТа показали, чтобы мы сами могли судить обо всем. Спектакль Губенко по Салтыкову-Щедрину, «Медею» Учителя. Раньше… Сегодня – нет. Сегодня телевизионное время – это чьи-то деньги. В лучшем случае фрагментом порадуют, иллюстрацией к телевизионной корриде, к бою быков. Сидючи в Тель-Авиве у телевизора, судить о чем-то трудно. Да и не надо бы мне судить. И вмешиваться не следует. Пока я сидел в России и держал эту плиту, как все, пока не смылся из-под нее, я очень раздражался, помню, когда по тому же телеку выслушивал суждения и поучения от парижанина Владимира Максимова, «немца» Войновича или «американца»… Впрочем, «американцы» не поучали, ни Бродский, ни Аксенов, ни Довлатов. Солженицын – так на то он и Солженицын, поэтому вернулся на родину обустраивать Россию.
Я много раз давал себе слово не уподобляться тем, которые меня самого, тогда жившего в России, раздражали поучениями. И слово свое держу. И, даст Бог, сдержу. Покойный Юрий Нагибин в последней главе повести «Мрак в конце туннеля» упрекнул евреев-эмигрантов в рабьей любви к оставленной мачехе-родине. А куда нам деться? Может быть, дети, внуки избавятся – не мы. Поэтому интересуемся, вникаем.
Я хочу понять и тебя, Леня, и Губенко твоего, и Учителя вашего, Петровича. Не судить – понять хотя бы. Однако понять трудно, невозможно. У каждого своя правда, у каждого своя логика и характер. Ефремов, Любимов, Эфрос. Каждый из них – эпоха. Легенда. И мы все жили рядом с ними, восхищались ими, учились у них. А потом судьба разводила нас, они оставляли нас, мы покидали их.
Кто сегодня властвует умами? Какую современную пьесу и современный спектакль ну просто нельзя не посмотреть?! Билеты непросто купить на многие хорошие спектакли – в тот же Ленком, к примеру. Актеров, знаменитых, замечательных, любимых, много почти в каждом театре Москвы. Есть звезды всех поколений, в том числе и совсем молодые. Россия талантами богата – это со стороны мне еще отчетливее видно. И театральная жизнь России, несмотря ни на что, удивительна. На любой вкус: и тончайший Петр Фоменко с Островским, и Виктюк с его новшествами, и Юрский с Ионеско. Да мало ли! Говорить об упадке не приходится. Трудности – да, упадок – нет. Москва, вопреки всему, театральная Мекка.
И вот один-единственный вопрос, вопрос в стиле времен застоя: а есть хоть одна русская современная пьеса на современную тему, которая бы властвовала умами? Ну, хотя бы как когда-то пьесы Володина, Вампилова? Я такой пьесы не видел, не прочитал. Даже мой дорогой долгожитель – «Современник», где есть хорошие спектакли, поставленные Галиной Волчек и приглашаемыми ею режиссерами, не может похвастаться современной отечественной пьесой, как когда-то взрывной пьесой Аксенова «Всегда в продаже» или «Фудзиямой» Чингиза Айтматова.
Но, быть может, это не обязательно? Талантливый Григорий Горин, как некогда Шварц, сочиняет пьесы-притчи, пишутся современные инсценировки и ставятся отличные спектакли по мотивам Гоголя или Достоевского, я уже не говорю о переводных или классических пьесах.
Бывают времена затишья, застоя в драматургии. Однако перерыв отчаянно затянулся: чтобы за десять последних лет не было написано ни одной стоящей современной пьесы на современную тему – такого в истории русского театра не случалось, по-моему, еще никогда! И это тоже примета времени.
Актер – властитель дум… Кто он сегодня? Неужели только Алла Борисовна Пугачева? Я думал об этом, принимая у себя в гостях в Израиле еще одного гостя из России, великого актера и великого труженика, Олега Ивановича Борисова.
«Олег…» Этому имени повезло. Олег Ефремов, Олег Табаков, Олег Янковский, Олег Басилашвили, Олег Даль, Олег Меньшиков, Олег Борисов. Мы говорили с Борисовым, и я, даже записывая с его разрешения беседу на магнитофон, словно чувствовал, что вскоре мне останется слушать его живую речь только в записи. Мы вспоминали нашу студию МХАТ, его Киев, его первую роль в кино в комедии «За двумя зайцами», Пашу Луспекаева, товстоноговский период, его поразительного принца Гарри в «Генрихе IV», роль в спектакле «Два мешка сорной пшеницы» Тендрякова, его Григория Мелихова…
Нам было что вспомнить и о ком поговорить. Алексей Герман, в картине которого играл Борисов, Вадим Абдрашитов, трижды снимавший его в своих фильмах, Олег Ефремов – МХАТовский период актера. Борисовский доктор Астров – единственная чеховская роль за всю жизнь тончайшего чеховского актера.
Конечно же, в нашем разговоре всплыла фамилия Льва Долина, не могла не всплыть.
– С ним я мечтал бы работать, – сказал Борисов. – И он зовет! Но как, Миша? Другой город, и силы не те, я ведь живу с семьей на даче, мы с сыном свое хозяйство наладили, трудимся. Алена моя – хозяйка отменная. А Юрка головастый, ты видел нашу «Пиковую даму»? Нет? Жаль. Юрка сочинил весь спектакль. Там и лекция Фрейда, и танцы Аллы Сигаловой, музыка Шнитке. Ве-ли-ко-леп-ная!
– А ты? – встреваю я.
– Я от Пушкина, и за графиню, и за Томского.
Олег рассказывает, цитирует, проигрывает куски из «Пиковой дамы», рассказывает и о других работах, которые он сделал с сыном: «Мефисто-вальс» по Гете, «Человек в футляре». Он привез с собой в Израиль телевизионный фильм-спектакль «Бенефис» по классике, где играет все несыгранные им роли: Хлестакова, Гамлета, Мефистофеля. Мы вместе – я в первый раз – смотрели этот спектакль-бенефис, который придумал и поставил для него сын, Юрий Борисов. А партнером Олегу был его брат, Лев Борисов. Олег смеется: «Семейный подряд!» И жена ему друг настоящий. Все к нему пришло по заслугам. И не испортило его.
Каким я его помню почти сорок лет назад – серьезным, подлинным, лишенным показухи, таким он и остался, при всех своих регалиях. Он привез в Израиль пушкинскую программу стихов.
Только бы наши олимы поняли, кто к ним приехал, только бы пришли на встречу с большим актером, властителем дум! Собственно, для этого я и диктофон включил, чтобы написать в газеты. Написал, напечатали. Но нет, не пришли. Ажиотажа не было. Им Задорнова или Петросяна в самый раз. А тут еще приступ болезни у актера грянул…
Олег Иванович был болен давно. В этот приезд приметы болезни явственно проступили на его лице. Но ни одной жалобы: он хотел жить и работать. Не знаю, был ли он общим властителем дум – моих был. Давно.
В 1986 году я увидел «Кроткую» Льва Додина во МХАТе. Как бы и не во МХАТе. Спектакль за два года до этого был показан в Москве на гастролях БДТ. Но ставил его опять же не глава БДТ Товстоногов, а Лев Додин с Борисовым и Шестаковой в главных ролях. Шестакова – жена Додина, тоже не актриса Товстоногова. Я тогда на спектакль не попал, а только слышал самые восторженные отзывы: «Единственное, что стоит смотреть у Товстоногова». Я-то как раз видел спектакль «Амадей» по Шефферу, который москвичи замечательно принимали, и, каюсь, не пошел отчасти поэтому на «Кроткую» с Борисовым, так как спектакль «Амадей» мне не слишком понравился. Но когда я увидел «Кроткую» в филиале МХАТа, перенесенную сюда с Малой сцены БДТ, это превзошло все мои ожидания. Игру Олега Борисова можно, на мой взгляд, определить как игру гениальную, великую игру великого трагического актера наших дней. Мои самые сильные впечатления от игры на сцене – Пол Скофилд в «Гамлете» и «Лире», Оливье в роли Отелло, – впечатление от игры Борисова в Достоевском той же сокрушительной силы.
Я впервые видел режиссуру Льва Додина. Очевидно, правы те, кто считает его сегодня лучшим режиссером нашего театра. Тончайшая, глубокая режиссура безупречного вкуса, разбор, фантазия, образность, умение создать ансамбль, найти единственно верный тон, и так далее, и тому подобное. К тому же он автор и пьес по Достоевскому. Но чудо этого спектакля – Олег Борисов.
Два часа он говорит, говорит, говорит длиннющие монологи романа Достоевского. Монологи трагической, трагикомической личности на грани паранойи; откровенность, переходящая в откровение. Игра Борисова гипнотизирует, она виртуозна технически и исполнена сиюминутной трагической наполненностью. Он живет на сцене и на наших глазах создает Образ. У меня сжалось сердце, текли слезы, а голова при этом отмечала безукоризненность его искусства. Он правдив настолько, что его игру можно фиксировать одним бесконечным крупным планом кинокамеры. При этом не пропадает ни одной буквы, ни одного нюанса и перехода из одного душевного и интонационного регистра в другой, соседний, часто противоположного состояния. Он не оставляет за два часа ни одного зазора. Игра его совершенна. Его герой – это герой Достоевского. Нет, временами это сам Достоевский! Он делается на него физически похож, он находит краски чернейшего юмора, он беспощаден к себе и к людям, он вызывает сострадание и отвращение у зрителя к самому себе.
Борисов удивительно пластичен. Он то уродлив, то красив, то Смердяков, то Чаадаев, он богоборец и христианин одновременно.
Если бы Ленинская премия имела хотя бы первоначальное значение, обладала той силой, какой была во времена Улановой, Шостаковича, то сегодня ее следовало бы дать Борисову, а потом не давать никому из актеров долго, до следующего подобного свершения в театральном деле. Я помню альтовую сонату Шостаковича, то впечатление от игры Рихтера и Башмета в Большом зале Консерватории. Я испытал двойственное впечатление от этой последней вещи Шостаковича тогда, в Большом зале: полной выпотрошенности и полного восторга перед искусством. Сегодня было то же от Борисова в спектакле Додина.
И еще одно сравнение – Джек Николсон в «Кукушке» Формана. Так же меня потряс Борисов.
Мы с женой зашли за кулисы, как могли, выразили свои чувства Олегу. Он сказал: «Знаешь, актеры обычно говорят: вот жаль, что ты не был на прошлом спектакле, сегодня не то. Врать не буду: сегодня, Миша, ты видел хороший спектакль. И хорошо, что вы увидели его в период его зрелости».
Борисов всегда меня интересовал. Его принц Гарри в спектакле Товстоногова «Генрих IV» мне очень понравился. Это было еще в мою бытность в «Современнике». Помню, мы с Игорем Квашой устроили в «Арагви» банкет. Копелян, Вадим Медведев, Олег Борисов. Я очень расстроился, что на наш банкет не пришел Сережа Юрский.
Олег Борисов очень нравился мне в картине Абдрашитова «Парад планет», в других его картинах. Всегда и всюду я видел хорошего, серьезного актера. И вот сегодня полная, великая реализация личности и судьбы Олега Борисова, ибо есть в его судьбе, особенно в начале, справедливая обида на среду театральную и околотеатральную. Злая обида на пренебрежение к его возможностям и скрытым резервам его дарования. И вот взрыв в роли, которую он так играет – глубоко лично.
Это не просто слияние роли и человека. Человек-Борисов, артист-Борисов выше роли, это ясно. Он творит Образ – высшее достижение любого художника. Я счастлив, что увидел это сегодня воочию.
XVIВластитель дум. Звучит высокопарно, старомодно, как будто вытащили из сундука бабушкин салоп и запахло нафталином. Не лучше ли так: «Я просто тащусь от него! Как он играет – балдеж! Классный стеб!» Ладно. Так вот я тащусь от Высоцкого по сей день. Даже израильтяне о нем слышали. Некто Духин «перепер» на «хибру» его тексты и поет песни Владимира для молодежи. О Высоцком написано столько статей и книг, что можно составить целую библиотеку. На Страстном поставили Высоцкому памятник. На один из московских бульваров, где Пушкину, Есенину, Гоголю, где между ними столбом – Тимирязев.
Большевистская власть, словно торопясь увековечить себя, не только сносила, но и возводила памятники. Еще Твардовский рассуждал про монумент Маяковскому на улице Горького: «Не по таланту глыба». На Горького же, ныне Тверской, у Белорусского глыба другому соцу. Основоположнику. Увековечить автора «Тихого Дона» власть не успела. Может быть, не было уверенности, которого из авторов увековечивать? Слава Богу, что новая власть хоть писателям памятников не демонтирует. Тем более талантливым, как Маяк или Пешков. Да по мне, и другие пусть стоят. Я бы и Свердлова на месте оставил, не говоря уже о Феликсе. И Карлу-Марлу трогать не надо. Опять же голуби почему-то его облюбовали.
Новая власть по-своему тоже торопится оставить о себе след. Есенин прозвенел в бронзе, о чем, как известно, мечтал, стоя на Тверском бульваре. И Володя, даже не мечтавший о такой географии, тоже неподалеку. И слава Богу!
Так почему же меня это не приводит в состояние восторга и умиления? Ведь Высоцкий – эпоха, он первый среди первых нашего поколения. Он народный герой, он народный певец, он Актер, Поэт и Личность с самой большой буквы. Он легенда. Я – один из миллионов его восторженных почитателей. С ним ушла большая часть и моей жизни. Но сегодня что-то мешает мне быть до конца счастливым и просветленным.
Я спрашиваю себя: а если бы ты был в Москве, если бы тебе предложили сказать речь на открытии монумента, ты нашел бы что сказать? Признаюсь откровенно: я отказался бы от предложенной чести. Почему? Не знаю.
Есть во всем этом суетность. А суетиться перед лицом вечности не след. У нас в совке умели как-то быстро-быстро закопать кого-то, потом раскопать и опять закопать. Сменить могильный памятник, перехоронить, даже украсть кость на память. И такое было. Забальзамировать фараона, построить мавзолей, выставить на публичное осмотрение, потом и другого туда же, рядком. Несколько лет, что они рядком лежали, в сравнении с вечностью – минуты. Одного вынесли под шумок, ночью, закопали быстро – и белый мраморный бюст у Кремлевской стены. Другой теперь без охраны долеживает, своей очереди дожидается, пока народ православный думает-гадает, как с ним обойтись. Но народу православному не до того, сначала надо убиенного царя куда-то пристроить. Куда – в принципе ясно, но с костями бы ошибки не вышло. А как же фараоновы мощи? Пускай пока под стеклом полежат. Так оно и привычнее нам, там само как-нибудь решится. Усатый памятник снять, лысый пока сохранить.
А как с поэтами? «Вот этому нашему кудрявому пора уже поставить». – «Постой, почему не другому нашему? Он тоже стихи писал». – «Кудрявый понятнее писал». – «Да, но тот раньше писал! И длиннее!» – «А у кудрявого зато про березки. Читал?» – «Подожди, у того тоже про рожь, про избы есть, про матросов-братишек и про Христа». – «Под кудрявого водяра лучше идет и петь его можно». – «Ну, уговорил, речистый. Место есть?» – «Он на Тверском заказывал». – «Места на Тверском всем хватит».
А что до Володи Высоцкого, так он сам о себе в стихотворении «Памятник» написал:
А потом, по прошествии года, —
Как венец моего исправленья —
Крепко сбитый литой монумент
При огромном скопленье народа
Открывали под бодрое пенье, —
Под мое – с намагниченных лент.
Я немел, в покрывало упрятан, —
Все там будем! —
Я орал в то же время кастратом
В уши людям.
Саван сдернули – как я обужен, —
Нате, смерьте! —
Неужели такой я вам нужен
После смерти?! [6]6
А теперь, говорят, памятник на Страстном то ли убрали, то ли он сам развалился. Это просто какой-то трагифарс в стиле нашего времени.
[Закрыть]
Мне хочется привести отрывок из московских дневников 1985 года.
Об открытии памятника Владимиру Высоцкому в 11 часов 30 минут на Ваганьковском кладбище я узнал совершенно случайно. Казалось бы, я не тот из Форсайтов, который все узнавал последним. Как-никак москвич, актер, газеты почитываю, знакомые есть. В газетах, разумеется, об открытии памятника не было ни гу-гу. Вечером того же дня страна узнала обо всем от голосов из-за бугра. По счастью, есть у меня одна подруга. Знакомая всей Москве. Тата. Жена Додика. Если хотите узнать, как пройдет международный турнир по шахматам, кто станет главным режиссером в Театре сатиры после – упаси Господь! – смерти Плучека, как Ефремов будет трактовать русскую пьесу за границей, на ком так и не женится Валентин Гафт, – адресую вас к моей подруге Тате.
Ну что бы я и еще пол-Москвы в те времена делали без Таты? Результат прихода и вынесенное резюме после посещения Театра имени Ленинского комсомола инкогнито членом Политбюро, идеологом партии товарищем Лигачевым сообщила мне все та же Тата. Увидел бы я и еще пол-Москвы без Таты «Железный барабан» Шлендорфа, королевское шоу с Джином Келли в Лондоне, вручение «Оскаров» Аль Пачино и Владимиру Меньшову в Голливуде? Нет. Я бы только видел «Что, где, когда?» и бенефис Людмилы Гурченко по телевизору.
О Тате можно спеть песню, сочинить поэму – да что там поэма? Она достойна эпоса. Я спокойно мог жить в Москве без транзистора, и узнать, что, например, вчера Михаил Шемякин у себя в мастерской в Париже принял Михаила Барышникова и тот читал присутствующим стихотворение Бродского на английском языке. Вот от Таты я и узнал, что состоится долгожданное открытие памятника Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище и что ей поручено Иосифом Кобзоном, отсутствующим в Москве, возложить от него венок.
Этот венок с надписью на ленте я увидел в багажнике серой «Волги», на которой заехала за мной в 11 утра моя подруга и ее приятель, шофер «Волги». Тата волновалась: «Народу будет уйма, как пройдем? Но мы, Мишаня, тебя вперед, как визитную карточку». Но когда наша «Волга» только подъезжала к воротам Ваганьковского, стало ясно, что столпотворения нет. Это показалось мне удивительным. Прошедшей зимой я был на Ваганьковском в день рождения Володи – стояли кордоны и штанкеты, порядок поддерживала милиция, очередь до метро, люди с цветами, венками терпеливо ждали момента, когда они подойдут к могиле и возложат купленные ими гвоздики и розы. Я тогда, пользуясь привилегией известного милиции артиста, прошел без очереди и тоже положил на холм из цветов свои гвоздики. Потом пошел к могиле Даля, к Енгибарову и Есенину. Всюду был народ, всюду лежали цветы, хотя и в значительно меньшем количестве. День был Высоцкого…
О дне Даля знают немногие. О дне Енгибарова не знаю и я. Хотя у подножия его памятника лежали две гвоздики, с моими их стало пять на заснеженном постаменте клоуна в больших ботинках с зонтиком и бронзовым цветочком, столь не совместимым с понятием «вечность». Но, в принципе, это дела не меняет…
Памятник на могиле. О чем он говорит? О чем он должен сказать? Говорит он прежде всего о людях, которые его воздвигли, если покойный, не доверяя их вкусам, предусмотрительно не позаботился о памятнике или его идее заранее. На Новодевичьем, на этой ярмарке тщеславия, много всякого.
Мне довелось знать комика оперетты, прославленного Ярона. Этот любимец московской публики еще с 20-х или 30-х годов жил долго, весело и весьма успешно. Он играл всех этих смешных персонажей в «Сильвах», «Марицах», «Веселых вдовах» прошлого или модификацию их в опереттах советского производства; какой-то там Яшка-пулеметчик, лихо отплясывающий танчики с огромной украинской бабищей в опереттах Дунаевского или кого-то еще. Ярон был очень маленьким, лысым евреем, с обаятельной улыбкой, высоким пронзительным голосом, слышным даже с галерки. Стоило ему с неизменным «гэ-ком», ужимкой, уверткой только возникнуть на сцене, а иногда только определить себя голосом перед выходом, как в зале возникали дружные аплодисменты, не умолкавшие до конца спектакля. Ярон наигрывал безбожно, настолько безбожно и простодушно, что это делалось своего рода искусством, даже, если хотите, эталоном искусства комика-буфф. И все комики-буфф нашей страны равнялись на крошечного Ярона. Нет, конечно же, они были разные, и наверняка кто-то из них даже пытался противостоять манере столичного Ярона, но, в принципе, что с того?
Он был забавным человеком, не лишенным остроумия. На сборном концерте мастеров искусств в Колонном зале Дома союзов, в который я, молодой тогда артист, был приглашен из-за популярности картины «Убийство на улице Данте», мне довелось увидеть следующую сцену, произошедшую за кулисами.
Маленький Ярон подошел к огромному МХАТовцу Ершову, народному артисту СССР, в прошлом – кавалергарду, и, глядя на него снизу вверх и как бы еще нарочно уменьшившись в росте до того, что создавалось впечатление, что Ярон Ершову еле достает до промежности, лукаво сказал: «Володя, давай с тобой вместе выступать в концертах! Мы сделаем отличный номер!» «А что мы с тобой будем делать?» – спросил наивный Ершов своим глухим, глубоким, академическим голосом, тряся МХАТовскими брылами, отчего голос его басово вибрировал. Ярон лукаво поглядел на окружавших артистов – для них и был затеян этот разговор с добродушным Ершовым в накрахмаленной рубашке с неизменной «кисой» в горошек, – и своим высоким голоском комик завершил сцену репризой: «А тебе, Володя, не придется ничего делать. Ты будешь стоять, а я буду по тебе лазать!»
Прошли годы, я оказался на Новодевичьем и увидел памятник на могиле Ярона. Хочется думать, что сам Григорий Маркович Ярон, увидь он этот памятник, должен был бы взять предмет потяжелее, напрячь все свои силенки и двинуть этим предметом по творению скульптора. А может, он бы смеялся до слез, а может – и такое могло бы случиться, – ничего бы не имел против черного мрамора, на котором его барельефы в оперетточных ролях. Человечек в легкомысленном шапокляке, с бабочкой и обвязанный пулеметными лентами персонаж «Свадьбы в Малиновке», поигрывающий на черном могильном камне бицепсами и трицепсами, а внизу какая-то еврейская сентиментальная надпись безутешной вдовы. Разумеется, на русском языке. Нет, хочется думать, что это произведение искусства на холме человека, лежащего под ним, не пришлось бы по душе знаменитому артисту оперетты Ярону.
Вдова советского графа Алексея Николаевича Толстого, Людмила Толстая, выстроила на Новодевичьем пышный саркофаг. На саркофаге большой барельеф – профиль писателя и под ним скорбящие герои его произведений, объемные фигурки в бронзе. Скорбит Рощин и Телегин из «Хождения по мукам», застыли в неуемном горе сестры Катя и Даша, склонили головы и навеки задумались о своем создателе Александр Меншиков и Петр Великий. А что такого? Есть Петр Пушкина, есть Петр и Толстого! Так-то оно так… Но вот вообразить себе Петра Великого статуэткой на могиле великого Пушкина вряд ли возможно. У безутешных вдов Ярона и Толстого буйная творческая фантазия.
Памятники. Много я перевидал их в своей жизни. Помню знаменитое миланское кладбище-музей, где содержать могилу дороже, чем прожить жизнь человеку, в ней покоящемуся. Не кладбище – музей скульптур. Видел я в Испании Долину Павших. В небесах огромный крест, собор длиной с собор Святого Петра в Риме, под куполом с огромной фреской плоская каменная плита. Здесь Франко. Вокруг собора в скале невидимые глазу могилы павших франкистов и республиканцев. Теперь они навсегда вместе в этой долине, где шла братоубийственная война.
Видел и грузинские пантеоны, в основном стелющиеся или слегка поднимающиеся над землей. Большие и прямоугольные квадраты – четырех уложить можно, облицованные мрамором и гранитом. Над квадратами кое-где торчат реалистические бюсты генералов, вызывающие ассоциации с фильмом Эльдара Шенгелая «Необыкновенная выставка». И тут досадные ляпы особенно заметны на фоне красоты и гармонии грузинских пантеонов.
В одном из них, втором по знаменитости после Мтацминского, могила драматурга Жоржа Мдивани, известного по эпиграмме: «Искусству нужен Жорж Мдивани, как жопе нужен гвоздь в диване». По завещанию покоится теперь автор «Твоего дяди Миши» в Тбилиси. Огромный черный мраморный квадрат, как у всех, но есть деталь, которая привлекла мое внимание: на одной из мраморных сторон квадрата лежит огромная черная мраморная книга. Не книга – фолиант, масштаба «Божественной комедии». Она навеки сомкнула страницы. А что? Символично! Никто никогда больше не сыграет «Твоего дядю Мишу» и не прочтет ни строчки автора, хотя книга призвана напомнить живущим: се был летописец времени!