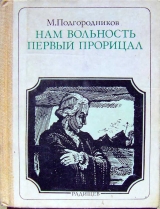
Текст книги "Нам вольность первый прорицал: Радищев. Страницы жизни"
Автор книги: Михаил Подгородников
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
– Соблаговолите раздеться, мсье. – Радищев улыбнулся вежливо и язвительно.
– О нет! Я уже привык к своей доле. Это тяжкий крест – ожирение.
Радищев слегка тронул француза за плечо и почувствовал, как каменно твердо его тело.
– Рекомендую, мсье, раздеться.
– О нет, пустяки, пустяки, – щебетал толстяк.
– Я очень рекомендую, мсье, – и Радищев быстро расстегнул две пуговицы на камзоле гостя. В прорези рубашки блеснул шелк.
– О нет! – в ужасе замахал руками француз.
– Раздевайтесь, иначе я позову слугу!
Француз сник. Медленно он стал снимать одежды и тогда открылось тело, перебинтованное лентами. Руки, ноги, грудь были укутаны многослойным шелком. С помощью слуги француза начали разматывать, и скоро он превратился в худенького тщедушного человека. Ожирения как не бывало.
– Видите, сколь полезным для вас оказался наш климат, – улыбнулся Радищев. – Подай-ка господину контрабандисту чаю! – крикнул он слуге.
Француз прихлебывал чай, смешанный со слезами: приходилось платить высокие пошлины и штраф за тайный провоз товара.
Александр Николаевич выходил из таможни с тягостным чувством, какое всегда возникало после таких сцен. Что за странная судьба у него: охотиться за злом, которое потом принимает столь жалкий вид. Хотелось даже утешить этого нечистоплотного и несчастного торговца.
А судьба продолжала насмешничать. Дома у постели недавно родившей жены лежал сверток, только что присланный от купца Свиридова: младенцу «на зубок» – батистовые рубашечки, льняное белье и куча разных дорогих безделок. Купец Свиридов хотел дружить с упрямым таможенником.
Он выбежал из спальни и закричал с такой яростью, что дети испуганно попрятались. Догнать сейчас и вернуть купцу!
Тотчас к Свиридову был наряжен гонец со злополучным свертком.
Раздражение не проходило. Ему казалось, что домашние поддались купеческой уловке. Но в дверях показалась встревоженная Анна Васильевна, под ее мягким укоризненным взглядом он почувствовал в душе смирение.
«Ах, что это я? Крик поднял! Как будто мир рушится!» – корил он себя.
Но мелкие нечистые поступки людей вызывали в нем ощущение липкой паутины. В такие минуты он ничего другого не хотел, как смахнуть паутину, избавиться от ее клейких назойливых прикосновений. Лучшим средством успокоиться было бегство.
Он садился в коляску и скакал прочь из дома, к которому был так привязан, из таможни, где ощущал себя наиважнейшим лицом в государстве, из державного Петербурга, без которого уже не мыслил себе жизни…
Однажды он отправился в Новгород. Выйдя из коляски, стал на мосту через Волхов. Перед ним открывался вид на величественные монастыри вокруг города. История оживала в воображении. С нервной дрожью он всматривался в глубь реки. Оттуда словно выплывали картины… Вот тут на мосту стоял Иван Грозный с долбней – деревянным молотком – и обрушивал удары на непокорных новгородских старейшин. Вот тут тащили тела убитых и сбрасывали под лед. Гордый умный зверский властитель, какое право он имел подчинять себе Новгород? И что такое право, когда действует сила? Кто мертв или обезоружен, тот и виновен. Неужели это и есть основание права народного?
Чело надменное вознесши,
Схватив железный скипетр, царь,
На громном троне властно севши,
В народе зрит лишь подлу тварь…
В вечернем небе плыли звуки колокола. Стихи рождались сами собой…
Где я смеюсь, там все смеется,
Нахмурюсь грозно, все смятется…
Живешь тогда, велю коль жить!..
Новгородские мещане, проезжавшие по мосту, с удивлением оглядывались на одинокую фигуру, застывшую над рекой: самоубийца или разбойник, поджидающий свою жертву?..
– Отчего тебя так заботит Иван Грозный? – говорил Кутузов. – Он был зол и жесток от природы, и с этим ничего не поделаешь.
– Он не был жесток от природы, таким его сделали обстоятельства, – рассеянно отвечал Радищев.
– Вечно ты валишь на обстоятельства.
– А ты вечно примиряешься с ними.
Странно: казалось, они понимали друг друга с полуслова – «сочувственники», товарищи с Пажеского корпуса, с Лейпцига. Но как только заходила речь о далекой истории, взаимоотношения рушились. Кутузов смотрел на исторические перипетии снисходительно и сокрушался о человеческой несовершенной природе, Радищева вековая история обжигала, как сегодняшняя боль.
– Всякое внешнее зло не есть причина наших несчастий, а следствие зла, обитающего внутри нас, – внятно и убежденно сказал Кутузов.
Радищева словно подбросило, он схватил Кутузова за руку и судорожно потряс ее.
– Может быть, ты это скажешь и крестьянам, убившим в Зайцеве помещика? Если бы не было зла, обитающего в их душах, они бы не убили?..
– Если бы не было зла, обитающего в душе помещиков, не было бы совершено преступление, – отвечал Кутузов.
– А! Замечательно! Вот ты и опроверг сам себя. Если бы не было внешнего зла, не пробудилось бы и внутреннее зло в крестьянах, – закричал Радищев. – Крестьяне не свободны, связаны крепью с помещиком – вот главное зло! Над ними совершено насилие – значит, они имеют право ответить насилием! Ну, вот представь: на меня нападает злодей. Он заносит надо мной кинжал. Ты назовешь меня убийцей, если я опережу злодея и нанесу ему удар, повергну его, бездыханного, к моим ногам?
Кутузов медленно поднялся: он как судия возвышался над Радищевым.
– Если ты способен убить, повергнешь злодея. Если не способен – не убьешь.
– Каждый человек в этом случае способен убить.
– Нет, уволь, не каждый. Отчего люди в одних и тех же обстоятельствах действуют по-разному? Ты мне историю про злодея рассказал, а я тебе другую. Вообрази, два разбойника нападают на одного прохожего, стараясь лишить его жизни, а затем ограбить. Но на их пути встретились трое гуляющих, и те повели себя по-разному. Один из гуляющих убежал, другой топтался в нерешительности, третий, не раздумывая, вступил в бой с грабителями. Отчего такое различие в поступках? Оттого что люди различны, и внешние обстоятельства по большей части невинны в том, что мы делаем.
Радищев отвечал другу мрачным взглядом:
– Были бы крестьяне свободны, не случилось бы злодейства.
– Освободить сразу буйную чернь – значит, пустить среди людей буйных медведей. Отними у крестьян грубость, просвети их души – и причины пороков исчезнут.
– Коль так пойдет, то и внукам нашим не видать мужиков свободными.
– Ты, Саша, нетерпеливец. А движение истории требует терпения.
– Где взять его, когда видишь кругом столь много несчастий? Ты отменно философствуешь. Но невиновность зайцевских крестьян – для меня математическая ясность.
Кутузов молчал.
– Молчишь. Воронцов тоже молчал, когда я ему рассказал об убийстве в Зайцеве.
– Ты бы об этом еще императрице поведал.
– Придет время – поведаю.
Они рассмеялись. Радищев позвал камердинера Петра Ивановича и приказал подать кофе. Кутузов напомнил, что им пора идти на заседание масонской ложи «Урании».
– Посидим лучше здесь – столько не виделись, – отвечал Радищев уклончиво.
Кутузов укоризненно глянул.
– Ты недавно принят в ложу и так небрежно относишься к нам.
– Какой ароматный кофе, – говорил Радищев. – Клади больше сахару. Все это вырастили американские рабы, оттого кофе так крепок. Он сдобрен потом и кровью рабов.
– Перестань. У меня отпадает охота пить этот кофе. Я спросил тебя о ложе «Урании».
Радищев прихлебывал черную жидкость с видимым удовольствием.
– Итак… – сказал Кутузов, не дотрагиваясь до своей чашки.
Радищев долго не отвечал. Затем решительно отодвинул кофе.
– Ты меня об «Урании» спрашиваешь, а у меня «Нептун» из головы нейдет. «Нептун», корабль, который без пошлины то и дело в Данию удирает. И о французе думаю, которого на днях разматывал. И о слепом певце, которого видел в Клину у почтового двора. Он пел песню об Алексее божьем человеке, сладостно, до слез пел. Но подаяние мое, рубль окаянный, не принял… а взял лишь шейный платок. С ним и положили слепца в гроб. Вот о нем думаю. А о вашей загадочной ложе не хочу думать. Игра сытых людей. Отчего прячетесь, отчего столько таинства в обрядах? Зачем шпаги, приставленные к обнаженной груди? Зачем клятвы во мраке? Зачем древние знаки, зачем все эти треугольники, циркули, молотки?
– Полно смеяться над масонскими знаками, они освящены древностью. Впрочем, вольному воля. Но когда ты будешь несчастлив, то вспомнишь о нашем братстве. Прощай!
– Алеша, погоди! – Радищев рванулся за другом, но тот стремительно вышел…
Удар был неожиданным и беспощадным. Еще вчера Анна Васильевна, оправившись от родов, была весела, ласкова с детьми, перешучивалась с сестрой Елизаветой, еще вчера в постели занималась вязанием, но сегодня все рухнуло.
Вдруг загремел пожарный колокол, словно возвещая о переломе судьбы, ударили в трещотки, люди побежали к огню. Анна Васильевна заметалась в страхе, что огонь перекинется к их дому и детей надо спасать.
Угроза вскоре отпала, огонь загасили. Но Анна Васильевна не могла успокоиться, состояние ее резко ухудшилось, вечером случилась горячка.
Утром пришел доктор и сказал, что «молоко бросилось в голову», что надо пустить кровь и пить успокоительные лекарства. Но никакие средства не помогали, болезнь стремительно развивалась. Жар усиливался, сознание стало помрачаться.
За несколько часов до смерти Анна Васильевна велела привести к себе детей. «Прощайте, – сказала она. – Лиза вам будет матерью…»
Александр Николаевич то припадал к уже бездыханному телу жены, не веря случившемуся, то, плача, неистово ласкал детей, то уединялся в кабинете, начинал что-то писать, но тут же бросал перо и уходил на улицу. В доме появился Кутузов, с безмолвной преданностью помогал в скорбных хлопотах. Елизавета Васильевна распоряжалась по хозяйству, и домашние слушались ее тихих слов беспрекословно.
После похорон и поминок Радищев ушел в кабинет и долго не выходил оттуда. Встревоженная Елизавета Васильевна постучалась к нему, но ответа не услышала. Она отворила дверь. Радищев спал на диване одетым. Лицо его было спокойным. На столе лежали густо исписанные листы бумаги. На одном из них Елизавета Васильевна прочитала: «Уж больше нет отрад, да льются слезны реки…» Она положила лист на место и осторожно, на цыпочках вышла из комнаты.
Увековечить эпитафию в камне не разрешили. Близорукий священник, духовный цензор, долго и медленно вчитывался в текст, вздыхал и сокрушенно качал головой: «О если то не ложно, что мы по смерти будем жить…» Нехорошо, сударь, здесь наличествует сомнение в бессмертии души. И далее: «Но если то мечта, что сердцу льстит маня, и ненавистный рок отъял тебя навеки – уж больше нет отрад, да льются слезны реки». Опять «если» – злополучнейшее слово! Пропитано неверием. Божественными установлениями определено, что тело бренно, а душа бессмертна. Нет, сударь, мы не можем дать благословения на сей текст…" – "Возможно ли душе быть бессмертной при такой цензуре?" – без всякого выражения произнес Радищев.
Священник гневно уставился на просителя в ожидании дерзновенных слов, но лицо того было горестно-отрешенным, и цензор укоризненно покачал головой.
– Смирение, мой друг, смирение…
Каждый день приходил Кутузов, и это были отрадные вечера, когда они беседовали подолгу, вспоминая и не споря. Но стоило Кутузову снова заговорить о масонской ложе "Урании" и пригласить туда Радищева – Александр Николаевич взглянул прямо в доброе лицо друга, помедлил, поколебался, поискал необидных слов и, не найдя их, тихо и твердо сказал: "Нет".
За одной бедой пришла другая. Исчез Посников.
Последний раз его видели потерянно бредущим по набережной. Посников иногда останавливался, вглядывался в белую муть метели, неистовствовавшей над заснеженной рекой, придерживал шляпу и шел дальше. Странное упорство угадывалось в его кренящейся навстречу ветру фигуре. Набережная была пустынная, а он продирался сквозь белый слепящий вихрь, без устали, как будто надеялся увидеть что-то впереди.
Тело его пытались искать на реке, но безрезультатно. В кассе таможни вскоре обнаружили недостачу денег, которыми ведал Посников. Александр Николаевич был в отчаянии: Посников – аккуратнейший, честнейший секретарь – оказался вором, скрывшимся от судебного преследования.
Вскоре какой-то человек постучался вечером на крыльце, отдал торопливо конверт камердинеру Петру Ивановичу и тут же, не называя себя, скрылся. Радищев нетерпеливо, с ощущением беды разрезал конверт: нервным прыгающим почерком Посников сообщал о себе. Он писал, что достоин казни, что проиграл шулерам казенные деньги и по трусости скрылся от справедливого возмездия. Сейчас живет в Польше, но готов проигранное возвратить – все, до последней копейки, и честной службой вернуть доброе имя.
Покаяния блудного сына Радищев читал с облегчением. Тяжкая мука – потеря доверия к человеку, и вот надежда забрезжила… Он решил ответить Посникову сухо, сдержанно, что путь назад не закрыт и дальнейшее будет зависеть от его действий.
Потом пришли деньги от Посникова – половина недостающей суммы, и Радищев отправился к графу Воронцову.
Александр Николаевич прочитал письмо беглеца, рассказал о присланных деньгах. Радостная, почти детская нетерпеливая улыбка играла на лице Воронцова. Потом он будто спохватился, стер улыбку:
– Можно ли верить человеку, сделавшему однажды бесчестный поступок?
– Можно, – просто ответил Радищев. – Если человек страдает…
– Люди пользуются страданием как маской. При дворе этим искусством отменно владеют. Надобно видеть, как страдает и сама императрица, когда слышит о крестьянской бедности.
– За Посникова я поручусь. Вношу вторую часть недостающей суммы.
Воронцов глядел серьезно, без усмешки.
– Впрочем, карты – великая страсть, – сказал он со вздохом. – В Мангейме при дворе курфюрста мы игрывали в карты и днем и вечером. Однажды меня пригласил сам курфюрст. Мне везло, я одолел курфюрста и на следующий день по правилам приличия обязан был дать ему удовлетворение – он жаждал отыграться. В тот момент в Мангейм приехал Вольтер – я мечтал беседовать со своим кумиром. Я уклонился от княжеской ласки. Курфюрст надулся: еще бы, русский боярин ведет себя неприлично. Но выше моих сил было поменять Вольтера на партию с провинциальным цезарем. И я весь вечер болтал с Вольтером, он был ласков со мной – блаженство! Мой каприз курфюрст мне не простил, больше меня не приглашали ко двору.
Воронцов несколько застеснялся простодушия своего рассказа, встал, прошелся по кабинету, глянул в окно.
Зимнее петербургское пространство было пустым и безрадостным.
– Вашего поручительства мне достаточно, – задумчиво продолжал Воронцов. – Протянем Посникову руку. Было бы страшно, если бы Могильницкие и Потемкины торжествовали.
Спустя два месяца пришло еще одно письмо от Посникова. Он просил о встрече с Радищевым.
В назначенный час Александр отправился в трактир на глухой окраине Петербурга. Заведение было безлюдно: хозяин дремал за стойкой у самовара да продрогший извозчик отогревался горячим сбитнем в углу.
Через полчаса ожидания дверь отворилась и в клубах пара появился человек, лицо которого было замотано шарфом. Он робко огляделся по сторонам, размотал шарф и приблизился к Радищеву. Это был Посников.
– Что же вы стоите! Садитесь, – сказал Радищев. – Дорога, знать, была дальняя.
– Александр Николаевич, Александр Николаевич… – голос Посникова дрожал. – Вы, вы… я никогда не забуду.
– Ну, полно, пейте чай.
– Я принес еще денег… Сто рублей.
– Спрячьте их. Я уже заплатил… Вернете потом.
– Александр Николаевич, – повторял Посников и вытирал слезы.
Успокоившись, он рассказал о своих скитаниях, о попытках достать деньги, о помощи родственницы, которая отдала ему семейные ценности, о своих душевных муках: как посмотрит в глаза людям.
– И все-таки вы не объяснили, как оказались в руках шулеров.
– Это наваждение, Александр Николаевич, наваждение. Я жил как заведенный. Каждый день счета, бумаги, ефимки, мошенники купцы. Каждый день. Душа отупляется, принижается. Ей нужно чего-то, что пронзило бы, всколыхнуло. И вот в одну скучную минуту явились они, веселые щеголи, словно освободить меня от забот. Играли азартно, я про все забыл… Совсем не заметил, что щеголи – просто подговоренные шулера. Купцам-то, дружкам Могильницкого, надо меня свалить, чтобы не мешал. А я, простак, поверил…
Лицо Посникова исказилось, он схватился за чашку и стал жадно прихлебывать остывший чай.
– Ну-ну, не мучайтесь, – сказал Радищев. – Путешествие окончилось – входите в спокойную бухту. Александр Романович на вас надеется.
– Благодарю.
Весной 1788 года открылась тщательно хранимая тайна: шведы решили начать военные действия против России с попыткой захватить Петербург. Шведский король Густав отдал приказ кораблям под командованием герцога Зюндерманландского атаковать русский флот и войти в устье Невы. Сам же Густав во главе сухопутных войск двинулся к Петербургу.
Известие о наступлении шведов застало Радищева дома. Он спрятал в потайной ящик листы, на которых выведенные твердым почерком уже лежали строки будущей книги "Путешествие из Петербурга в Москву", и вскрыл секретный пакет от Воронцова.
Александр Романович предлагал установить наблюдение за всеми кораблями, пересекающими Балтийское море. С каким грузом идет судно? Нет ли угроз купцам со стороны шведов? Не чинят ли шведы разбой? Не отбирают ли грузы? Что говорят иностранцы о численности шведского флота и его вооружения? У приезжающих пассажиров спрашивать, откуда они едут, какой нации, стараясь при этом узнать, нет ли между ними каких-либо сомнительных людей…
Через минуту Радищев уже мчался на извозчике в таможню, чтобы отдать распоряжения и вместе с Посниковым наметить на морской карте план разведывательных действий.
Жизнь стала лихорадочной, известия угрожающими. Шведский флот в числе двенадцати линейных кораблей под начальством герцога Зюндерманландского (русские матросы живо его переиначили в Сидора Ермолаича) развернул боевые порядки и приблизился к берегам России. Русские корабли, которыми командовал адмирал Грейг, вышли в море навстречу шведам – около острова Голланд завязалось сражение. Обе стороны потеряли по кораблю, но "Сидор Ермолаич" был оттеснен и отступил к Свеаборгу.
Когда прошел слух о том, что сухопутная армия шведов приближается к Петербургу, Радищев сообщил Воронцову, что он собирает ополчение.
Уговоры людей, списки ополченцев, закупка амуниции, чистка оружия – военные хлопоты стерли с лица Радищева задумчивое мечтательное выражение. Он жил в напряжении, как солдат перед атакой.
Однажды рота ополченцев прошла перед зданиями двенадцати коллегий, и пораженный Воронцов из окна увидел решительно и твердо ступающего во главе колонны со всей воинской выправкой поклонника Гельвеция и аббата Мабли, коллежского советника Радищева.
Но не воинская слава ждала ополченца.
ТРОЕ
Помещение было забито книгами от пола до потолка, и Радищев не сразу заметил в углу у маленького оконца фигуру напряженно согнувшегося над столом человека, который, не обращая внимания на сутолоку в книжной лавке, делал выписки из толстых фолиантов, горок высившихся перед ним. Это был известный всему читающему Петербургу писатель Федор Васильевич Кречетов, основатель «Всенародно-вольно к благодействованию составляемого общества» и издатель журнала «Не все и не ничего», впрочем, из-за недоброжелательства Управы благочиния просуществовавшего не более двух номеров.
– С Платоном беседуете, Федор Васильевич? – негромко окликнул Кречетова Радищев.
Тот повернул голову, кольнул острым хмурым взглядом и ответил не сразу:
– Полагаю, для нас есть собеседники полезнее умного грека. Блакстон, например, "Истолкование английских законов". Всем российским невеждам читать надлежит, учиться мудрому законодательству.
– Но отчего в лавке работаете, а не дома? Ведь у князя Трубецкого – превосходная библиотека.
Кречетов потупился.
– Библиотека превосходная, однако князь человек степеней низких. Ушел я от него…
– Жаль.
– Ничуть. Глумления не прощаю. Нашел у меня слова: "Благоволите же благовнимательное человечество быть благоснисходительным". Князь визжит – чушь! Не понял высокородный осел, что здесь сгущение всей сути, выражено главное: человечеству должно быть благоснисходительным, преданным благу.
Радищев невольно улыбнулся, и эта улыбка была роковой.
– Однако, сударь, – нахмурился Кречетов, – и вам смешно? Потрудитесь в таком случае оставить меня в покое.
Молнии уже сверкали из-под насупленных бровей Кречетова, и Радищев вдруг с болью увидел всю эту страстную изломанную жизнь, отданную целиком безраздельно одной идее. Кречетов ссорился со всеми покровителями, у которых жил. Он писал письма императрице о создании народных школ, но не получал ответа. Он требовал, чтобы цензура не вмешивалась в издание его сочинений: он сам с помощью евангельских законов станет своим цензором. Он думал только о будущем, негодуя на настоящее и презирая его.
– Федор Васильевич, не сердитесь, я виноват. Надо ли ссориться единомышленникам? Приходите в наше общество словесных наук, будем действовать вместе.
Кречетов смягчился. Он задумчиво покачал головой.
– Действовать? Пустяками занимаетесь. Приходите лучше вы к нам. Наше общество всенародное и направлено к благодействованию.
Он вдруг вскочил и поманил Радищева за собой. Они вышли из лавки на улицу.
– Фискалы, наушники кругом, а я сообщу вам великую тайну. Председателем нашего общества станет наследник престола Павел Петрович. Павел установит законы справедливости. К ним и государыня своим "Наказом" звала.
– Звала?.. Но взгляните на нынешние законы. Разве они образ божества на земле? Скорее это стоглавая гидра с челюстями, полными отрав.
– Экий вы мрачный. А глаза-то добром светятся…
– Федор Васильевич, сколько раз вы писали императрице?
– Трижды.
– И что получили в ответ?
Кречетов молчал.
– Надо ли обращаться к монархам? Надо ли биться об стенку?
– Соблаговолите разъяснить, к кому же обращаться?
– К людям, они услышат.
– Невеждам проповедовать вольность? Они ничего по услышат. Сначала грамоте невежд надо научить, а потом о вольности толковать. Пусть государыня пароду школы даст.
– Много ль она дала школ?
– Соглашусь, только по губам мажет. Но тут бояре мешают, казнокрады, воры. Ей, женщине, помочь надо.
– А кто нам поможет? – резко спросил Радищев.
Кречетов глянул удивленно:
– Вам, коню ретивому, помогать не надо. Сами доскачете…
От шутки подобрел и спросил озабоченно:
– А Степана Андреева из тюрьмы вызволили?
– Нет, увы.
– Значит, тоже об стенку бьетесь! – закричал торжествующе. – Легко поучать, легко. Вы не постигли сути вещей, – заговорил он с важностью пророка. – Жизнь – коловращение. Пока круга страданий не пройдешь – кольца не разорвешь. Причина всех превратностей мира зависит от кругообразного вида нашей планеты, от коловращения тел.
Он бросил эти странные слова, похожие на масонские бредоумствования, и отправился обратно в пыльное книжное вместилище выписывать мысли для поучения невежд.
Радищев смущенно смотрел вслед. Он не думал о круглом образе земли, о коловращении людей, о том, что нравственный мир человека напоминает колесо – его взволновали слова Кречетова о судьбе Степана Андреева.
– Приходили родственники Степана Андреева, – говорила Елизавета Васильевна. – Прошение принесли. Очень надеются.
– На меня надеются? – отозвался он горестно.
– На кого же еще им надеяться? – тихо сказала Елизавета Васильевна, и ее тон заставил его вздрогнуть. Голубоглазая Прямовзора глядела на него ясно и требовательно. Потом будто спохватилась: не слишком ли жестока в своей требовательности, и ее худощавое рябенькое лицо осветилось застенчивой улыбкой.
Радищев улыбнулся в ответ: она всегда снимала у него приступ малодушия. Странно, она ничем не напоминала свою покойную сестру. Анна была красива, величава и меланхолична, Лиза – дурнушка, но деятельна и остра.
Дурнушка… Оспа оставила на лице беспощадные следы. Но глаза… Ах, глаза – и нежные, и веселые, и прозрачно-бездонные, и неприступно-твердые…
– Кляузы. Шестой год кляузы. – Он рассеянно стал перебирать бумаги.
Она легким ласковым движением коснулась его руки.
– Я смотрела прошение. Мы не зря заставили его переписывать. Теперь все убедительно.
Она положила перед Радищевым бумаги – письма в Уголовную палату и Сенат. Он нежно поцеловал Лизины пальцы и склонился над листом.
…Дело досмотрщика таможни Степана Андреева тянулось шестой год. Сначала Степана подвел откупщик Дружинин, за которого он поручился. Откупщик смошенничал, и суд приговорил взыскать деньги с Андреева.
Деньги взыскали, но при этом была допущена судебная несправедливость. Когда Андреев возмутился, его обвинили в неповиновении начальству.
После хлопот Радищева Уголовная палата признала, что дело Андреева велось с ошибками и надлежит взыскать пени с неправедных судей: Михаила Пушкина, Ивана Лефебра, Ильи Котельникова.
Но в это время в доме Андреева случилось убийство одного из жильцов, и судьи, разобиженные строптивостью досмотрщика, почти без следствия обвинили Андреева в убийстве. Он был лишен чипов и дворянства и приговорен к вечной каторге.
Радищев кинулся восстанавливать справедливость. Андреев давно уже гремел кандалами на Нерчинских заводах, а дело о полицейских чинах, нарушивших порядок следствия, все тянулось.
…Александр Николаевич просмотрел все бумаги и остался доволен. Доводы казались безупречными. Прошения направлялись в Уголовную палату и в Сенат.
Через час он входил к судье Ивану Лефебру, который так неохотно поднялся ему навстречу, будто пудовая тяжесть висела за плечами. И то надо понять: дело Андреева весомо, шкафы набиты папками с пометами 1784 года, 1785-го, 1789-го… Последней была дата: январь 1790 года.
– Опять? – спросил Лефебр безучастно.
– Опять.
– Доколе вы нас будете мучить?
– Доколе вы будете мучить невиновного.
– Мы внесли определение, и следователь от должности отрешен.
– Коли следователь отрешен, значит, и само дело следует пересмотреть.
– Не следует.
– Отчего?
– Оттого что вина Андреева доказана. Императрица подписала наш приговор. Кто же будет его отменять?
– Я полагаю, что суд руководствуется прежде всего законами. И монарх тоже подчиняется им.
– А я полагаю, что вам не следует ссориться с Уголовной палатой. Рекомендую взять ваше прошение назад.
– Я требую дать ход бумаге.
– Ход дать можно, но найдем ли выход?
– Дурная шутка, ведь речь идет о судьбе невинно пострадавшего человека.
– Если уж дело столько тянется, значит, вина есть.
– Умозаключение чудовищное и стыдное для судьи, – сказал Радищев и повернулся к двери.
Дома он достал из потайного ящика рукопись «Путешествия из Петербурга в Москву» и принялся за работу. В памяти неотвязно стояло суровое лицо Кречетова. «Вы тоже об стенку бьетесь?..» Он дописал главу «Спасская полесть», включил в нее историю невинно осужденного человека.
"Сначала грамоте научить человека", – кипел несогласием Кречетов. А как научить, если мысль скована цензурой?
Он принялся за главу "Торжок". Перо летало… Цензура сделана нянькою рассудив. Но где есть нянька, где ходят на помочах, там у ребят кривые ноги получаются и разум незрелый. Он прибегнул к мнению Иоганна Готфрида Гердера, немецкого философа: "Наилучший способ поощрить доброе есть непрепятствие, дозволение, свобода в помышлениях… Книга, проходящая десять цензур прежде, нежели достигнет света, не есть книга, но поделка святой инквизиции… Чем государство основательнее в своих правилах, чем стройнее, светлее и тверже само по себе, тем менее оно может поколебаться от дуновения каждого мнения, от каждой насмешки разъяренного писателя, тем более благоволит оно к свободе мыслей и свободе писаний".
Как одобрение театральному сочинению дает публика, а не директор театра, так и выпускаемому в мир сочинению цензор не дает ни славы, ни бесславия… Занавес поднялся, взоры всех устремились на сцену: правится – рукоплещут, не нравится – стучат и свищут. Оставим глупое слово на общее суждение: оно найдет тысячу добровольных цензоров. Негодующая публика мгновенно осудит дрянь мысли, как это не сделает ни одна полиция мира.
Остановиться было невозможно… Он взялся описывать историю цензуры. Еще в Древнем Риме цезарь Август велел сжечь две тысячи книг. Пример несообразности человеческого разума! Неужели, запрещая суеверные писания, властители сии думали, что суеверие истребится?
Но ни в Греции, ни в Риме нет примера, чтобы был избран судия мысли, который бы заранее клеймил сочинения. Судия мысли появился вместе с христианством, со святой инквизицией.
Он рассказал о преследовании монархами книгопечатания, о папских посланиях, грозящих карою за распространение учений, враждебных христианству, о бастильских темницах во Франции, где томились узники, дерзнувшие осуждать хищность министров и их распутство.
Но поразительны извивы человеческой истории. Ныне, когда во Франции все твердят о вольности, цензура там не уничтожена. Народное собрание, поступая столь же самодержавно, как доселе король французов, сочинителя книги отдало под суд за то, что дерзнул писать против народного собрания. Лафайет был исполнителем сего приговора. Видимо, таков закон природы: из мучительства рождается вольность, из вольности – рабство. Не этому ли закону следовал Кромвель, после казни короля Карла сам ставший деспотом и сокрушивший твердь свободы?
Он кончил работать поздно ночью. Голова горела… Он взял в руки листы и задумался. Скоро нести рукопись в Управу благочиния – к нынешней судии мысли. Как она отнесется к его словам о цензуре? Вряд ли обрадуется, вряд ли пропустит…
Он отложил в сторону листы, на которых было записано "Краткое повествование о происхождении цензуры". Незачем дразнить гусей… Пусть в управе читают рукопись без "Краткого повествования". Поколебавшись, он изъял еще несколько сомнительных мест, в том числе включенную в главу "Тверь" оду "Вольность"…
Если будет возможность, он вернет оду в книгу. В Москве оду не стали печатать. Упрекали: много стихов топорной работы, – и с хитрой улыбкой добавляли: предмет стихов несвойственен нашей земле… Но пусть тогда книга вберет в себя эти грубые топорные стихи – отдельными строфами, осколками. Без модного блеска, но с угрюмой силой камня. Пусть цари смятутся от гласа народа. Грозно вещает народ, упрекая государя:
Но ты, забыв мне клятву данну,
Забыв, что я избрал тебя
Себе в утеху быть венчанну,
Возмнил, что ты господь, не я,
Мечом мои расторг уставы,
Безгласными поверг все правы,
Стыдиться истине велел,
Расчистил мерзостям дорогу,
Взывать стал не ко мне, но к богу,
А мной гнушаться восхотел.
Надо оставить строку о монархе: «Злодей, злодеев всех лютейший»… Другие пропустить многоточием… А эта пусть будет… Как взмах меча: «Умри! умри же ты стократ!..»








