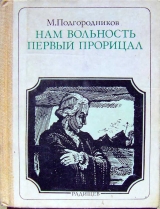
Текст книги "Нам вольность первый прорицал: Радищев. Страницы жизни"
Автор книги: Михаил Подгородников
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Через несколько минут он уже сидел у кровати больного Ушакова и исповедовался.
Федор Васильевич выслушал внимательно и сказал, что любовь – вещь опасная, что она превращает оленей в тигров. Любовная страсть сама по себе не вызывает ни одобрения, ни осуждения, но остерегаться ее должно, так как она отвлекает гражданина от поступков, полезных отечеству.
Александр внимал старейшине безропотно, но вдруг почувствовал неодолимое желание устремиться вдогонку за Лизхен: так чудно блестели ее глаза, так нежно пахли волосы, так ласково позвякивал бидончик. Но бежать за молочницей было так же невозможно, как невозможно было Насакину пренебречь волей друзей, их желанием выполнить акт возмездия.
Чтобы отмести наваждение, Радищев заговорил о Бокуме, который теперь подло мстит, старается лишить студентов сносного питания.
Ушаков усмехнулся:
– Он прав.
– Как прав? Он вор…
– Наше общество распалось. Мы не подчиняемся ему и не можем ничего от него требовать. Право предполагает обязанности, и наоборот, обязанности гражданина дают ему право. Человек, вступая в общество, обязуется терпеть зло, причиняемое ему начальником, потому что это зло приносит ему добро – общественное спокойствие.
Ушаков говорил внятно и твердо, как по-писаному, и это было не удивительно: он излагал мысли своего сочинения о праве на наказание и смертную казнь.
– Бокум – наш государь. Мы разорвали связи с ним. Можем ли теперь сетовать на него?
– Ну а если бы Бокум остался бы нашим государем? Имел бы он право на свои издевательства?
– Тогда иное дело. Но разумно ли ему издеваться над нами? Что такое благо государственное? Вообрази: государство есть некая нравственная особа, и граждане оного – ее члены, руки и ноги этой особы. Можно ли подумать, что человек, раздробивши себе одну ногу, захотел воздать зло за зло и преломил потому другую ногу? Положение государства сему подобно. Вот почему государство должно заботиться о благосостоянии и свободе своих граждан. Оно не может желать себе зла.
– Но выходит, деспотические государства желают себе зла.
– Деспотизм лишает народ добродетелей. В странах, где замалчивают мысли, думают мало. Кто смеет самостоятельно мыслить среди народа, подчиненного произволу? Гельвеций утверждает, что развращенность людей, леность, бездеятельность, непривычка мыслить есть дурные следствия деспотизма.
Они заговорили об императорах-деспотах, о Калигуле, Нероне, Диоклетиане, о свирепости наказаний, о нелепости смертной казни, которая никак не служит исправлению нравов.
Они подолгу говорили о материях высоких и важных и при этом не уставали.
Их охватил азарт познания. Радищев не расставался с толстым томом «Основательные наставления хирургические, медические и рукопроизводные в пользу учащимся», где были изложены приметы всех болезней и способы их лечения. Кутузов увлекался Библией и странствовал в мыслях по древней земле Ханаанской. Янов не пропускал лекций благочестивого профессора Геллерта. Рубановский усердно склонялся над лексиконами, он готовил себя к дипломатической карьере и изучал множество языков.
Когда науки утомляли, они шли в город, в ресторацию «На огородах», где лакомились превосходными пирожными, сочиненными пирожником Генделем, чье искусство воспел студент Иоганн Вольфганг Гёте, будущий немецкий поэт:
Твой гений творческий печет оригиналы
Пирожных, любят их британцы, ищут галлы.
А кофе – океан, что у тебя течет,
Конечно, слаще, чем Гиметта [2]2
Гиметт – горный хребет неподалеку от Афин, на склонах которого росли ароматические травы, придающие меду, собранному здесь пчелами, особый вкус.
[Закрыть]сладкий мед!
Стихи были написаны на стене карандашом, российские студенты спрашивали об авторе, и им указывали на высокого стройного студента с орлиным профилем и темными сверкающими глазами.
В воздухе была разлита поэзия, стихи читали прямо в ресторации, иные студенты вскакивали в азарте иногда на стол. Молодые поэты, охотясь за образами и мыслями, бродили в одиночестве по берегам реки, и комары отчаянно жалили их, не давая возможности сочинять вечные строки. У русских отношение к поэзии было прохладным, они предпочитали философию. Они рассуждали о деспотизме и рабстве, о формах правления, о добродетелях и о том, что государства бедные были всегда богаче великими людьми, чем государства богатые. Монтескье, Вольтер, Мабли будоражили их, и Радищев трактовал слова Мабли по-своему, на российский манер: «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому существу состояние».
Лизхен мелькала в толпе горожан, и Александр холодно кланялся ей издали и торопился уйти, боясь, что решимость покинет его и он снова подойдет к той, что считает деспота добрым человеком.
Часто с ними гулял Федор Васильевич. Болезнь его съедала, он исхудал, но никогда не жаловался. Он шел с друзьями, с наслаждением прислушивался к их болтовне, иногда вставлял весомое слово. И в шутку и всерьез он любил вспомнить какое-либо латинское выражение. «Кво ус кве тандем абутере, Катилина, патиентиа ностра?» [3]3
До каких, пор, Катилина, ты будешь испытывать наше терпение? ( лат.).
[Закрыть]– насмешливо говорил он Кутузову, который все толковал о масонах: они сообща построят храм Соломона, храм любви и мудрости, человеческой солидарности. А Рубановского, который весьма интересовался событиями придворной жизни, наставлял: «Первая мудрость – глупость отбросить».
Латинский язык он любил за силу выражений, за кованые громоподобные фразы, вобравшие дух державства и вольности и оставленные на века. Ушаков не мог ограничиться лекциями в университете, он приглашал учителей латинского языка на дом, и утро заставало его беседующим с римлянами.
Состояние его ухудшалось. Он слег в постель, но продолжал штудировать книга.
Однажды Ушаков прервал работу и попросил привести врача.
– Скажи, буду ли я жить? Если болезнь неизлечима, то ответь: сколько дней мне осталось.
Врач замялся и шуткой решил отвлечь больного от черных мыслей:
– На то ответить могут только гадалки. Они сидят на рыночной площади, раскладывают карты и объясняют все очень точно.
Федор Васильевич взглянул строго:
– Ты – мой друг, тебе не надо гадать. Твои знания скажут.
– Что мы знаем о человеке? – вздохнул врач.
Радищев всматривался в желтое угасающее лицо Ушакова и понимал, что конец близок. Но врач молчал, он знал, что надежда и утешение часто спасают человека, а правда убивает.
– Не думай, – сказал Федор Васильевич, – что, возвещая мне смерть, дух мой приведешь в трепет. Днем раньше умрем, днем позже – не все ли равно, можно ли соразмерять это с вечностью. Почитай Сенеку, ты увидишь, что я прав.
Федор Васильевич глядел прямо и ждал ответа. Врач молчал, Радищев замер, пораженный необыкновенной сценой.
– Пусть будет по-твоему, – сказал врач сурово. – Более двух суток жизни не могу обещать тебе.
Радищев с ужасом смотрел на Ушакова. Но тот спокойно взял врача за руку:
– Благодарю. Нелицемерный ответ твой почитаю истинным знаком нашей дружбы. Прости в последний раз и оставь меня.
Ушаков велел позвать всех. Многие вошли со слезами на глазах.
– Час пришел, расстаемся. Хочу надеяться, что в суете вы не растратите доброе и высокое, что есть в вас. Прощайте.
Он попросил на время оставить одного, а через час позвал Радищева:
– Возьми мои бумаги, употреби их, как тебе захочется. Помни, что я тебя любил. Помни и о том, что в жизни надо иметь правила, чтобы быть блаженным. Должно быть тверду в мыслях, чтобы жить и умирать бестрепетно.
Александр с трудом удерживал рыдания. Ушаков ласково улыбнулся:
– Ну, вот и все.
На исходе дня ему стало совсем плохо. Антонов огонь сжигал тело, на коже появились черные пятна. Пришел врач.
– Дай мне яду, – чуть слышно прошептал Федор Васильевич.
Врач отрицательно покачал головой.
– Дай, пожалей…
Врач молчал. Радищев тоже оставался недвижим.
Всю жизнь он потом вспоминал этот миг, корил себя: надо было внять просьбе Ушакова, который, читая Плутарха, часто приводил слова идущего на смерть Катона как свидетельство великого мужества: «Иного выхода я не вижу…»
Но тогда он не мог шевельнуться.
Утром Ушаков скончался. Они похоронили его на городском кладбище, в нескольких шагах от громадного дуба, словно в надежде, что соседство этого пятисотлетнего гиганта продлит короткую жизнь их старшего друга.
Он остался в немецкой земле, их ожидал обратный путь – в Россию.
ДЕРЗОСТНЫЙ ДОКЛАД
Рубановские давали бал. Василий Кириллович обессилел от хлопот и приготовлений, и если бы не помощь брата Андрея Кирилловича, недавно вернувшегося из Лейпцига, где проходил курс наук, то вместо бала, как слезно шутил хозяин дома, «случились бы похороны».
Однако празднество надо было устраивать: как-никак одна дочь на выданье, и еще две подрастают. Да и от соседа Найдорфа нельзя отстать: скупой немец, а такую ассамблею на прошлой неделе раскатил, что весь Петербург о том судачит и сама императрица позавидовала.
Василий Кириллович еще раз пробежал список гостей, не забыли ли пригласить кого, и наткнулся на новую приписанную фамилию – Радищев.
– Андрей, – со строгим видом он повернулся к брату, – отчего я не предупрежден? Ты все о своих приятелях хлопочешь? У нас все-таки соберутся видные люди.
– Александр очень видный собою человек, даже просто красавец.
– Не шути. Этот мальчик…
– Опомнись, прошло столько лет! А тебе все чудится маленький паж.
– Ну, как знаешь, – недовольно произнес Василий Кириллович и, не желая обострять разговора, заторопился в залу, проверить, хорош ли оркестр и не будет ли сраму от худого звучания инструментов.
Камер-фурьер Рубановский любил порядок, каждая строка должна быть прилажена к своему месту. Он ежедневно аккуратно делал записи в придворный камер-фурьерский журнал, и эта методическая работа давала ему ощущение собственной значимости. Еще бы – он был придворным летописцем! Одной давней записью он особенно гордился: государственным событием тогда было отмечено, что императрица «изволила воспринимать младенца у камер-фурьера Рубановского». У младшей дочери Дашеньки крестной матерью оказалась сама Екатерина Вторая!
Это воспоминание окрыляло, ободряло, и легче было сносить упреки супруги Акилины Павловны в том, что он никак не продвигается в чинах и застрял на статском советнике;
«Ну что, ваше высокоутробие? Каково?» – снисходительно спросил Василий Кириллович у повара и отер лицо платком. «Не изволите беспокоиться. Не хуже, чем у Лукулла», – отвечал с достоинством начитанный повар.
Но вот хлопоты кончились, и наконец наступила та торжественная минута, ради которой все крутом доводилось до блеска, ради которой хозяйка дома уже три дня пила успокоительные капли, ради которой был приглашен президент Коммерц-коллегии граф Александр Романович Воронцов и другие влиятельные лица.
Радищев вошел с уверенным видом щеголя. Василий Кириллович сказал ему несколько любезно-холодных фраз и тут же отвернулся от гостя, спеша к другим.
Андрей повел своего друга знакомиться с семейством Рубановских. Но разговора с Рубановскими не получилось. Акилина Павловна ограничилась кивком головы, любопытная Лиза обратила к гостю свое живое рябоватое некрасивое личико с вопросом, но Радищев был невнимателен: он смотрел на Анну.
Пели скрипки, шаркали ноги, к нему обращались, он что-то отвечал, но видел только эту тихую статную величавую девушку с ясным теплым взглядом серых глаз.
Объявили кадриль, он поспешил пригласить Анну, но ему помешали, он не успел и с досадой остановился и отвернулся, чтобы не смотреть на нее, уводимую властной рукой более предприимчивого кавалера. Кадриль была бесконечна, и бесконечна последовавшая за ней пауза. Наконец начались приготовления к английскому танцу – контрдансу, он кинулся, оскальзываясь на натертом полу, приглашать и был вознагражден улыбкой. В танце он обрел уверенность, движения его имели щегольскую отточенность. Взглядов, одобряющих его искусство, он не замечал и танцевал так, как будто это был его последний выход в свет.

За контрдансом последовал полонез, и Александр опять пригласил ее. Длинный танец показался обидно коротким, они остановились и взглянули друг на друга. Он искал слова, которые ей скажет, но не находил и вдруг неожиданно для себя похвастал:
– На этой неделе у меня третий бал.
– А у нас балы редки. Зато по вечерам много музицируем.
– Сказывают, у вас пела сама Габриэлли?
– Нет, батюшка думал пригласить ее, но побоялся, что государыня будет недовольна. Она теперь ее не жалует.
– Она любит только тех иностранцев, которые далеки от нее. Вольтера, например…
– Не смейтесь над государыней, батюшка услышит – рассердится.
Снова зазвучала музыка, и снова он танцевал с упоением, не замечая озабоченного взгляда Василия Кирилловича и нахмуренного лица Акилины Павловны.
Потом его тронул за рукав Андрей Рубановский.
– Аннушка, мне нужно сказать кое-что Александру.
Они отошли.
– Саша, я любуюсь тобой. Анна славная. Но ты слишком демонстративен… вот что… пропускай некоторые танцы. Нельзя, нехорошо. Дело в том, что у Анечки есть жених… Нет, нет, еще не жених. Но в семье на него есть виды. Камергер. Вон тот господин.
Мир покачнулся. Стало пусто и холодно. Радищев потухшим взглядом смотрел в другой конец зала, где с каменным лицом стоял некий господин в синем камзоле.
– Саша, я не хотел тебя огорчать. Просто будь сдержаннее.
Радищев посмотрел на Анну. Та отвечала ему долгим мягким взглядом.
– Нет, – быстро сказал Радищев. – Ты плохой посол. Я буду скакать, пока не упаду.
И он ринулся в бал, как в омут, не думая ни о камергере, на которого у Рубановских есть виды, ни о Василии Кирилловиче, ревниво следящем за дочерью, ни о себе самом, поведение которого становится уже неприличным. Анна спрашивала его, чем он хочет заняться после Лейпцига, Александр отвечал, что он сейчас протоколист в Сенате, но быть канцелярской крысой не его удел, у него есть виды – он подчеркнул «виды» – найти экономические занятия, может быть, выбрать морскую торговлю, на значение которой указывал Петр Первый, а ведь дед – Афанасий Прокофьевич Радищев был денщиком Петра, значит, и внуку пристало помнить о завете славного царя.
Анна отвечала, что она тоже чтит Петра Великого и что, конечно, морская торговля – замечательное дело. Он сказал, что в восторге от ее поддержки и что после такого прекрасного вечера он никуда, ни на какие другие, самые великолепные балы не пойдет. Ее смех был наградой.
Вдруг музыка стихла, все повернулись к входу. Туда уже летел Василий Кириллович, бледный и счастливый: прибыл сам президент Коммерц-коллегии граф Александр Романович Воронцов. Он сказал, что рад видеть добрейшего Василия Кирилловича, но не может долго оставаться на празднике, сегодня горели амбары в порту, на Пеньковом буяне, и требуется неотложное разбирательство, пусть уж Василий Кириллович не посетует. Но Василий Кириллович и не думал сетовать, это просто подарок судьбы, что его сиятельство прибыл в его скромное жилище, украсил их праздник.
Началась долгая церемония знакомств, узнаваний, расспросов. Александр Романович обходил гостей. Очередь дошла до Радищева.
– Александр Николаевич Радищев, друг моего брата. Учились вместе в Лейпциге, – скупо обронил хозяин дома с намерением двигаться дальше, но Воронцов с любопытством поглядел на раскрасневшегося Радищева:
– А что, по-прежнему ли хороши мануфактуры в Лейпциге? Не следует ли нам больше закупать тканей у них?
– В Лейпциге надо закупать поэтов, они там блистательно хороши, – отвечал без улыбки Радищев.
Воронцов рассмеялся.
– Поэтов лучше закупать во Франции.
– Во Франции они слишком умны. А поэтам умничать не следует.
– Слава богу, поэты не по моей части. Капризный был бы товар. У них все шутки, дельного слова не дождешься, – с некоторой досадой сказал Воронцов.
«Явление цезаря, – проводил его взглядом Радищев. – Отчего это только вошел – все замерло, никто уж не танцует, не дышит. Все должны стоять навытяжку и отвечать на его высокоумные вопросы».
«Пустослов, не иначе. Сказал лишь для того, чтобы его остроту повторяли по Петербургу», – определил Воронцов. Он четко разделял людей на полезных и пустых, и тут же мысленно вычеркнул Радищева из первого списка.
Радищев обернулся к Анне и сразу забыл о цезаре – Воронцове и ждал только момента, когда кончится эта надоевшая пауза и вновь заиграют музыканты.
Воронцов отдал должное и веселью. Прошелся по кругу в танце с хозяйкой дома Акилиной Павловной, затем попрощался и уехал. За ним постепенно начали разъезжаться гости. Радищев вдруг спохватился и, словно в страхе, что останется последним, лицом к лицу с Василием Кирилловичем, торопливо откланялся. Андрей Рубановский шел за ним, что-то говорил вслед, но Радищев слов его не слышал…
Западный ветер гнал длинную пологую волну, и тогда Нева приподнимала корабли у причалов, на рейде, и держала их так подолгу наверху, угрожала низким берегам широким разливом. Звонил тревожно колокол, предупреждал позаботиться о товарах, уложенных в погребах, амбалах, пакгаузах. Но стихия будто играла, ветер слабел, вода опадала, и Нева по-прежнему покойно и уверенно изливалась в Балтику.
На причалах остро пахло смолой, рыбой. Амбары задыхались от натиска пеньки. В пакгаузах груды ящиков источали восточные пряные ароматы.
Радищев медленно шел по пристани. С мелкосидящих судов, пришедших из Кронштадта, где стояли большие корабли, разгружали товары португальские, голландские, венецианские. Около только что прибывшего галлиота Радищев задержался. С палубы ему приветливо замахал рукой владелец товара.
Радищев поднялся на палубу. Купец, изменив английской сдержанности, суетился перед таможенным чиновником.
– Сейчас позовем переводчика!
– Толмач не надобен, – отвечал Радищев по-английски.
– О! – обрадованно воскликнул купец. – Так мы лучше поймем друг друга!
Вильям Докс оказался доверенным лицом английской фирмы «Кромп». Привез из Ост-Индии бочки с гумадрагантом – со смолой: товар был ходким.
Докс пригласил Радищева в каюту. Там был накрыт стол, и бутылка виски царила над расставленными тарелками.
– Сырость проклятая! Совсем продрог, – Докс взялся за бутылку. – Не угодно ли рюмку, чтобы согреться?
– Нет, благодарю. Я ограничен временем.
– Извольте, приступим к делу. Но для начала вот эта безделка, которую просил вам передать мистер Кромп – мой хозяин.
И Докс положил перед Радищевым перстень.
– Я не имею обыкновения начинать дело с акциденции, – сказал Радищев.
– Отлично! – весело воскликнул Докс. – Пусть это будет приятным концом.
– Прошу вас изъясняться по существу. Покажите корабельное объявление о грузе.
– На борту 200 бочек гумми. Если не ошибаюсь, согласно тарифу 1766 года гумми идет в перечне красок. Значит, пошлина полагается два рубля десять копеек с пуда.
– Ошибаетесь, гумми нельзя уподобить краскам. Пошлина будет впятеро больше.
– А зачем нам именовать так? Напишем – краски, и дело с концом. Все равно как назвать кошку – лишь бы мяукала, ха-ха!
– Кошка не станет тигром, если ее переименовать.
Хитро придумал мошенник. Таможенная пошлина будет поменьше, разницу в оценке он не отдаст своим хозяевам, а положит в свой карман. Мистер Докс не скуп и готов поделиться с упрямым таможенником. Для почину перстенек.
– Господин Докс, покажите товар. Если там будет краска, напишем, как вы желаете…
Они пошли в трюм смотреть бочки. Повсюду в них лежала тяжелая клейкая масса гумми.
– Придется платить по нынешнему тарифу, о чем фирма извещена давно.
Радищев кликнул писаря и сел писать реестр товару. Англичанин превратился в каменное изваяние. На писание реестра ушло около часа, за это время словоохотливый мистер Докс не проронил ни слова, только щурился на странного таможенника, который сам себя ограбил и не дал взять денег, плывущих прямо в руки.
– Ну, с богом! – удовлетворенно сказал по окончании дела Радищев и с интересом посмотрел на стол, уставленный закусками. Докс не шевельнулся. – Кошка останется кошкой.
Когда они с писарем сошли на причал, раздался крик. Англичанин стучал себя по лбу и указывал на Радищева:
– Чурбан! Дьявол!
Александр вежливо поклонился.
Он дернул колокольчик дважды. Долго не открывали. Он уже нетерпеливо повернулся, чтобы уйти, и дверь, та самая дверь, которая была гостеприимно распахнута во время бала, наконец со скрипом, неохотно отворилась. Швейцар сухо произнес:
– Просят пожаловать. Вас ждут в кабинете.
Радищев стремительно взбежал по лестнице. Сердце стучало, дыхание пресекалось – в доме было тихо, безлюдно, словно все затаилось в недобром ожидании. Он вошел в кабинет Василия Кирилловича. Хозяин дома неторопливо встал и разглядывал гостя строго, придирчиво.
– Я получил вашу просьбу о визите. Супруга, к сожалению, нездорова и поручила мне обсудить интересующие вас предметы.
От слова «предметы» веяло арктическим холодом. Радищев беспомощно молчал. Василий Кириллович вопросительно глянул:
– Я полагал бы…
– Да, да, извините… Я прошу руки вашей дочери.
Теперь замолчал Рубановский. Он навел справки о семье Радищева. У отца, Николая Афанасьевича, две тысячи душ: имение в Саратовской губернии, в Московской. Семь сыновей, четыре дочери. Не богаты, но и не бедны. Сын учился в Лейпциге, был среди лучших. Однако арабским скакуном не назовешь – рабочая лошадь, вечно будет везти пеньку да бочки с дегтем. Слишком старателен, далеко не уедет… Андрей, правда, с восторгом говорил о своем друге. Василий Кириллович начинал колебаться, но Анилина Павловна стояла на своем: партия слабая.
– Но Анна еще юна. Все мечтает, а ей надо осмотреться в жизни, – нерешительно заговорил Василий Кириллович, отлично понимая неубедительность довода. – Вероятно, и вам следует прочно стать на ноги. Ох, сколько забот требует семейная жизнь. Куда вы, молодые, торопитесь. Когда я был холостяком, сколько я провел веселых дней. И в театре поигрывал, в пьесках Сумарокова.
Тут Василий Кириллович несколько осекся. В пьесе Сумарокова «Чудовищи» он играл роль ябедника Хабзея, за которого спесивые родители не хотели отдавать замуж свою дочь, предпочитая другого кандидата – щеголя, петиметра Дюлижа.
– Василий Кириллович, у меня теперь нет больше веселых дней!
– Напрасная унылость. – Василий Кириллович решил было обнадежить влюбленного, смотревшего печально, но спохватился, вспомнив о неуступчивой Анилине Павловне. – Александр Николаевич, – он принял официальный вид, – мы благодарны вам за лестное предложение. Нам необходимо подумать. Есть немаловажные препоны, для устранения которых потребно время. – Он остался доволен своей уклончивостью.
Радищев поднялся. Василий Кириллович несколько сжался под его прямым, ясным, неотступным, очень спокойным взглядом.
– Если вы не отдадите Анну Васильевну, я ее украду.
– Что?! Как вы смеете? Да вас под суд! – закричал Василий Кириллович. Александр стоял покорно, с опущенной головой. Рубановский заговорил тише: – Ну, глупости, глупости… Этак я вас прогоню, и дело на сем кончится. Вон какой молодец! Жизнь не бал, всех не перепрыгаешь! Терпи.
В амбарах, забитых пенькой, дышать было нечем. Едкая гниль висела в воздухе.
– Сил нет, надо разгружать амбары. – Секретарь таможни Захар Николаевич Посников кашлял и вытирал слезящиеся глаза.
– Гамбургский галлиот стоит пустым у причалов. Надо быстрее загружать немца. И Хрычову нора в Данию уходить. Браковку пеньки сделали? – Радищев обмахнул пыльное лицо платком.
– Делают, – замялся Посников.
Радищев глянул на секретаря. Глаза Посникова, мечтательные, грустные, туманились недосказанной мыслью.
– Отчего не закончили? Говорите.
– А что говорить, Александр Николаевич, – вздохнул Посников. – Опять нехорошо. Опять браковщиков ворами называют. Будто купец Хрычов дал им по нескольку золотых ефимков, и они его пеньку худым товаром записали, чтобы Хрычову поменее пошлину платить.
– Кто об этом толкует?
– Коллежский асессор Могильницкий.
Он помнил этого Могильницкого, аккуратного чиновника, который нес на своем лице выражение неподкупности и правдолюбия. Ах, каналья. Могильницкий – друг-приятель купца Прянишникова. А тот хочет обскакать Хрычова и уйти в Данию с пенькой первым да «Нептуне». Не потому ли Могильницкий распускает о браковщиках дурные сплетни, чтобы задержать Хрычова с товаром в порту?
С моря налетал упругий ветер, ласково обмывал горящее лицо. Мачты кораблей покачивались вразнобой. Посников одной рукой придерживал шляпу, другой прижимал под мышкой книгу с реестрами.
– Могильницкий не только слухи распускает, но и наветы сочиняет, – заговорил Радищев. – Вице-президент коллегии Беклемишев настроен против браковщиков. Им под суд идти. Самое малое – должности лишаться. С пустыми руками к Беклемишеву являться бесполезно. Будем сами проверять браковку.
– Александр Николаевич, это ж тысячи пудов пеньки, – тихо отозвался Посников. – Утонем в ней.
– Бог даст, выплывем. А может, и браковщиков вытянем.
Они выбрали длинный ряд амбаров, вытянувшийся вдоль реки, и разошлись в разные стороны.
Работа заняла весь день. Они щупали, тянули волокно, искали грубую кострику, снижавшую качество волокна, сверялись с документами, представленными браковщиками. Серые от пыли, утомленные, они сошлись наконец посредине амбарного ряда, взглянули друг на друга и рассмеялись.
– Вполне в огород можно пугалом ставить! – сказал Радищев. – Однако пусть Могильницкий страшится: мои наблюдения подтверждают невиновность браковщиков. А вы какого мнения?
– Упущений не нашел.
– Я так и полагал. – Радищев медленно отряхивал рукава. – Что ж, сейчас баня, а потом баталия с Беклемишевым.
Вице-президент Коммерц-коллегии был рассержен. Как? Виновность браковщиков уже доказана, коллегия решила их наказать, Воронцов тоже склоняется к наказанию, президенту остается только утвердить подготовленное решение. Господину Радищеву нужно сообразовываться с общим мнением, а не упорствовать попусту.
– Я прошу представить мои соображения Воронцову, – сказал Радищев. – Ежели это не будет сделано, я подаю в отставку и уезжаю в деревню. Обещаю в Петербург уже не возвращаться.
Беклемишев задохнулся от негодования:
– Вы слишком самонадеянны, сударь, и не уважаете мнения большинства!
– Человек не раб большинства, а друг истины.
Румяный коллежский асессор смотрел на него, вице-президента, спокойно, испытующе, как будто они поменялись чинами. Беклемишев произнес с некоторой угрозой:
– Извольте. Александр Романович разъяснит вам истину…
На следующий день Радищев был вызван к президенту Коммерц-коллегии. Секретарь ввел его в кабинет и велел обождать: утомленный делами, начатыми, как обычно, с раннего утра, Воронцов вышел на прогулку к Неве.
Радищев огляделся. Почти полкомнаты занимал массивный письменный стол. На нем бронзовый Вольтер морщил в язвительной усмешке губы, снизу, с портрета на золотой табакерке, преданно смотрела на великого насмешника Екатерина II – ценнее иного ордена была награда царской табакеркой. Драпировка из китайского шелка на стене могла бы показаться принадлежностью дамского будуара, но то был образец товара из далекого Китая. Другие образцы лежали на полках: пук пеньки, кусок мрамора, зерно в стеклянной вазе, корявый слиток чугуна на серебряном подносе.
Радищев всмотрелся в фамильный герб, висящий над дверью: две вздыбленные перед короной лошади, надпись под щитом: «Семпер иммота фидес» – «Верность всегда неколебимая»…
Дверь распахнулась, и вошел Воронцов, без улыбки протянул руку, мельком оглядывая коллежского асессора, который так щегольски танцевал, на балу у Рубановских.
Он сел за стол и взял в руки две бумаги: одна – решение коллегии, другая – ходатайство Радищева.
– Итак, кому верить? – спросил Воронцов и откинулся к спинке кресла.
– Верить не надо никому. Есть аргументы. Их мы нашли вместе с Посниковым во время ревизии.
Радищев придвинулся, готовый к спору. Но Воронцов коротко сказал:
– Я читал. Ваши доводы убедительны.
Лицо Радищева просветлело. По привычке поучать Воронцов хотел сделать несколько замечаний в упрек поведению Радищева, но раздумал. Хмурясь и сердясь на себя за то, что ему передается радость подчиненного, он заговорил резко и сухо:
– Заключение Коммерц-коллегии ошибочно. Оно зиждется на донесении Могильницкого. Факты искажены.
Он помедлил и прибавил тихо;
– Коммерц-коллегия поверила прохвосту.
Воронцов встал с кресла, подошел к окну. Слегка постучал пальцем по стеклу.
– Голландское. Отныне голландских стекол у нас не будет. Будут одни потемкинские. Князь Григорий Александрович Потемкин построил стекольную фабрику и теперь запрещает ввоз иностранного стекла, дабы доходы свои сберечь.
Воронцов повернулся к Радищеву. Обычно спокойное, твердое лицо его запылало:
– Бич России. Некоронованный владыка. Могильницкий – его холоп. Могильницкий поторопился отправить письма иностранным фирмам с отказом от ввоза стекла. Могильницкому предложу отставку. Но более я ничего не могу сделать, указ императрицы на днях поддержит нечистый потемкинский маневр.
Он взял со стола решение коллегии и разорвал:
– Браковщики остаются на своей должности… А вам, чтобы не скучать, надлежит разобраться в жалобе французских королевских судов. Они ждут погрузки и жалуются на задержку.
Он протянул бумагу и испытующе посмотрел на Радищева. Ему не терпелось составить ясное представление о подчиненном. Он боялся себе признаться, что ему начинает нравиться этот упрямец.
Василий Кириллович писал письмо наследнику престола. Не писать он не мог: невнимание начальства обижало, терзало его. Шутка ли: за десять лет ни благодарности, ни повышения в чине – они забыли о своем камер-фурьере, как об амбарной мыши. Но ничего, великий князь Павел Петрович им напомнит, что следует уважать неутомимых слуг отечества. Он был ласков с Рубановским и всегда расспрашивал знакомых о здоровье Василия Кирилловича.
Рубановский кликнул слугу, велел ему отнести конверт верному человеку, который должен передать письмо в руки наследнику. Исполнив долг, Василий Кириллович повеселел. Он вошел к дочерям и рассказал о послании. Но Анна и Лиза, как ни странно, восторга не выразили.
– Напрасно, батюшка, вы это сделали. – Чистые голубые глаза рябенькой Лизы глядели на него с недетским сочувствием и иронией.
– Отчего? – испуганно спросил Василий Кириллович.
– Оттого, что государыня не любит наследника и рассердится.
– Не чепуши! – растерянно воскликнул Василий Кириллович. – Маленькая курочка – дурочка! Чепушок! Все ты знаешь, обо всем судишь.
Он ходил по комнате и сердито поглядывал на дочерей.
– Вот чин дадут и дела наладятся. И Анечкину судьбу устроим… если глупить не станет.
Анна оторвала глаза от рукоделия:
– Я сама, батюшка, свою судьбу устрою.
– А наша воля тебе нипочем? С Акилиной Павловной бы посоветовалась, она все-таки добрая женщина и мать тебе!
– Не мать, а мачеха, – поправила дочь. – Анилина Павловна спит и видит зятем камергера.








