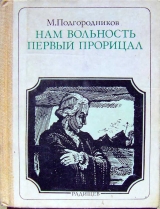
Текст книги "Нам вольность первый прорицал: Радищев. Страницы жизни"
Автор книги: Михаил Подгородников
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 10 страниц)
Он по многу часов проводил за письменным столом, изучал законы, основанные Фридрихом II, вновь постигал книгу Монтескье "О духе законов", справлялся у Воронцовых об английском законодательстве, мечтал сесть на корабль и достичь берегов Англии, чтобы познакомиться с укладом жизни вольнолюбивых британцев.
За этими занятиями заставал его Василий Назарьевич Каразин, человек легкий и красноречивый. Он скользил глазами по бумагам Радищева и восторгался:
– Замечательно! История не простит нам, если этот труд останется в тайне.
История снова повелительно входила в этот дом, и Радищев загорался и читал Каразину написанное с такой живостью, как будто перед ним сидел сам царь. Все должны быть равны перед законом. Табель о рангах уничтожить. Ввести суд присяжных. Отменить пристрастные допросы. Ввести свободу книгопечатания. Освободить крепостных крестьян. Установить свободу торговли…
Каразин с важностью кивал головой. Он одобрял проекты. Он будет споспешествовать добру. У него есть связи при дворе, и он, чтобы ускорить дело, передаст одной высокой особе предложения Радищева. Записки находятся у Завадовского? Надежда на сего господина слаба: Завадовский пристрастен к вину, ленив и думает больше о карточной игре. Нет, лучше передать членам Негласного комитета – Новосильцеву, Кочубею, а еще лучше… – Каразин делал значительную паузу – самому царю. Александр Николаевич укладывал бумаги в папку и протягивал Каразину.
Гости уходили, и в минуты затишья Радищев садился за поэму "Осмнадцатое столетие".
Кровавым было оно:
Будешь проклято вовек, в век удивлением всех.
Крови – в твоей колыбели, припевание – громы сраженьев.
Ах, омоченно в крови ты ниспадаешь во гроб…
Но столетье «безумно и мудро» принесло не только разрушение: «…ты творец было мысли, они ж суть творения бога…» Что сулит людям грядущее?
"Иль невозвратен навек мир, дающий блаженство народам.
Или погрязнет еще, ах, человечество глубже?"
Нет, надежда не должна оставлять людей. Он верит в Россию:
Выше и выше лети ко солнцу, орел ты Российской,
Свет ты на землю снеси, молпьи смертельны оставь.
Мир, суд правды, истина, вольность лиются
от трона…
Гремящие строки ложились на бумагу. Им овладевало торжественное, радостное настроение, с каким он когда-то писал «Путешествие из Петербурга в Москву».
Петр Васильевич прикрыл глаза от блаженства, ощущая, как легкие прохладные пальцы парикмахера мечутся по его лицу, делая массаж. Кожа сдавливалась, растягивалась, загоралась от трения, стыла в прохладной паузе, вздрагивала под ласковым натиском рук виртуоза. И чудилось Петру Васильевичу, что исчезают морщины, разглаживаются опухшие подглазья, упругими делаются увядшие губы – лицо становится таким, каким его любила покойная императрица: добродушно-веселым, мягким и мужественным, энергичным и добрым.
Он открывал глаза. Из зеркала смотрело опухшее, изрытое складками большое лицо с нездоровой белизной. "Отчего оно такое большое? – испуганно думал Завадовский и легко находил ответ: – Вино. Погубит оно тебя, брат, погубит…"
Он в тоске закрывал глаза, отдавался усилиям парикмахера, не надеясь уже на преображение.
…Может быть, поэтому государь его плохо принял? Александр долго смотрел на его опухшее лицо и со вздохом сказал:
– Теперь мне понятно, почему так медленно работает ваша комиссия. Вы слишком любите жизнь, Петр Васильевич!
Завадовский подождал, пока государь пояснит мысль, но тот не соизволил, и Петр Васильевич сокрушенно сказал:
– Кто же ее, ваше величество, не любит?
Александр сделал строгую мину, Завадовский тоже надел на лицо выражение озабоченности.
– Деятельность ваша может быть ускорена, – продолжал государь, – если вы используете опыт прошлых царствований. Материал разнородный, но вы ему придадите единство и цельный образ.
Завадовский одобрительно склонил голову: высочайшая мысль прекрасна. Потом подпустил в глаза чуточку сомнения:
– Другие времена, другие нравы. Ведь прежние законы – это обветшавшая храмина, из которой можно вынести только удобные вещи. Не лучше ли использовать опыт европейских соседей? Пруссии, к примеру…
Александр слегка поморщился: увлечение Пруссией напоминало о недавнем правлении отца – Павла I.
– Как будет угодно, ваше величество, – быстро произнес Завадовский. – Заверяю вас…
– Нет, почему же? Можно и Пруссии, – поспешно заговорил царь, видимо, боясь остаться в глазах Завадовского деспотом. – Перед вами весь мир, есть откуда черпать.
– Я поручу Радищеву изучить прусское земское уложение.
– Радищеву? Я слышал, это большой мечтатель. Он не замечает земли под ногами.
– Он добросовестен, ваше величество.
…Руки массажиста поглаживали нежно. Зеркало отвечало взгляду: нет, сегодня не получался вид моложавого, энергичного деятеля. Так пусть останется лицо добрым, старчески умудренным.
Он позвонил. Вошел камердинер.
– Вот что, дружок, придет Радищев, окажи, меня нет дома.
– Слушаюсь, ваше сиятельство. Но он уже приехал.
– Как? А ты что?
– Я сказал, что ваше сиятельство изволит отдыхать. Он сказал, что подождет.
– Ах, каналья, что ты наделал! – Завадовский махнул рукой. – Зови. Нет, пусть подождет в кабинете.
Петр Васильевич входил в кабинет с лицом строгим и решительным.
– Александр Николаевич, могу вас уведомить, что государь проявляет большое внимание к работе комиссии. Я готовлю ему записку, которая включит и ваши предложения.
"Нельзя ли передать прямо в руки его величеству?" – хотел сказать Радищев, но увидел неприязнь на лице Завадовского и произнес с горечью:
– Как долго все тянется…
Петр Васильевич приблизился, стер с лица печать сдержанности и деловитости и прошипел:
– Быстро только перевороты, сударь, делаются. И людей в крепости быстро заточают.
Радищев метался. Он сделал визит Каразину, допытывался, какое движение получил «Проект гражданского уложения», переданный ему. Каразин отвечал, что проект находится у одного из членов Негласного комитета и читается с интересом. Радищев продолжал допрос, но благородного «маркиза Позу», как называли Каразина при дворе, красноречие уносило в поднебесные сферы. Радищев уставал от его самолюбования и мчался к Воронцову.
Александр Романович трудился от зари до зари над составлением различных записок и докладов. Он предлагал государю провести реформу Сената, который должен выйти из состояния бессилия и ничтожности и стать собранием людей, имеющих истинную власть и влияние. Он проводил свою любимую и насмешливую мысль о том, что сенаторы и члены государственного совета не могут быть "чучелами", а должны нести ответственность наравне с государем. Он предостерегал царя от усиления власти военных. Их необузданность и честолюбие много могут горя причинить. В Риме преторианская гвардия решала дела так: "Кто денег больше даст, тот и будет императором". Пусть российские люди усвоят горький опыт истории…
Радищев снимал сюртук, расхаживал из угла в угол, бормотал фразы. Александр Романович писал под диктовку. Так они составили вместе "Рассуждение о непродаже людей без земли".
Потом Радищев читал свои бумаги, и Воронцов делал осторожные замечания. Иногда они спорили, но это не уменьшало энергии Радищева. Он с жаром говорил:
– Александр Романович, вы – надежда. Может быть, мы вместе сдвинем тяжелую российскую телегу?
Воронцов скептически усмехался:
– Государь считает меня человеком старых предрассудков, упрямым и тяжелым. А поэт Державин кричит, что я атаман молодой партии, которая намерена ослабить единодержавную власть государя. Наверно, он прав… Но может ли быть надеждой человек с такой репутацией?
– Есть один старый предрассудок, который остается молодым, – говорил Радищев. – Крестьянин закрепощен, он вещь, которую можно продать.
– Вряд ли кто-либо сейчас решится изгнать этот предрассудок, – уклончиво отвечал Воронцов, отворачиваясь от требовательного взгляда Радищева.
Александр Николаевич уходил с тяжелым сердцем: главная беда сохранится. Если в голосе Воронцова звучит скрытое упрямство помещика, то кто же тогда решится освободить крестьян?
Письма из Преображенского приходили редко, батюшка все никак не мог поделить имение. Тянулась тяжба с Козловым, соседом-помещиком, который должен был Радищевым 300 душ крестьян. Сенаторы при встрече напоминали Александру Николаевичу: "Ваше дело законное. Пусть ваш батюшка отдаст вам крестьян, которых ему должен Козлов. Тогда мы решим тяжбу в вашу пользу".
Но он не чувствовал в себе сил понуждать отца в передаче крестьян. Мучило противоречие: он воюет за их свободу, а должен строить свою жизнь на купле и продаже живых душ. Но как же иначе, таков порядок – пытался он иногда уговорить себя. Робкие доводы рассыпались: нельзя было проповедовать одно, а поступать по-другому. Он ни о чем не станет просить отца, не будет покупать души и судиться за них.
– Мне кажется, что хорошо было бы возобновить обычай древних персов, – говорил Радищев Завадовскому. – Они установили правило: каждый день приходит к шаху человек и напоминает, что он есть смертный. Не худо установить такой обычай для всех российских начальников.
Завадовский оскорбленно прикрыл глаза:
– Шутить изволите, Александр Николаевич.
– Никоим образом. Сей обычай много бы ускорил движение дел. И еще осмелюсь предложить: стоило бы изменить порядок, введенный Петром Первым. Низший чиновник во всем угождает высшему, отчего разум последнего стесняется и в его сжатую голову вселяется великое самомнение. Если бы все члены канцелярий были равны и председательствовали по очереди, то мнения гораздо были бы свободнее.
Петр Васильевич крякнул и стал тереть щеки и лоб для успокоения. Но оно не приходило, и Завадовский сказал ядовито:
– Отменное предложение. Только кто будет высказывать эти свободные мнения?
– Общество.
Завадовский рассмеялся открыто:
– Вы, Александр Николаевич, будто малый ребенок. Кто в толпе найдется, способный выразить общее мнение?
– Если бы сыскался житель столицы или путешествователь, твердый духом, то он смог бы показать картину злоупотреблений.
– Кто? Путешествователь? – Завадовский разводил руками. – Ну, охота вам пустословить по-прежнему. Мало вам было Сибири?
Стало тихо в кабинете почтеннейшего Петра Васильевича: слышно было, как муха билась о стекло. Радищев встал.
– Вы правы, слова бессильны. Прощайте…
8 сентября 1802 года указом императора петровские коллегии, ведавшие государственными и хозяйственными делами, были упразднены. Вместо двенадцати коллегий было учреждено шесть министерств. Считалось, что управлять государством станет легче, если все сосредоточится в немногих руках.
Расширялись права Сената, о чем давно мечтал Воронцов, а сам он назначался государственным канцлером.
Александр Романович принимал поздравления. К вечеру поток визитеров иссяк, и Воронцов с облегчением ушел к себе. Но одна мысль не давала ему покоя. Он вызвал слугу:
– Я просил послать за Радищевым. Почему его нет?
– Александр Николаевич сейчас прибудут, ваше сиятельство.
Воронцов велел никого не принимать и тотчас доложить ему, когда придет Радищев.
Он взял в руки письмо от Завадовского. Петр Васильевич снова сетовал на Радищева… Обычаи, права, постановления – все тому кажется недостаточным, нелепым и отяготительным. Ведет себя сей коллежский советник весьма досадительно и вызывающе. Всех глупцами считает и разум свой выше всех возносит…
– А, здравствуйте, господин демократ, – воскликнул Воронцов, когда Радищев вошел к нему, и почувствовал, как странно-натянуто прозвучало это привычное и дружески-фамильярное обращение. Радищев услышал в этом возгласе иронические интонации Завадовского, огорчился, но тут же поспешил с поздравлениями:
– Весьма рад, ваше сиятельство, вашему назначению на высокую должность. Долгожданный день.
– Благодарю. Праздником для себя этот день не считаю. Праздную тогда, когда подсчитываю итоги, а не в начале пути, – назидательно сказал он и нахмурился. – Садитесь, – но сам встал и принялся ходить по комнате. – Однако я пригласил вас не для восторгов. Не скрою, опечален вашим поведением. Оно слишком вызывающе. Добрейший Петр Васильевич удручен. Вы не согласны ни с кем. Неужели все ошибаются и только вы знаете истину?
Радищев побледнел.
– Как я могу, ваше сиятельство, быть столь самонадеянным? Я лишь старательный ученик у всего человечества. Я впитываю все, что создали титаны мысли, и это придает мне некоторую уверенность.
– Не будем увлекаться далекими светилами. Надо видеть и близкие звезды: государя и тех людей, которые его окружают.
– Однако дело движется неспешно.
– История не должна спешить. Всем известно, что из того происходит. Вспомните якобинцев.
Радищев молчал.
– Я надеюсь на вас, – сказал Воронцов мягче. – Я знаю вас как честного человека. Иногда заблуждающегося, но честного. Наступает новый век, понадобится много терпения и сил. В общих усилиях нет места сомнению и высокомерию. Россия – большое и трудное хозяйство. Теперь возникли условия для движения вперед. Упразднены коллегии, созданы министерства.
– И напрасно, – сказал Радищев. – В коллегиях были опытные, знающие люди. Они близко соприкасались с делами. Опасаюсь, что в министерствах чиновники будут дальше от дел, которые заменят бумагами.
– Повремените со своими страхами… И еще: обретает силу Сенат, а с ним и влияние людей, которые всегда сознавали свою ответственность пред Россией. В этот момент нужно ли насмешничать и сомневаться?
Радищев молчал. Воронцов с беспокойством поглядел на него, подождал, но Радищев не отвечал.
– Не уподобляйтесь вольтеровскому Мемнону, который хотел быть мудрым и совершенным. У Мемнона это не получилось – не получится и у вас. – Воронцов заговорил еще мягче: – Взгляните на все со спокойным добродушием философа, как глядит житель Сатурна, для которого наши метания смешны.
Радищев поднял голову.
– Я не сатурнианец. Я живу на земле.
Воронцов положил ему руку на плечо:
– Но надо чувствовать землю. Прошу вас…
– Да, хорошо, ваше сиятельство, – подавленно ответил Радищев.
– Вот и славно, а теперь прошу поужинать со мной.
– Нет, благодарю вас, Александр Романович, мне нужно остаться одному.
– Как знаете. Однако ласкаюсь надеждой, вы не затаите обиду на вашего скрипучего наставника?
– Нет, нет.
Воронцов из окна видел, как Радищев выходил из подъезда. Вид устало опущенных плеч, понурой фигуры его больно кольнул. Он хотел позвать слугу, чтобы вернули Радищева, но рассудительно остановился: боль неизбежна, по она пройдет. Все проходит, утверждал царь Соломон…
…Радищев смотрел на другой берег Невы, на Петропавловскую крепость. "Мерзкая книга!" – кричал Шешковский… Визжали сани в остекленевшем илимском воздухе… Кашляла Елизавета Васильевна… "Мало вам было Сибири…" Неужели снова муки? Снова покаяния, унижения?.. "История не должна спешить…" "Надо быть послушным, господин демократ!"

Он быстро пошел вдоль берега. Нева несла угрюмые осенние воды. Чайки метались над одинокой лодкой посреди реки.

Он вернулся домой. «Зови лекаря», – устало сказал он Павлу. Раскрыл книгу. Это была трагедия Аддисона «Смерть Катона». Он пробежал несколько строк и отложил книгу. Что за наваждение его преследует: Катон, бросающий вызов жестокому Цезарю? Если нет иного выхода…
Пришел врач. Он велел пить успокоительные лекарства. "И ничего не пишите", – прибавил он строго. "Доктор, что же я тогда буду делать? Это мое единственное спасение". – "Нет, нет, полный покой…"
– Полный покой, – бормотал он, бродя по комнатам. – Полный, полный… А что, детушки, – сказал он вдруг младшим детям, играющим в гостиной, – если меня опять сошлют в Сибирь?
– Будет, батюшка, – с неудовольствием отвечал Павел. Он был уже морским офицером и чистил эполеты "царской водкой" – смесью азотной и соляной кислот. – К чему себя мучить?
– Да, к чему длить мучения? К чему? – сказал Радищев куда-то в пространство и ушел в кабинет.
"Охота пустословить по-прежнему…" Каразин пустословит, обещает золотые горы, но, видно, рукопись проекта уложения потерял. Завадовский ничего не обещает и сердится от настойчивости подчиненного. Воронцов требует смирения.
Новый царь показался кротким. Но ненадолго. Короткой была радость Кречетова, освобожденного Александром из Шлиссельбурга. Федор Васильевич снова принялся за старое – писать письма монарху о народном просвещении, и царская милость сменилась гневом: "Основатель всенародно-вольно к благодействованию составляемого общества" отправлен в ссылку.
Память подсказывала строки его "Исторической песни":
Вождь падет, лицо сменится,
Но ярем, ярем пребудет.
И, как будто бы в насмешку
Роду смертных, тиран новой
Будет благ и будет кроток:
Но надолго ль, – на мгновенье,
А потом он, усугубя
Ярость лютости и злобы,
Он изрыгнет ад всем в души.
Стол был завален рукописями, книгами. Кому это теперь нужно? Он предлагал издать прежнее сочинение, но все, кому он говорил об этом, глядели на него с жалостью: «Житие Федора Васильевича Ушакова», некоторые стихи – куда ни шло, но «Путешествие» – это слишком!
Радищев то и дело подходил к окну, вглядывался в улицу, и ему казалось, что мерзкие рожи фискалов снова маячат у подъезда дома… Нет выхода… Он вспоминал Федора Васильевича Ушакова, который просил врача ускорить его конец.
Он рванулся в комнату, где стоял стакан ядовитой смеси, оставленный Павлом, и выпил…
Последние часы были мучительны. Лейб-медик Виллие склонялся над ним, пытаясь разобрать слова. Он шептал имена: Анна, Лиза… Виллие спросил его о завещании, но Радищев равнодушно покачал головой…
Виллие поднял книгу, лежавшую у кровати. Прочитал раскрытую страницу:
С течением времен все звезды помрачатся,
померкнет солнца блеск; природа, обветшав
лет дряхлостью, падет.
Но ты во юности бессмертной процветешь,
незыблемой среди сражения стихиев,
развалин вещества, миров всех разрушенья.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Итак, Радищева не стало!
Мой друг, уже во гробе он!
То сердце, что добром дышало,
Постиг ничтожества закон…
…………..
Сей друг людей, сей друг природы,
Кто к счастью вел путем свободы,
Навек, навек оставил нас! —
так отозвался на смерть первого русского революционера И. П. Пнин, один из молодых друзей Радищева, которых впоследствии историки назвали поэтами-радищевцами.
Затем наступил долгий период издательского запрета. Книга "Путешествие из Петербурга в Москву" продолжала жить лишь в многочисленных рукописных списках.
В тридцатых годах прошлого века А. С. Пушкин делает попытку снять цензурный запрет с имени, но его статья "Александр Радищев" по повелению министра просвещения Уварова осталась неопубликованной.
Только в 1858 году – прорыв. А. И. Герцен в вольной русской печати в Лондоне выпускает книгу, которая объединяет два произведения – "О повреждении нравов в России" М. Щербатова и "Путешествие из Петербурга в Москву" А. Радищева.
Общественный подъем шестидесятых годов пробуждает интерес к деятельности предшественников. Н. Добролюбов, Е. Якушкин и некоторые другие литераторы пытаются напомнить людям о судьбе замечательного человека XVIII века. Павел Радищев, сын, разделивший с отцом сибирскую ссылку, публикует его жизнеописание. Павел Александрович хлопочет об издании "Путешествия", но цензура неумолима.
1872 год. П. Ефремову удается опубликовать полный текст книги. Но на издание тут же был наложен арест по той причине, что "автор весьма часто находит случай сказать что-нибудь в укоризну и даже глухую угрозу самодержавной монархии". Были еще попытки, и все они из-за препятствий цензуры кончались неудачей.
Новый общественный подъем наконец решил судьбу многострадальной книги. В 1905 году появилось первое полное научное издание "Путешествия". 115 лет понадобилось для того, чтобы мысль писателя пробилась к народу!
Радищев всегда жил с сознанием непрерывности человеческой мысли. Он остро ощущал исторический процесс как единый. Он предупреждал потомков о капризной прихотливости "закона природы", по которому "из мучительства рождается вольность, из вольности рабство". Закон, который требует от человека великой ответственности в переломные моменты истории.
Он не мерил свою жизнь коротким отрезком между рождением и смертью. Он был уверен, что судьбы людей незримо связаны со всеми далекими и, казалось бы, несвязными событиями истории и каждому нужно найти только свою достойную дорогу в многовековом путешествии человечества. И это сознание дало ему право написать о себе гордые строки: "…вольность первый прорицал".








