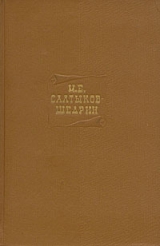
Текст книги "Том 9. Критика и публицистика 1868-1883"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 52 страниц)
Лесная глушь. Картины народного быта. С. Максимова. 2 тома. СПб. 1871 *
Существует довольно распространенное мнение, что современная русская беллетристика представляет ценность очень невеликую, и надо сознаться, что в этом мнении есть значительная доля правды. Отрывки, очерки, сцены, картинки – вот пища, которую предлагают читателю даже наиболее талантливые из наших беллетристов. О цельном, законченном создании, о всестороннем воспроизведении современности с ее борьбою и задачами нет и помину. Читатель обязывается удовлетворяться более или менее удачною разработкой частностей и затем, если желает, сам уже должен отыскивать связь между этими частностями и сводить концы с концами. А если по временам и случается, что какой-нибудь самонадеянный беллетрист решится окунуться в пучину романа или драмы, то решимость эта обыкновенно приводит к самым печальным последствиям. Или является беззастенчивое лганье, в котором самые лучшие стремления современности приносятся в жертву мамоне и недомыслию, или выводятся на сцену люди, непохожие на людей, произносятся речи, непохожие на речи, и воспроизводятся поступки, не имеющие характера поступков. В первом случае читатель присутствует при постыднейшей вакханалии, в которой яркость красок и развязное отношение к вещам и событиям служат заменой таланта; во втором – читатель с недоумением видит перед собой византийский иконостас, в котором нет ни одной не покоробленной доски, слышит гнусавое пение и делается свидетелем ни с чем не сообразных кружений, маханий и других того же сорта упражнений.
А между тем едва ли можно сказать, чтобы современная русская жизнь была совершенно обездолена относительно внутреннего содержания. Мы видели и видим целые массы людей, которые радуются, восторгаются, пламенеют и, с своей точки зрения, имеют полное основание восторгаться и пламенеть. Рядом с этими людьми мы видели и видим массы людей, угнетаемых страхом, снедаемых ненавистью и недоброжелательством и, конечно, считающих свои ненависти и опасения небезосновательными. Допустим, что по зрелом исследовании этих восторгов и этих ненавистей окажется, что они не более как плод недоразумения, но разве картина общества, находящегося под игом непрерывного недоразумения, сама по себе не есть любопытнейший предмет для художественных разъяснений? Напротив, нам кажется, что тут-то и обретается настоящая почва для общественной драмы, ибо в обществе, где недоразумение становится главным регулятором жизненных отношений, драматические положения должны вырастать, так сказать, на каждом шагу. В таком обществе люди, которых интересы совершенно тождественны, по недоразумению или из-за вздора, из-за брошенной кости, побивают друг друга; напротив того, люди, у которых, по ближайшем рассмотрении, не окажется ни одной общей цели, подают друг другу руки во имя каких-то общих интересов и даже изливают друг перед другом сердца. Отцы не понимают детей, друзья оказываются врагами, либералы впадают в консервативное остервенение, консерваторы эмансипируются и выказывают признаки резвости. И ежели подкладкой ко всей этой суматохе служит отсутствие сознательного отношения к вещам или же просто-напросто «пленной мысли раздраженье» * , то это нимало не вредит интересу картины, а, напротив, придает ей некоторую пикантность, ибо и «пленной мысли раздраженье» есть очень богатый предмет для художественного исследования. Представьте себе человека, который много лет думал, что он служит «святому» делу, который много лет пламенел, порывался и даже неистовствовал и который вдруг убеждается, что он все время служил совсем не делу, а выеденному яйцу, – какая должна закипеть в его душе драма при этом открытии? Или представьте себе кучку людей, которые соединились для какой-либо общественной цели (ну, хоть для сыроварен) и, как это обыкновенно водится, даже излили предварительно друг перед другом сердца, и вдруг оказывается, что они разговаривали совсем о разных предметах, что у них не только взгляды, но и души совсем разношерстные, что им не рука об руку следует идти, а взаимно ехидствовать и подстерегать, – какое интересное драматическое положение может возникнуть из этого открытия? А сколько характерных эпизодов могут представить, например, беспрерывное развитие хищничества и тот бездонный запас легкомыслия, хвастовства, наглости, самонадеянности, в котором сколько ни черпай, все ему скончания не будет. И все эти лжи, обманы, коварства, надежды, разочарованья – все это кишит вокруг нас, в том обществе, среди которого мы живем, а в литературе нашей все-таки нет даже признаков чего-нибудь похожего на общественный роман или общественную драму. Русские беллетристы или размениваются на мелочи, или же остаются на почве сороковых годов, то есть продолжают разработывать помещичьи любовные дела. Что сей сон означает? То ли, что русская земля оскудела беллетристическими талантами, или то, что разнообразие драматических элементов, несмотря на свою несомненность, подобно сказочному кладу, не дается нашим беллетристам в руки?
С первым предположением согласиться невозможно. Русская земля всегда во множестве производила «быстрых разумом Ньютонов» и даже на наших глазах явила доказательство своей производительности, опутав себя непроглядною сетью адвокатов, мировых судей, посредников, земских деятелей, концессионеров и других алчущих и жаждущих людей. Ужели страна, скрывающая в своих недрах столь несомненные богатства, бессильна произвести хоть одного благонадежного беллетриста? Или беллетристом быть труднее, нежели, например, деятелем по части внутренней политики, каковых мы, однако ж, видим целые пригоршни и притом весьма хорошего качества? Но в таком случае, почему же та самая страна, которая еще так недавно производила Тургеневых, Гончаровых, Писемских, Григоровичей и т. д., в последнее время вдруг как бы встала в тупик?
Воля ваша, а тут что-нибудь да не так. Хоть и не весьма ободрительно, что на смену Тургеневу является г. Омулевский, на смену Гончарову – г. А. Михайлов и на смену Гоголю – г. Лейкин, но из этого было бы весьма неосновательно заключать, что творчество природы иссякло и что затем ничего уже не может быть, кроме светопреставления. Лучше спросим себя, вправе ли мы изумляться и огорчаться подобными заменами? вправе ли критика выводить какие-либо заключения о том, в какой степени виноваты современные русские беллетристы в относительной малоценности их произведений? вправе ли она находить бездарность там, где, собственно, ничего нет, кроме вполне добросовестной и правильной попытки отыскать для русской повести новую почву, попытки робкой и притом всячески затрудняемой?
Талант писателя-художника тогда только развивается и крепнет, когда его исследования встречают свободный доступ ко всем общественным сферам, ко всем вопросам, занимающим общество. Но этого еще мало: самый угол зрения его на исследуемые предметы должен быть изъят от какого бы то ни было давления. Диккенсы, Шпильгагены, Жорж Занды вводят за собой читателя всюду и притом не скрывают от него своих симпатий и антипатий. Никто не удивляется этому, никто не называет их за это ни нигилистами, ни попирателями авторитетов. Они свободны в своих воззрениях, свободны в своем творчестве, и потому всякий вправе требовать, чтобы воззрения их были проведены последовательно и чтобы творчество их было действительное, живое творчество, а не азбучное. Представьте себе, что Шпильгаген стеснился бы ввести читателя в резиденцию принца, а вместо того пригласил бы его на дачу титулярного советника – какой характер получила бы драма, рассказанная в романе «Вперед»? Может быть, он сумел бы и здесь справиться с своею задачей, но, во всяком случае, это была бы не та драма, которую он рассказал в романе «Вперед». Во всяком случае, это был бы не тот Шпильгаген, которого мы знаем, а может быть… г. Бажин, г. Омулевский… может быть, даже г. Засодимский! Но ежели относительно Шпильгагена даже предположение подобного рода должно показаться диким, то почему же оно не кажется диким относительно русских беллетристов? Почему русский беллетрист во что бы то ни стало должен извлечь драму из того стакана воды, в котором фаталистически заключена его творческая деятельность?
Нам возразят, быть может, что писали же романы Тургенев, Гончаров, Писемский, писали при условиях еще менее благоприятных, а романы выходили все-таки хорошие. Что романы названных писателей имеют известные и притом бесспорные достоинства – это никто не отрицает, но не надо забывать, что почва, на которой стоят эти романы, совсем иная, нежели та, на которую усиливается вступить современный косноязычный русский роман. Там на первом плане стояли вопросы психологические, здесь – вопросы общественные; там материал был готовый, разработанный целым рядом беллетристов-предшественников (за исключением, впрочем, материала, составляющего содержание «Записок охотника», но зато это и не роман, а ряд рассказов и очерков), – здесь ничего не выработано, не приготовлено, не объяснено. Разработывать по-прежнему помещичьи любовные дела сделалось немыслимым, да и читатель стал уже не тот. Он требует, чтоб ему подали земекого деятеля, нигилиста, мирового судью, а пожалуй, даже и губернатора. А где их найти? как найти? под каким соусом подать?
Представьте себе, читатель, современного русского беллетриста, задавшегося задачею Гоголя: провести своего героя через все общественные слои (Гоголь так и умер, не выполнив этой задачи). Может ли он привести в исполнение свое намерение, и если может, то под какими условиями? – вот в чем весь вопрос. Вникните добросовестно в его сущность, обсудите его практическую обстановку и ответьте. Мы, с своей стороны, по крайней мере, вполне убеждены, что вы не только сознаете всю неуместность такого вопроса, но даже поспешите заменить его другим: можно ли допустить в русском беллетристе подобное дерзновенное намерение? можно ли вообразить себе такого русского литератора, которого постоянно не преследовала бы мысль: да кто же меня туда пустит? Спрашивается теперь: каким образом русский писатель приступит к созданию общественного романа, когда он на каждом шагу должен сдерживаться и фальшивить, когда он ежеминутно должен напоминать себе: туда не заглядывай, о том не моги говорить и т. д.
Но отвратим лицо наше от этого печального зрелища и обратимся к книге г. Максимова.
Г-н Максимов принадлежит к числу лучших наших этнографов-беллетристов, и изданное им ныне новое собрание очерков и рассказов служит несомненным тому доказательством. Драгоценнейшее свойство г. Максимова заключается в его близком знакомстве с народом и его материальною и духовною обстановкою. В этом смысле рассказы его должны быть настольною книгой для всех исследователей русской народности, наравне с трудами Даля, Мельникова, Якушкина и других.
На распутье. Роман в двух частях В. Г. Авсеенко. СПб. 1871 *
Самая трудная задача для беллетриста – это объяснить действия и поступки своих героев, и притом объяснить таким образом, чтобы читатель понял, что тому или другому действующему лицу действительно ничего другого не остается, как поступить именно таким образом, как оно в данном случае поступило. Так, например, ежели автор определяет своего героя в мировые посредники, то он обязывается устроить это таким образом, чтобы читатель не имел никаких сомнений насчет причин, побудивших героя поступить именно в мировые посредники, а не в секретари земского суда. Если его прельстило, например, посредническое жалованье, то следует объяснить, отчего значительное жалованье имело для него бо̀льшую притягательную силу, нежели жалованье маленькое: оттого ли, что герой жаден, оттого ли, что он обременен семейством, и т. д. Ежели его увлекала мода, то и тут следует вразумительно высказаться, почему мода могла увлечь героя: потому ли, что он глуп, потому ли, что он легкомыслен, потому ли, что он получил шалопайское воспитание, и т. д. Ежели, наконец, его увлекла идея общей пользы, которая может проистечь из посреднической деятельности, то и здесь отнюдь не должно скрывать, в чем заключается эта идея, ибо понятия о пользе могут быть разные: разумные и глупые, верные и ошибочные. Другой пример: ежели автор заставляет своего героя влюбиться, то он должен проследить весь процесс этой любви, начиная от ее зарождения и кончая ее апогеем. Что пленило героя в любимом предмете? на какой почве зародилась взаимная симпатия? была ли тут страсть действительная или фальшивая? и т. д. Все эти вопросы должны быть разрешены самым удовлетворительным, так сказать, наглядным образом, и садиться за писание романа, не задавши их себе, значит рисковать возбудить в читателе, вместо интереса, изумление; значит утруждать себя сочинением многих тысяч строк вместо того, чтобы ограничиться начертанием всего-навсего одной строки следующего содержания: «он был мировой посредник, и они любили друг друга».
Настоящие беллетристы все это понимают и потому поступают всегда таким образом, чтобы читатель действительно знал, зачем они взялись за перо и что хотят сказать. Они снабжают своего героя жизнеописанием, из которого можно видеть, почему его характер сложился так, а не иначе; они устроивают около него обстановку, которая так или иначе влияет на его сложившийся характер и вызывает с его стороны такие, а не иные действия. И притом обстановку не случайную, а такую, чтобы читатель был вполне убежден, что другой обстановки и не могло у этого героя быть. Так, например, ежели писатель захочет основать завязку своего романа на том, что на такую-то женщину напали собаки, а такой-то мужчина собак разогнал, то тут не будет никакой ни завязки, ни обстановки, ибо все это происшествие может быть изложено в следующих немногих строках:
«На Настю Песчаную (одна из героинь романа г. Авсеенко) напали собаки и едва не разорвали ее. Уже летели клочья от ее платья, как некто Решетилов, из непомнящих родства (тоже герой романа г. Авсеенко), дубиной разогнал собак.
– Без вас они совсем бы меня съели! – сказала Настя, бросая Решетилову вызывающий взор.
Но Решетилов, приподняв шляпу, поспешил удалиться, и таким образом, роман, который чуть-чуть было не возник из «вызывающего взгляда», прекратил свое течение.
Конец
Или, например, если мы, увлекшись модой на нигилистов, поведем читателя в лес и под каждым деревом посадим по нигилисту, заставим их лепетать всякую бессмыслицу и даже не объясним, как они здесь очутились и почему несут околесицу, – разве это будет обстановка? Нет, это будет только околесица, ибо как ни легка материя о нигилистах (так легка, что у некоторых авторов перо само пишет, как только коснется речь об этом предмете), но и тут все-таки надо знать, где найти нигилиста, как его поместить и что заставить его говорить. Тургенев сочинил для Базарова целую историю, и чтобы привлечь его к семье Кирсановых, затронул узы дружбы, разъяснил, что могла сделать духовная сила Базарова и как мало могло противопоставить этой силе духовное бессилие молодого Кирсанова. Одним словом, создал целую обстановку, а не сказал читателю, подобно показывателям масленичного «райка»: «А вот, посмотрите, господа, теперь представится вам нигилист Базаров, в бога не верует, лягушек режет и употреблять в пищу тараканов не гнушается».
К искреннему нашему сожалению, роман г. Авсеенко, которого заглавие выписано выше, принадлежит именно к тому «раечному» роду, который допускает «показывание» всякого рода картинок без малейшей связи между ними. Вот город Париж, вот Махнут турецкий салтан, а вот гишпанская королева Изабелла. Каким образом очутилось все это рядом, на каком основании «город Париж» показывается прежде, а не после «салтана Махнута» – этого никто не разберет, да и разбирать, правду сказать, незачем. Г-н Авсеенко издал книгу в 400 страниц, а что заключается в этих четырехстах страницах – это сказать не только трудно, но даже невозможно. Лиц бездна, но каждому из них так и хочется сказать: да зачем же ты тут суешься без дела? зачем ты мешаешь? А так как мешают решительно все, то приходится знакомиться с их похождениями, так сказать, механически.
Жил да был некто Решетилов, о котором автор выражается так: «Он давно уже носил внутри себя взрослого человека». Но почему г. Авсеенко таким образом охарактеризовал своего героя – это он скрыл от читателя самым тщательным образом; мы же, с своей стороны, можем охарактеризовать г. Решетилова не иначе, как не помнящим родства. Решетилов служит мировым посредником, потому что считает эту деятельность полезною, но в чем состоит польза его действий – это опять-таки тайна, в которую читатель не посвящается. Потом Решетилов влюбляется в Веру Павловну и Вера Павловна в него, но с чего взялась эта любовь – неизвестно. А в это самое время у Решетилова есть другая любовь – крестьянская девица, дочь паромщика, но и об этой любви сказано только, что есть, дескать, любовь. А потом, у Веры Павловны оказывается другой любовник, Косовицын, но точно ли он любовник – даже и этого понять нельзя. Косовицын, по-видимому, нужен только для того, чтобы заставить Решетилова забыть о предмете своей страсти и обратиться к девице более его достойной, Елене Дмитриевне. Елена Дмитриевна женит его на себе, из чего и выводится заключение, что прежде Решетилов был на «распутии», а теперь встал на настоящий путь. Cur? quomodo? quando? qulbus auxiliis?
Мотивы романа устарелые, почти заплесневевшие. Это то самое искание женщины, как существа «прекрасного» пола, которое с усердием разработывалось еще при самом зарождении нашей беллетристики. Деятельность мирового посредника приплетена без всякой надобности; без всякой же надобности фигурирует в романе множество посторонних лиц, и между прочими модная нигилистка, девица Песчаная, та самая, которую чуть-чуть не разорвали собаки…
Беспечальное житье. А. Михайлов. Роман. СПб. 1878 *
Во всех литературах существует известный разряд писателей, по преимуществу беллетристов, которых, по всей справедливости, можно назвать «беспечальными» писателями. В наше время, когда все мы, в большей или меньшей степени, «и жить торопимся, и чувствовать спешим» * , конечно, было бы несправедливо обращаться к литературе с советами вроде тех, какие преподавались писателям каким-нибудь Горацием или, например, нашим Гоголем. Разнообразные «злобы дня» совершенно захватывают современного писателя в свой водоворот, и тут уж, конечно, не до того, чтобы отделывать свои произведения, «вынашивать» их, внимательно вдумываться в смысл изображаемых явлений и проделывать вообще весь тот сложный умственный и нравственный процесс, который называется творчеством. Но – passez nous le mot [60]60
извините за выражение.
[Закрыть]– до литературного онанизма доходить все-таки не полагается, как бы, в известном смысле, ни была естественна и даже законна некоторая, так сказать, ремесленность в деле журналистики. Если – в силу ли духовной импотенции самого писателя или в силу внешних условий жизни, говорить не о чем и сказать нечего – гораздо приличнее и достойнее молчать, нежели искусственно выдумывать себе темы или шуметь по-репетиловски о выеденном яйце * . Не то беда, что писателю зачастую приходится, подчиняясь условиям журнальной деятельности, высказываться далеко не с такою силою и обстоятельностью, как он это мог бы и хотел бы сделать; худо, если он говорит не по внутренней потребности, не от наболевшего сердца, а просто сочинительствует, причем для дела уже совершенно все равно – врет ли он небылицы в лицах для услады консьержей и гризеток, как какой-нибудь французик-романист, или же, понюхавши хрену, чтобы прослезиться, беспечально печалуется о явлениях, до которых ему столько же дела, сколько до прошлогоднего снега. И в том, и в другом случае он – отнюдь не писатель, а просто ремесленник, с изделиями которого критике делать нечего, так как ее критерий – не аршин и не безмен.
Скажем без обиняков – все это мы говорили прямо по адресу г. Михайлова… В океане бесцветных и бездарных романов и повестей, доморощенных и заграничных, затопляющем нас, романы г. Михайлова довольно выгодно выделяются своею постоянно очень сносною литературною обработкою, своею ловко скомпонованною фабулой, своею, наконец, благообразно-либеральною наружностью, но, к сожалению, только этим одним и выделяются.
Г-ну Михайлову, как бытописателю, очевидно, давно уже нечего сказать, и он довольствуется теперь тем, что повторяет и себя и других. Обладая очень незначительным запасом фактов и наблюдений, он высказался весь в своих первых романах * («Гнилые болота» и «Жизнь Шупова») * и в нескольких мелких своих повестях, а затем все его дальнейшие произведения представляют собою образец резонерского морализирования, непомерно скучного при всем своем комизме. Все бы это еще – с полгоря: не всем же быть новаторами, в самом деле. Но плохо то, что сквозь видимые миру слезы г. Михайлова внимательному читателю постоянно чудится незримый миру смех * – не то лукавый смех в бороду авгура, знающего, где раки зимуют, не то скучающая улыбка человека, проделывающего какую-нибудь нелепую, но требуемую официальным этикетом церемонию. Мы не обвиняем автора в неискренности, у нас нет достаточных данных для этого. Но не на основании только одного непосредственного впечатления (хотя в деле эстетических и нравственных мотивов такое основание отнюдь не несерьезно), а на основании мелкости и рутинности тенденций г, Михайлова, мелкости, которую вовсе нетрудно доказать, мы вправе сделать или то заключение, что г. Михайлов решительно не умеет отличать крупные явления от мелочных, важное от не важного, а допустить это трудно, потому что г. Михайлов, бесспорно – человек неглупый; или же мы вправе подумать, что г. Михайлову дорога не тенденция, а тенденциозничанье, не идея, а парадированье с кокардой, не влияние на читателя, а возможно сильнейшее впечатление на него. Оттого-то у него и глаза на мокром месте; оттого-то он и способен проливать потоки слез там, где достаточно было бы одного хорошего плевка. Новый роман г. Михайлова как нельзя более подтверждает наше мнение об этой замечательной стороне таланта нашего автора. В этом романе г. Михайлов рассказывает, неизвестно для кого и для чего, о «беспечальном житье» нашей так называемой золотой молодежи, то есть небольшой, сравнительно, кучке материально обеспеченных шалопаев, о ее кутежах, о ее мошеннических шалостях и шаловливых мошенничествах и т. д. Рассказывает г. Михайлов очень прилично и гладко, тем более что тема сама по себе в высшей степени удобна для того, чтобы по ее поводу наговорить с три короба прекраснейших и справедливейших вещей, начиная с вреда праздности и кончая трактатом о необходимости нравственного воспитания и самовоспитания. Для либерального резонерства здесь представляется самое широкое поле. Но мы спросим читателя: может ли эта тема сама по себе иметь хоть какое-нибудь общественное и современное значение? Кому же неизвестно, что было бы болото, а черти всегда найдутся? Но в данном случае даже и этого сказать мало. Рыцари «беспечального жития», все эти Аносовы, Сухаревы, Винтеры и Флери г. Михайлова не могут претендовать даже на роль тех паразитов, которые своим существованием указывали бы на какой-нибудь специальный общественный недуг и изображение которых поэтому было бы в известном смысле благодарно с точки зрения социального диагноза. Не могут, потому что они – порождение таких общих, коренных, застарелых и знакомых-перезнакомых недостатков общественного устройства, которые не связаны никакою специальною нитью с современностью, и интерес новизны могут представлять только для тех, кто не перерос литературы прописей. Разница между современным Аносовым и каким-нибудь petit maître’oм [61]61
франтом.
[Закрыть]XVIII столетия состоит в их костюме, прическе, пожалуй, манерах, да разве еще в том, что Аносов подделывает подписи к векселям, чтобы добыть себе средства к дальнейшему беспутничанью, а мало цивилизованный петиметр доброго старого времени довольствовался менее утонченными способами. Этими внешними признаками и исчерпывается различие между ними; их нравственная сущность одна и та же. Ни тот, ни другой не представляли собою серьезной силы, которую можно было бы ненавидеть и которую следовало бы изучать; ни тот, ни другой не имели будущности, кроме той, которая грозит всякому вонючему клопу, когда хозяин дома, потерявши, наконец, терпение, вооружается чугуном с горячей водой. Горячиться по их поводу было простительно, например, старику Новикову, когда у литературы только еще прорезывались молочные зубки, но нам, окруженным гадами похуже и поядовитее клопов, нам, не знающим, за какую из сотен грозящих рук Бриарея-жизни * ухватиться, чтобы отклонить удар, нам, наконец, уже считающим за собою ряд серьезных поражений и побед, имеющим свои дорогие могилы и колыбели, нам, право, как-то даже уж и неприлично возиться с такими пустейшими пустяками, как идиотская клиентела содержателей и содержательниц разных развеселых мест.
Стрелять из пушек по воробьям – слишком уж смешное занятие, чтобы объяснить его касательно г. Михайлова избытком наивности. В том-то и дело, что он, повторяем, не только не наивен, а, напротив того, изображает собою среди своих единомышленников нечто вроде хитроумного Одиссея, и верности этого сравнения не может повредить невольно являющееся, по естественной ассоциации идей, воспоминание о плачевной общественной метаморфозе, постигшей спутников Улисса * . Он действует не бессознательно, не спроста. Он стреляет затем, чтобы произвести шум, стреляет из пушек (то есть пишет объемистый роман), чтобы произвести как можно больше шуму; а затем, сколько воробьев останется на месте после этой канонады и кому нужны воробьиные трупы – для него безразлично. Это пусть будет как угодно г. Михайлову. Но нельзя не заметить, что какое-нибудь гороховое пугало * , вроде «Гражданина» или «Домашней беседы», функционировало в этом отношении с большими результатами, по крайней мере, с большею естественностью, нежели морализаторские перуны нашего автора.
С чисто эстетической, литературной точки зрения «пушки» г. Михайлова на этот раз – даже не пушки, а безобидные, хотя и шумливые петарды. Роман написан плоховато, скучновато, длинновато и даже достаточно-таки пошловато. Какой-нибудь психологической обработки характеров от г. Михайлова было бы странно требовать; тенденция романа, как сказано, давно лишилась зубов от старости; отдельные сцены вялы и безжизненны до последней степени. Рассказывать содержание романа мы, конечно, не станем, потому что мы именно и доказываем все время его абсолютную бессодержательность. А сверх того – и это важное преимущество г. Михайлова – он пишет замечательно ровно, не повышая и не понижая голоса; он выдерживает свое беспечальное печалование до конца, аккуратно понюхивая свой хренок, и преблагополучно заканчивает, ничего не сказавши и ни о чем не умолчавши. Таким образом, и автор доволен – он произвел шум, и читатель доволен – он остался цел, а рецензенты г. Михайлова довольны больше всех, потому что, благодаря безукоризненной ровности автора, они избавляются от скучнейшей обязанности делать какие бы то ни было выписки из того, что не заслуживало и один-то раз быть написанным.








