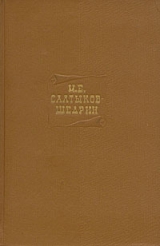
Текст книги "Том 9. Критика и публицистика 1868-1883"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 52 страниц)
Наши бури и непогоды *
Когда я сравниваю настоящее время с минувшим, – минувшим, которое было даже не очень давно, например, лет тридцать или сорок назад, то думаю, нам ли не жить счастливо, то есть спокойно, довольно, с светлым взглядом в будущее. Из бесчисленного множества поколений, населивших и обстроивших русскую землю, мы первые счастливцы, которые имеем право называть себя не обывателями только, а некоторым образом гражданами русской земли, которым дана известная свобода мысли и самодеятельности, известная доля участия в управлении, дан народный суд, у которых, наконец, de jure нет, не осталось и тени рабства нигде, ни даже в самых отдаленных и глухих уголках обширного отечества. Правда, все это только пока в начатках, но это такие начатки, об существовании которых не мечтали люди даже ближайших к нам поколений; это такие начатки, владея которыми можно безбоязненно и светло смотреть в будущее и работать с наслаждением. Если бы какой-нибудь герой «времен очаковских и покоренья Крыма» * взглянул на наше настоящее, он, конечно, сказал бы с восторгом в простоте души: «Да у вас не мишура только, а действительно золото; вы настоящие европейцы; вам и умирать не надо». Он никогда не увидал бы, что мы, новоиспеченные европейцы, ничуть не блаженнее его, – бывшего раба или, что еще хуже, рабовладельца варварской России второй половины XVIII столетия, что мы часто гуртом не спим от таких вещей, от которых не был потревожен в своем безмятежном сне ни один из его современников, что, не пользуясь в действительности политическим существованием, мы то и дело терпим и переживаем политические бури.
Читатель понял, конечно, о каких бурях мы ведем речь. Он знает их так же хорошо, как и мы.
Живет себе русское общество спокойно и смирно; каждый сидит под виноградом своим и под смоковницею своею * , занимаясь своим делом; вообще, вся страна наслаждается, по выражению одного публициста, глубоким земским миром * . На отечественном небосклоне всюду светло и ясно, никто не видит нигде и не предчувствует никакого признака невзгоды и беды. Как вдруг в это время, неизвестно откуда, вылетает, наподобие бомбы, некто Нечаев и с шумом и треском падает среди изумленного общества, приводя всех в страх и смущение.
Кто такой Нечаев? Что такое Нечаев? Чей он посланник? Во имя чего и к кому он явился? Какие его цели и намерения? Общество ничего этого не знает и до Нечаева нет ему, по-видимому, никакого дела. Нет, говорят, дело есть; Нечаев совершил преступление из п-о-л-и-т-и-ч-е-с-к-и-х целей, и у него есть сообщники в среде общества. Положим, так, но на это есть благоустроенная полиция, которой дано право не только преследовать, но и предупреждать преступления. Обществу опять-таки до этого нет никакого дела, и оно имело бы, по-видимому, полное право оставаться спокойным и заниматься своим делом.
Однако нет. Полиция, видимо, не знает ничего твердо определенного ни о замыслах Нечаева, ни о его сообщниках и чего-то ищет. По обыкновению, общество приходит в смущение. В чем состоит нечаевское дело, остается для всех неизвестным, и публика, естественно, старается поднять завесу с этой тайны. Но как удовлетворить этому любопытству? Единственное средство в ее руках – это собрать данные и из этих данных извлечь ключ к тайне. Но после долгих соображений оказывается, что из собранных данных ни к каким общим выводам прийти нельзя. Между арестованными находятся люди таких различных состояний, званий, занятий, привычек, вращающиеся притом в кружках до того разнообразных, что, очевидно, в большей части ни между ними самими, ни между ними и Нечаевым никаких связей быть не могло. Общество теряет единственную надежду, бывшую в его руках, для успокоения себя. Тогда является ему на помощь услужливая молва с своими догадками и производит решительное смятение. Начинают говорить, что Нечаев и некоторые из его сообщников, которых называют и по именам, – разумеется, одни одних, другие других, – обличены в важном политическом заговоре. И весь этот говор имеет в своем основании что-то смутное: толкуют о знакомстве, каких-то записочках, адресах, фотографических карточках и т. п. «Помилуйте, это дело невозможное, – говорят люди солидные, выслушивая такое показание молвы. – Ведь и Нечаев, и сообщники его были не преступниками назад тому два, три месяца. Мало ли с кем могли они иметь случайные сношения и отношения? Мало ли чьи могут быть найдены у них записки, карточки, адресы? Да, наконец., карточки, адрес могли попасть к ним даже без ведома того лица, которое они обозначают?» Но, говоря это, солидные люди втайне все-таки остаются не уверены в своих предположениях и колеблются. В это время услужливая молва приливает с новыми сведениями. Начинают говорить, что родилось убеждение, что все зло в России происходит от размножения нигилисток; что поэтому к нечаевскому делу присоединяется дело о нигилистках. Но молва представляет такие недостаточные, малочисленные и шаткие факты и рго и contra [25]25
и «за» и «против».
[Закрыть]для своего известия, что никто не знает, на чем остановиться, – и от этого все приходят еще в большее смущение. Но молва не останавливается на этом. Быстро несет она новый поток сведений и слухов. Начинают говорить, что убедились, что зла нельзя будет никогда истребить, если не истребить причин, его порождающих. Эти причины – ультралиберальные, социалистические и коммунистические идеи, распространяемые в обществе и посредством печати, и посредством разных обществ, и посредством устного слова. Это приводит в окончательное смущение всех. Как провести разграничительную черту между ультралиберализмом и просто либерализмом? Кто будет проводить эту черту? Что̀, далее, будет признаватьсясоциалистической и коммунистической идеей и что̀ не будет признаваться? Кончается тем, что все начинают прятаться по норам и каждый в уединенном самосозерцании и самоуглублении начинает себя испытывать: не написал ли он где-нибудь, не сказал ли в обществе чего-нибудь такого, что могло быть понято и растолковано другими за идею ультралиберальную, социалистическую или коммунистическую. О деле Нечаева начинают говорить с осторожностью и оглядкою, разве только при самых коротких друзьях; имя его произносится полушепотом, чтоб не услыхала прислуга дома. Все, не чувствуя за собой никакой вины, начинают себя считать чуть не виноватыми. Паника доходит до смешного. Рассказывают, что один ех-профессор, отлучившийся из дому по делам очень рано и возвратившийся домой только к обеду, за обедом, с глазу на глаз с своей женой, попросил последнюю рассказать ему газетные новости этого дня. Жена рассказала разные новости и в числе прочих сообщила ему, что Нечаев убежал за границу. Как только ех-профессор услыхал имя: Нечаев, то побледнел и затрясся. Поспешно встал он из-за стола, подошел к одной двери, посмотрел, нет ли кого за ней, подошел к другой, произвел и здесь ту же ревизию, – и только тогда, несколько успокоившись, возвратился за стол и сказал жене глухим голосом: «Душа моя! мы не должны называть имени этого человека; если бы в газетах было напечатано, что разверзлась земля и поглотила его, мы должны бы сказать: что разверзлась земля и поглотила некоторого человека, – только, а не имярек». – «Отчего же?» – спросила с изумлением испуганная жена. «Оттого, душа моя, – отвечал ех-профессор, – что времена такие… у нас есть прислуга… Услышат фамилию, пойдут болтать…» – «Но ведь ты не виноват ни в чем!» – возразила было супруга. Но ех-профессор был, очевидно, менее ее доверчив в этом случае. «Не виноват, – отвечал он, – конечно, но прежде чем узнают, что я не виноват, придется, пожалуй, посидеть».
Я человек от природы характера самого робкого. Когда настает общественная паника, я начинаю трусить едва ли не более всех. Чувство трусости есть самое скверное чувство; это я имел случай испытать много раз в моей жизни. Но если природа наградила кого-нибудь этим чувством, то с ним ничего не поделаешь. Остается одно: быть вечно настороже против разных невзгод и принимать вовремя благопотребные меры. Так и веду себя я.
Еще с 1862 года убежденный И. С. Тургеневым * , я порешил, что в наше время всякая связь с молодым поколением опасна, и поставил себе в священный долг не только не заводить вновь знакомств с людьми, не достигшими, по крайней мере, тридцатипятилетнеговозраста, но раззнакомиться и прекратить всякие сношения даже и с теми из старых знакомых, которые моложе этих лет. Это решение исполняю я твердо и неуклонно. Сколько ни просят меня разные мои теперешние почтенные и уважаемые мною знакомые, имеющие по пятьдесят и более лет от роду, чтоб я позволил им ввести в мой дом их племянников, внучков и других молодых людей, аттестуя их как людей меня уважающих и вместе с тем вполне достойных и благонамеренных, – я отвечаю постоянно всем одно и то же: «Не могу; времена теперь не такие». Что касается до особ женского пола, то я положил допускать в мой дом: девиц и замужних женщин не ранее 30-летиего возраста, если только они не стригут своих волос и если моими почтенными знакомыми будет удостоверено, что они не заражены ядом нигилизма; если же стригут волосы, то, при должном ручательстве в их благонадежности, таковые допускаются не ранее сорока лет от роду. Далее, не имея за собою ни родового, ни благоприобретенного, проживая на маленькие средства, я решился чуть не половину зарабатываемого мною дохода употреблять на то, чтобы нанимать приличную квартиру с швейцаром. Дорогая квартира лежит тяжелым бременем на моем маленьком хозяйстве и стесняет меня на каждом шагу; у меня нет порядочного стула, на котором можно бы было сесть вполне безопасно, я отказываю себе иногда в необходимой для моего здоровья рюмке вина, мой туалет не лучше туалета немецкого бурша, но за все эти лишения меня утешает мысль, что у меня есть швейцар. Швейцар – великое дело в нашей жизни. Мимо него не пройдет ни один из идущих в мою квартиру. Но мне нравится особенно то, что бог одарил моего швейцара значительною дозою проницательности, любопытства, памяти и что эти качества сохранились в нем во всей силе, несмотря на его преклонные лета. Он знает не только имена, звания, занятия, но даже места жительства всех моих знакомых. Я так доволен этим, что иногда доставляю себе особенное удовольствие слегка поэкзаменовать его: твердо ли он всех знает, не позабывает ли, не перепутывает ли. Вот иду я домой с обычной прогулки моей после обеда; швейцар отворяет мне дверь и обыкновенно старается ради любезности сказать мне что-нибудь: «А что погода, кажется, все не поправляется?» – начинает он. «Да, – отвечаю я. – А был кто-нибудь без меня?» – «Была, – как ее, – не вспомню вдруг имени, – редакторша (так называет он сочинительниц), что живет на Невском в доме таком-то». Или: «Был старичок-сочинитель, который к вам ходит, небольшого роста, у которого жена такая-то (начинается описание жены); живет на Лиговке». – «А!» – говорю я улыбаясь и весело поднимаюсь вверх в свою квартиру. Но еще более мне нравится то, что швейцар мой находится в самой тесной дружбе с нашим околодочным. Последний то и дело торчит около него у подъезда, или они распивают вместе чай в каморке швейцара. «Ведь о чем-нибудь разговаривают же они, – думаю я про себя, – проводя целый день вместе? О чем же они разговаривают? Конечно, о жильцах, которые живут в доме, о знакомых, которые к ним ходят, о том, кто эти знакомые, и проч. Одним словом, околодочный знает все то, что знает и швейцар», – заключаю я и потираю себе руки от удовольствия. «Никто, значит, – продолжаю я думать, – не может заподозрить меня в знакомстве и сношениях с людьми неблагонамеренными: справка налицо; жизнь моя как на ладони». Но как ни завидно положение мое в сравнении с другими, прихотям смертного, как известно, нет пределов… Я желал бы, чтобы не только по наружности, но даже внутри моего жилища постоянно присутствовал какой-нибудь любопытный консерватор, который наблюдал бы за каждым моим шагом и движением, выслушивал каждое мое слово. До того я невинен, что мог бы, кажется, предстать во всякое время и всюду…
Казалось бы, мне ли не быть спокойным, что̀ бы ни происходило в общественной жизни. И, однако ж, когда начинается общая паника, я впадаю в смущение, если не больше, то ничуть не меньше всех других. Голова начинает гореть, начинают шевелиться и бродить разные скверные мысли, так что ни о чем думать невозможно; в голове то и дело вертится вопрос: «Да невинен ли ты действительно? Не воображается ли только тебе, что ты невинен?» И вот я самоуглубляюсь и подвергаю себя самому строгому самоиспытанию. Я начинаю с того, что припоминаю всех заподозренных «Московскими ведомостями» * лиц и спрашиваю себя: «Не был ли ты знаком с кем-нибудь из них даже когда-нибудь? Не знаешь ли их? Не встречал ли их где-нибудь?» По тщательном возобновлении в памяти всего прошедшего, на все такие вопросы получается ответ решительно отрицательный. Удостоверившись, что с этой стороны твердо, я перехожу к испытанию себя в отношении переписки: «Не писал ли ты кому-нибудь когда-нибудь писем с вольным духомили с неопределенными намеками, которые каждый может растолковать по-своему, не раздавал ли и не продавал ли своих карточек?» И с наслаждением снова удостоверяюсь, что и с этой стороны твердо.С ранней молодости моей я отличался отвращением к переписке. Писать письмо было для меня таким же мучением, как делать визит. С самыми лучшими друзьями я мог хранить упорное молчание в продолжение целых годов, если не представлялось настоятельной необходимости написать по делу, точно так же я мог не посещать по целым годам лиц для меня самых дорогих без крайней какой-нибудь нужды. Это много причинило мне огорчений и стоило многих потерь в жизни, ибо только немногие, очень близко знавшие меня друзья мои понимали, что это не что-нибудь преднамеренное, а таково свойство моей натуры. Было когда-то время, что я сам огорчался своею неподвижностью и по временам даже предпринимал твердое намерение исправиться, но этого твердого намерения никогда не хватало и на неделю. Теперь только я опытно понял, что это свойство, причинявшее мне столько огорчений в жизни, вовсе не дурное свойство, что многие, напротив, у которых руки так же слабы на воздержание от ненужного письма, как слаб язык на словоизвержение, должны сильно завидовать мне.
Затем я обратился к испытанию себя в самом наиважнейшем моменте человеческих грехопадений, в устном словоизвержении, но здесь почувствовал себя еще легче. «Язык мой – враг мой», – говорит пословица. Я мог бы сказать: «Язык мой – друг мой». Несмотря на мою словоохотливость и веселость, в жизни моей мне случалось терпеть неприятности от промахов умолчания, но никогда от словесной распущенности. Всю важность этого качества, которому я прежде не давал никакой цены, я понял только в последнее десятилетие. Трудно представить себе общество, где бы болезнь языконеистовства была так сильно развита и похищала столько жертв, как у нас. Целые политические процессы у нас велись и ведутся из-за словоизвержения, – и сколько погибло от этого сил! Есть люди, которые не могут хранить в себе ни одной зародившейся в их голове мысли, ни одного известия, услышанного от других. Пока они не опорожнятся, то есть не расскажут того, что у них имеется, по крайней мере пяти человекам, каждому особо, они не могут быть спокойны. Даже когда они, по-видимому, твердо решаются не говорить чего-нибудь другим, вообще сохранить, тайну, они не могут этого сделать. Их лицевые мускулы и нервы, их телодвижения изменяют им. Сейчас видно, что их что-то прет изнутри и требует немедленного опорожнения. Ужасное несчастие!
Оставалось еще испытать себя относительно грехопадений по части литературы. Но, вступая в эту область, я чувствовал под своими ногами уже твердую почву. Во-первых, литература – дело публичное, совершаемое открыто перед всеми; во-вторых, за нею следят столько официальных надзирателей и столько литературных любопытных консерваторов, что в ней невозможно совершить преступления, если бы и хотел; в-третьих, для преступлений литературных существует особый следственный и судебный процесс * , от которого никогда не отступают, да и отступить трудно, ибо литература – дело тонкое и преступление ее может понимать только специалист.
Получив из самого строгого самоиспытания такие блестящие результаты, я сделался так доволен, что готов был прыгнуть от радости. Во мне явилась потребность немедленно излиться в благодарных чувствах.
В это время вошла в кабинет подруга моей жизни и, увидев меня, каким не видала уже много дней, веселым и беззаботным, спросила:
– Что с тобой?
– Ничего, – отвечал я. – А знаешь что, сегодня погода отличная. Не прокатиться ли нам? Кстати заехали бы в Казанский собор, помолились.
– Что это значит?
– Да ничего, – отвечал я. – Давнехонько уж не были мы у чудотворной.
– Гм! однако ж почему именно сегодня напала на тебя страсть к богомолью? А у меня тоже есть дело к тебе. Ты знаешь, сегодня назначены дебаты об обществе распространения женского образования, и ты непременно должен ехать со мною.
Меня немножко передернуло при этих словах.
– Знаешь что? – начал я, – теперь не такие обстоятельства, чтобы думать об основании обществ. Да и сказать ли тебе правду, – я мало вижу толку в этих обществах. Они, мне кажется, убивают только и подъедают частную инициативу людей богатых. Ведь вон Пибоди – посмотри, как действовал. Даст тут миллион долларов, в другом месте два, в третьем – три, – смотришь, в одном месте, точно по щучьему веленью, университет вырос, в другом – огромное благотворительное учреждение, в третьем… А будь общества, он, пожалуй бы, и внимания не обратил. Дескать, есть кому пещись. Так и у нас. Не будь вашего общества, может, ныне же на женское образование дал бы Кокорев миллион, Утин – другой, Бенардаки – третий, Поляков – четвертый. Я называю этих богачей только к примеру, – а мало ли у нас таких? А учредите вы общество, они скажут: теперь есть кому и помимо нас думать о женском образовании.
– Однако ж до сих пор ведь никто ничего не дал? – возразила моя подруга.
– Конечно, не дал, но из этого не следует, чтобы не могли дать. А как заведете общество, так наверно уж не дадут.
– Ну, это еще бабушка надвое сказала, – отвечала она, – а ты все-таки со мною поедешь.
«Вот тебе и попал, – подумал я, отправляясь в свой кабинет. – Что тут будешь делать? Отказаться – нет никакой возможности. Заедят, со света сживут женщины. Ехать в собрание? Но ведь там, верно, человек двадцать, пожалуй, тридцать будет. Уж самый факт подобных собраний есть вещь незаконная. А там разнесется молва, что был в собрании, следовательно, рассуждал… затевал нечто, положим, законное, но… следовательно, все-таки человек некоторым образом недовольный, протестующий. И зачем это они у нас женское образование какое-то выдумывают? тут надобно бы и мужчин-то разучить, чтобы не высокоумствовали!»
Просто досада меня взяла; веселого расположения духа как не бывало. В то время, на беду мою, как раз шасть в двери Федя Горошков.
Федя Горошков мужчина лет сорока пяти, неуклюжий, длинный, как верста, желчный, ничего не делающий, но уверяющий всех, что он по горло завален работою и не знает отдыха. С утра до вечера он проводит время в том, что собирает разнообразные городские сплетни, преимущественно имеющие политический оттенок, разработывает их по своему вкусу и в украшенном и дополненном виде разносит по своим знакомым под названием новостей. Так как он темперамента меланхолического, то подбор новостей делает обыкновенно в печальном роде. Если вы находитесь в веселом настроении духа, он своею беседою непременно нагонит на вас тоску и скуку; если же вы и без того невеселы, тогда боже вас упаси от беседы с ним. В прежние времена, находясь в таком почтенном возрасте, Федя Горошков давно, конечно, понял бы, что он не более как сплетник, но в наше прогрессивное время он остается в том убеждении, что носит в душе своей Weltschmerz [26]26
мировая скорбь.
[Закрыть], и почитает себя политическим деятелем.
– Слышали вы новости? – спрашивал Федя Горошков, вваливаясь в мой кабинет.
– Какие новости? – говорю я.
– Аресты, батюшка, аресты, да ведь какие аресты! Уж тысячи три человек взято!
– Полно вам вздор говорить. Арестовано каких-нибудь человек десять, много пятнадцать, а вы валите целые тысячи! Да и какое нам дело до этих арестов?
– Вам-то какое дело?.. Как?.. Вы литератор – и вам нет дела?! Ну, нет, вы этого не говорите. Я вам историей докажу…
– Какой вы мне это историей докажете? – говорил я, чувствуя справедливость его слов и внутренно труся, но храбрясь. – Историей, конечно, реакций?
– Та, та, та, – продолжал безжалостный Федя Горошков, не примечая моего смущения, – положим, что и историей реакций. А как вы узнаете, что̀ теперь такое у нас: прогресс или реакция?
– Уж, конечно, не реакция, – пробормотал я.
– Гм, нет, – начал снова Федя Горошков. – А слышали вы, что Белоголового арестовали * ?
– Вздор, вздор, – отвечал я. – Я вчера видел Белоголового.
– Ну да, вчера вы видели, а сегодня в ночь взяли; и всех студентов, исключенных по истории Полунина * , взяли, и самого даже Полунина взяли.
– Полунина-то зачем же? – спросил я, невольно улыбаясь.
– А для полноты сведений, – отвечал, не запинаясь, Федя Горошков.
– А слышали вы? – начал он снова…
Вестей, вроде представленных мною, рассказал мне Федя Горошков с три короба и, прощаясь, несколько раз повторил мне: «Нет, вы будьте поосторожнее, пообыщитесь; не ровен случай». Все, что говорил Федя Горошков, было или просто нелепо, или невероятно, или сомнительно; рассуждения и соображения его были глупы, но когда человек находится под влиянием паники, его легковерие быстро возрастает, и всегда в обратном отношении к здравому смыслу. Он делается способен скорее поверить вещи самой нелепой, нежели тому, что естественно и очевидно. Так было и со мной. Я понимал всю несостоятельность речей Феди Горошкова, мог доказать нелепость, невероятность или сомнительность каждой его сплетни, видел глупость его соображений, а вместе с тем мне невольно думалось: «А ведь почему-нибудь говорят же? Кто ж его знает, что̀ может быть?» В ушах у меня постоянно звучали прощальные слова Феди Горошкова: «Нет, вы будьте поосторожнее, пообыщитесь; не ровен случай». Сначала я старался отогнать их от себя, но напрасно; они то и дело завладевали всеми моими мыслями, так что я стал привыкать к ним, вдумываться в них и, наконец, порешил: «Почему же и не самообыскаться? * Самообыскание есть ведь только восполнение самоиспытания, и восполнение некоторым образом даже необходимое».
Но здесь мне предстоял трудный подвиг. Мне не хотелось о своем намерении самообыскания говорить жене. Потому что, как хотите, неловко как-то сказать жене или кому бы ни было, что я хочу обыскивать сам себя, или, что то же, хочу сам обыскивать свою квартиру. А между тем самообыскание нужнее было скорее всего для моей жены, чем для меня. Меня мало вообще интересовали разные запрещенные политические редкости, а она была неравнодушна и к сочинениям заграничной печати и к карточкам великих, но запрещенных людей * .
Жена моя прекрасная, цельная натура. В ней нет того раздвоения, к которому мы привыкаем с самых ранних лет. Она не разделяет мысли от слова, слова от дела; что̀ она раз признала честным и хорошим, от того никогда не отречется, даже притворно, напротив, будет отстаивать всеми силами везде и всегда. Для истины всякая аккомодация * к существующему положению дел, по ее убеждению, унизительна и преступна. Чем пламеннееделается натиск на то, что она привыкла считать честным и хорошим, тем суровеедает она отпор * , невзирая ни на какие лица и обстоятельства. Это качество я глубоко ценю и уважаю в ней. Но читатель, знающий наши общественные отношения, согласится, что бывают случаи, когда означенное качество может причинять большие беспокойства.
Когда я вошел в кабинет своей жены, она сидела и читала «Мизераблей» В. Гюго * .
– Что ты читаешь? – спросил я, будто не замечая.
Она назвала книгу.
– Старенько, – сказал я. – Да и талант Виктора Гюго давно уже поизносился. Ныне и у нас можно найти много кой-чего гораздо поновее и поталантливее.
– Что же, например? – спросила она.
– Да мало ли что? Например: «Идиот» господина Достоевского * . – Она сделала гримасу. – «Преступление и наказание» его же, – продолжал я с прежнею храбростью. – Некоторые критики очень хвалили этот роман именно за картинность * , которою только и берет Виктор Гюго. – Она поморщилась. – А то вот, – снова начал я, – последние сочинения нашего романиста И. С. Тургенева: «Собака», «Лейтенант Ер…» * . – В это время я взглянул на мою супругу и не кончил слова. Ее глаза обращены были на меня с таким укором, что мне стало совестно продолжать. – Ну да, – начал я, – я ведь говорю это только к примеру, называю первое, что мне приходит на память. Мало ли что у нас есть хорошего? Во всяком случае, что тебе за охота читать эти размазанные, растянутые, надоевшие всем описания нищеты, вечные нападки на богатых…
– А тебе хотелось бы, – возразила моя супруга, – чтобы я читала нападения на бедных за то, что они притесняют богатых?
Я замолчал. «С какой стати, – думал я в это время про себя, – привязался я к этим Мизераблям. Пусть ее читает их на здоровье, если хочет!»
– Впрочем, это ведь я так, – начал я, – только между прочим и из патриотизма обращаю твое внимание на недостатки Виктора Гюго. А у него есть, конечно, много и достоинств, и если он тебе приходится по сердцу, отчего же его и не читать? А это что̀ у тебя валяется? – сказал я, взяв одну из лежавших на столе книг, на которую давно уже были устремлены мои очи. – Ба! Заграничный исторический сборник * . Ну, об этом нельзя сказать того же, что о Гюго. Это можно совсем не читать без всякой потери!
– Это почему? – спрашивала моя супруга, смотря на меня во все глаза.
– Да потому, – отвечал я, – что… что ж это такое? Не то роман, не то история. Иные акты, конечно, встречаются и любопытные, но они ничем не удостоверены; что же толку в том, что ты их будешь знать?
– А какие же акты удостоверены?
– Да все, – отвечал я, – которые издаются не за границей, а у нас дома. Здесь издается все на основании подлинных, несомненных документов; если бы относительно чего возникло сомнение, можно сейчас печатно возбудить вопрос, завести спор, и дело тотчас выяснится. Мне жаль, – прибавил я, – что, читая исторические акты, издаваемые за границей, ты не заглянешь никогда в те, которые издаются здесь. Есть, которые далеко будут полюбопытнее тамошних, – а насчет подлинности не может быть и тени сомнения.
– Какие же это, например?
– Да вот все, которые печатаются в «Архиве» Бартенева * . С нынешнего года выходит еще одно такое издание Семевского. Архив я имею уже, а Семевского, если хочешь, также выпишу * . Оба гораздо любопытнее «Исторического сборника». Впрочем, ты «Исторический сборник», вероятно, давно уже прочла. Не хочешь ли – я пойду прогуливаться и отнесу его. У кого ты его брала?
– А знаешь, что я тебе скажу, – сказала жена, пристально смотря мне в глаза, – тебе в душе должно быть очень стыдно!
– Отчего же? Я… только так, – бормотал я, конфузясь.
– Признайся, – продолжала она, – что ты меня обыскиваешь и поставлен в необходимость говорить разную дичь. Отчего не сказать было прямо, что ты немножко трусишь и желал бы, чтобы я очистила свою квартиру от некоторых книг и карточек, которые могут компрометировать.
– Ну да… быть осторожным – вещь, конечно, не лишняя, – говорил я с смущением, – но я вовсе не думал… ты говоришь пустяки…
– Перестань… теперь я все понимаю и все негодные книги удалю. А карточки какие тебе не нравятся?
– Карточки твои все хороши, – говорил я, пересматривая ее альбом, – только вот, мне кажется, напрасно поставила ты в первую голову Фурье, Луи Блана, Прудона. Они, конечно, люди с талантами, но основательности в них не особенно много. Это не то, что Бэкон, Кеплер, Ньютон…
– Ты, пожалуйста, перестань об основательности. Не нравится тебе, – и я выброшу их.
– Нет, зачем же выбрасывать… Они, во всяком случае, светила, но ты только поставь их подальше. Да кроме того, у тебя коллекция замечательных лиц неполна, да и альбом с пустыми местами смотрит как-то некрасиво. Не хочешь ли, я дам тебе – для пополнения – нашу иерархию?
– Какую это иерархию?
– Да карточки наших преосвященных.
– Это зачем? Ты, пожалуйста, не прислуживайся. Уничтожать можешь, что хочешь, а пополнять тебе мой альбом не позволю. Можешь свой завести и помещать там, кого хочешь.
– Ну, где ж мне возиться с альбомом. Я и тебе посоветовал так, ради полноты твоего альбома.
– Не нужно советов. А что ты желаешь, будет исполнено в точности: не будет ни одной карточки с лицом неодобрительного политического поведения и ни одной книги с мыслями красноты неузаконенной. Иди и будь спокоен.
Совершив тяжелый подвиг объяснения с женою, я пошел в кабинет, чтобы совершить процесс самообыскания над собою. Я заглянул в свои книжные шкапы, в ящики письменного стола, в диванные ящики, в особые сундуки, назначенные исключительно для бумаг, – везде были груды, так что, если бы собрать все вместе, образовался бы, наверное, большой воз. Для основательного разбора этих бумаг несколько человек должны бы были убить, по крайней мере, месяц времени. Бумажный этот хлам копился у меня в течение более десяти лет. В нем было все – и целые статьи разных сочинителей, предназначавшиеся к печати и оказавшиеся неудобными для печатания, и бесчисленные черновые листы напечатанных сочинений, разбитые по страницам и перемешанные вместе из нескольких десятков сочинений, и разные счеты, и бесчисленное множество писем, писанных в течение десяти лет на имя разных редакций – все это в течение более десяти лет никогда не разбиралось; при переездах с квартиры на квартиру, на дачи и с дачи складывалось охапками в простыни и из простынь таким же образом перекладывалось снова куда попало. Можно представить себе, какой хаос господствовал в этом хламе! Что было с ним делать? Сжечь? Но как сжечь без разбору? Среди хлама могли заваляться бумаги забытые и ненужные, но которые потом, по востребованию, могут оказаться весьма нужными. Разбирать все это? Но разбирать нужно самому и тщательно, а для этого пришлось бы просидеть за ними месяца три. Наконец, если бы на все махнуть рукой, решиться сжечь все без разбора и начать жечь, то таким аутодафе * можно поставить на ноги всю прислугу, возбудить подозрение, что жжешь нечто преступное. И кто поручится, что̀ может из этого выйти? Я, перекрестясь, решился на волю божию оставить хлам, как он был. Но мне хотелось полюбопытствовать хотя немножко, что̀ в нем есть, и, так сказать, предвосхитить впечатление того, кому пришлось бы разбирать его. Я подошел к одной маленькой куче, лежавшей внизу книжного шкапа, вынул несколько ненапечатанных старых сочинений, пук всевозможного винегрета из разных отрывочных листов, счетов, писем; перекинул в последнем несколько листов, счетов, писем и вдруг, о ужас, нахожу следующую записку:








