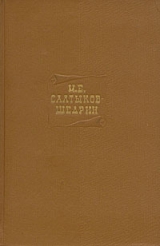
Текст книги "Том 9. Критика и публицистика 1868-1883"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 52 страниц)
Нам скажут, быть может, что в романе г. Омулевского бросается в глаза очень большая доля книжности, что герои его романа, более чем нужно, походят друг на друга, что действие идет несколько вяло и т. д., – и мы, конечно, вынуждены будем принять эти замечания к сведению. Но мы считаем при этом долгом обратить внимание читателя на одно обстоятельство, имеющее, по нашему мнению, при оценке произведения г. Омулевского существенное значение. Дело в том, что новые идеи, которых касается автор, входят в общий обиход очень туго, а еще туже проникают в самую жизнь, то есть достигают признания для себя. Это затруднение имеет тот непосредственный результат, что художественное воспроизведение практических проявлений этих идей невольным образом суживает свои границы и видит себя в невозможности воспользоваться всем разнообразием существующих форм. Женщину, ищущую для себя самостоятельного места па жизненном пире, изобразить, конечно, труднее, нежели женщину, обманывающую своего мужа и за всем тем живущую на его содержании. Относительно обманывающих женщин существует целая литература и, наконец, великое множество устных преданий, из которых можно вывести очень обстоятельную теорию и на основании ее выкроить множество моделей, не лишенных жизненной правды. Напротив того, о женщине, ищущей самостоятельного положения, слухи пошли лишь недавно, и притом самая эта задача, вследствие своей неразработанности, представляется уличному пониманию в такой обстановке, которая с трудом удерживается в пределах опрятности. Поэтому ничего нет удивительного, что недостаток объективности восполняется в этом случае лиризмом и что этот последний даже занимает первый план. Тем не менее мы сочли бы себя вправе укорить г. Омулевского в недостатке столь крупном (хотя и вполне объяснимом), если б не видели с его стороны очень серьезных усилий освободиться от голословных разглагольствований и стать на дорогу образного воспроизведения жизни. Не проводя никаких параллелей, мы, по совести, можем сказать, что г. Омулевский в художественном отношении стоит далеко впереди тех более опытных беллетристов, которые идут с ним об руку в одном и том же честном литературном направлении, но в то же время не подают никаких надежд на освобождение от голословности * .
В заключение, мы не можем без полнейшего сочувствия отнестись к следующим строкам почтенного автора, которые, по нашему мнению, в значительной мере объясняют существование в его романе тех слабых сторон, о которых мы сейчас говорили.
Вот эти строки:
Как неоттаявшая почва мешает зреть брошенным в нее семенам, как не могут отливать всеми красками солнца подснежные цветы, – так точно задерживаются рост и краски художественного произведения суровым дыханием нашей северной непогоды. Что было возможно, однако ж, то сделано нами, и да не поставится никому в укоризну посильный труд. Если в нашем первом опыте ты останешься недоволен бледностью интриги, чуждой той завлекательной формы, к какой приучили тебя более даровитые возделыватели отечественной мысли; если его завязка покажется тебе однообразной и скучной, или несколько туманной, а развязка – совершенно ничтожной, – то и в этом не вполне виноват один автор. Не до блестящих интриг теперь нам с тобой, читатель, когда безвозвратно миновала золотая пора сказок и жизнь предъявляет на каждом шагу свои настоятельные нужды. Наступает нечто лучшее, – лучшая и завязка требуется для романа; за развязку же никто не может поручиться тебе в наше переходное, обильное всякими недоразумениями время. В одном только принимаем мы на себя полную ответственность: не Светлов будет виноват, если эта личность не заслужит твоей серьезной симпатии; считай тогда просто, что у автора – не хватило пороху. Глубокое убеждение подсказывает пишущему эти строки, что во сто раз честнее ему самому провалиться перед публикой, нежели невежественно уронить в ее глазах ту либо другую, восходящую на общественном горизонте, силу, когда эта сила, хотя бы даже и в своих заблуждениях, неизменно направлена к благу и преуспеянию родины.
А теперь, при расставаньи, – позволь, в свою очередь, и автору
спросить у тебя: да пришло ли у нас еще, полно, то желанное время, когда деятельность личности, подобной Светлову, может быть всецело выведена перед твоими глазами? Возблагодарим небеса и за то, если перед тобой, как бы еще в утреннем тумане, уже скользит иногда ее далеко не окрепшее начало. Мы не скажем, что у нас невозможна подобная деятельность; но где – укажи нам – та широкая общественная арена, на которой она могла бы показать свои действительные силы, борясь открыто, лицом к лицу, с своими исконными врагами – тьмой и невежеством? Только еще в далекой радужной перспективе носится перед нами такая борьба… За неимением ее Светлов ведет иную: это борьба пролетария в подземных каменноугольных копях, – борьба тяжелая и неблагодарная, иногда безнадежная, но чаще всего – опасная. Долго ли обрушиться сводам этих извилистых коридоров, прорытых в земляных глыбах? Долго ли раздавить им упорного труженика, с одной только киркой в руке неутомимо прокладывающего в этих грубых пластах дорогу будущему торжеству идеи, на благоденствие грядущих поколений?
С этим, конечно, нельзя не согласиться.
Русские демократы. Роман в двух частях Н. Витнякова. СПб. 1871 г *
Может ли сыроварение служить предметом романа? – вот вопрос, который естественно возникает при чтении романа г. Витнякова. Как ни странен кажется этот вопрос с первого взгляда, но если отнестись к нему внимательно, то ответ придется дать утвердительный. Да, сыроварение может быть точно так же источником радостей, горестей и всевозможных жизненных перипетий, как и всякая другая отрасль человеческой деятельности, как государственная служба, например. Что в этой последней заключается неисчерпаемый источник для всевозможных завязок и развязок – это факт уже доказанный. Чиновник зазевался, не встал с надлежащею поспешностью при входе начальника, не приветствовал его с тою почтительностью, которая завещана практикою, – вот уже готовое зерно для целой драмы. Начальник строг, но справедлив; он требует, чтоб на лицах подчиненных чиновников выражалась, при входе его, почтительная радость, требует этого не ради удовлетворения своего самолюбия, а ради принципа. N зазевался и не удовлетворил этому принципу… драма начинается. Затем, посмотрите, сколько может быть здесь осложнений! В это самое время, когда чиновник зазевался, он собирался жениться на молодой и достойной девице; родители девицы охотно соглашались на этот брак, но соглашались все-таки потому, что имели в виду занимаемое чиновником место столоначальника. Но гнев начальника разбивает мечты в прах. Оказывается, что чиновник, кроме сыроварения или писания отношений, предписаний и рапортов, ничего не знает и делать не может. Он приходит к родителям, объявляет о своем горе и за всем тем упорствует в намерении жениться, изъявляя надежду, что бог даст, как-нибудь и т. д. Но родители о «как-нибудь» и слышать не хотят, ибо небезосновательно подозревают, что это «как-нибудь» заключает в себе не что иное, как посягательство на их карман. Драма осложняется еще больше, потому что образованная и молодая девица исповедует убеждения, совершенно противоположные тем, которые исповедуют строгие, но умудренные опытом родители. Она вместе с женихом говорит: «Мы молоды, мы сильны», и т. д., а отсюда до «бог даст» и «как-нибудь» – рукой подать. Происходит ряд бурных и возмутительных сцен, в промежутке которых уволенный от службы чиновник делает образованную девицу матерью и под рукою предпринимает изнурительное путешествие по департаментам в поисках за местом. Но тут драма осложняется еще более. Является он, например, в департамент дивидендов и раздач – его спрашивают: где вы прежде служили? Он отвечает: в департаменте недоумений и оговорок. Зачем оставили службу? – Уволен за непоспешное приветствование начальника. Пауза. Затем отказ. Драма осложняется еще более, потому что чиновник износил свои штаны, а образованная девица с часу на час ждет, что увлечение ее откроется. Это кульминантная точка, далее которой драматический интерес не идет. Затем, говоря языком поваренных книг, можно поступить по вкусу, то есть или определить чиновника начальником отделения в департамент отказов и удовлетворений * и окончить драму общим благополучием, или же заставить героев утопиться в Неве. И после того, как все это будет сделано и «плод любви преступной» * будет сдан в воспитательный дом, издать драму или роман под названием:
Зазевался! или Ошибки молодости. Драма в «» действиях, или роман в «» частях. Соч. Очевидца
Но если все это можно проделать по поводу государственной службы, то непонятно, почему те же самые комбинации не могут быть допущены по поводу сыроварения. Ремесло сыроварения тоже может быть источником и радостей и бед. Удачный выход сыра – и человек счастлив, неудачный – и человек погиб. Затем: 1) образованных девиц, сочувствующих сыроварению, точно так же много, как и таковых же, сочувствующих деятельности столоначальника; 2) умудренных опытностью родителей – тоже непочатый край; 3) департаментов по части сыроварения едва ли даже не больше, нежели департаментов по части отказов и удовлетворений. А коль скоро существуют налицо все элементы для драмы, то несомненно, что может существовать и самая сыроварная драма.
Такую именно драму представил нам г. Витняков, и хотя мы не считаем себя вправе признать его опыт совершенно удавшимся, но не встречаем никаких препятствий к продолжению подобных же опытов и по части винокурения, медоварения и пивоварения. Один недостаток нам кажется довольно капитальным в труде г. Витнякова, а именно тот, что все выходы сыра у Радужного (герой романа) слишком уже удачны. Кажется, что в жизни не всегда так бывает, а впрочем, мы и к тому не имеем ни малейших препятствий, чтобы успех следовал по пятам г. Радужного на всем протяжении его сыроварной карьеры.
И еще один очень важный недостаток – это до крайности безобразное издание романа, испещренного таким множеством опечаток, которому мы давно уже не видали примеров.
Повести, рассказы и драматические сочинения Н. А. Лейкина. 2 тома. СПб. 1871 *
Г-н Лейкин принадлежит к числу писателей, знакомство с которыми весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни. Область наблюдений его не очень обширна (торговцы Апраксина двора и мелкое петербургское купечество); но в этой небольшой области он является полным хозяином, свидетельство которого не может возбудить ни малейших сомнений. В сочинениях, ныне им изданных, читатель не встретится ни с законченною драмою, ни с характерными типами, но познакомится с целою средой, обстановка которой схвачена очень живо и ясно. Это материал, имеющий скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность.
Среда, изображаемая г. Лейкиным, в высшей степени оригинальна. Все в ней своеобразно: и язык, и внешняя обстановка, и нравственные условия, и радости, и горести, и даже религия. Это языческий мир, лишенный своей первоначальной наивности и оставшийся при одних грубых верованиях в приметы, при одном паническом страхе перед стихийною силою. Страх – вот главный фон картины; затем следуют аксессуары: преемственное дранье, беспробудное пьянство и обделывание делишек с полным презрением ко всему, что напоминает о совестливости и правильности расчетов. Побоями начинается здесь жизнь и побоями же оканчивается; применение этого принципа разнообразится только тем, что в начале жизни побои принимаются, в конце – раздаются. В свободное от побоев время люди мошенничают, устраивают злостные банкротства, пьянствуют, читают сонники и молятся, то есть ставят пудовые свечи и льют чудовищные колокола. Как ни мало замысловата такая жизнь, но она осложняется одним весьма важным элементом: трепетом перед таинственною угрозою, которую никто из этих подневольных людей уяснить себе не может. Отсюда целый ряд эмипирических попыток оградить себя от действия этой угрозы, – попыток, разрешающихся тем, что случайные и бессвязные внешние признаки получают силу незыблемого закона и уважаются тем охотнее, что поклонение ему не требует ни пудовых свечей, ни чудовищных колоколов. Тем не менее выполнение всех отыскиваемых таким путем примет требует самой настойчивой точности. Надобно знать, когда следует употребить наговоренный пояс, в каких случаях полезно навязать на левую щиколку кожу, содранную с угря, в каких болезнях приносит облегчение галка, приколоченная за крылья к подворотне дома, и т. п. Это целый кодекс, имеющий в виду обеспечить жизнь и все-таки не обеспечивающий ее, потому что кодексу этому нет конца, и сегодняшние случайные открытия могут быть опровергнуты завтрашними, не менее случайными открытиями. Понятно, что вся эта сложная процедура может иметь место только в такой среде, которая только по наружности кажется деловою, в действительности же изнемогает под бременем праздности и невежественности.
И эта нравственная и умственная Патагония существует не где-нибудь в Обояни или Наровчате, а в столичном городе С.-Петербурге. Центр ее составляют: Апраксин двор и Ямская; но нельзя поручиться, чтобы в менее плотном виде она не была разлита и в других кварталах. Этот факт очень прискорбен, но делается еще более прискорбным вследствие одного обстоятельства, которое значительно осложняет его.
Не надо забывать, что все эти язычники, льющие колокола и верующие в прибитую к подворотне галку, не просто грубые люди, похожие более на зверей, нежели на людей. Нет, это так называемая каменная степа. Если бы эти люди представляли собой стоящий особняком общественный нарост, не имеющий органической связи с остальным обществом, можно было бы пожалеть о них; но это совсем не особняк, а оплот, относительно которого наростом (и даже вредным, подлежащим преследованию) считается все, что не подходит к этому типу. Мы находимся еще в том периоде умственного развития, когда правило: чем неразвитее человек, тем он надежнее – сохраняет все свое подавляющее значение. Это убеждение носится в воздухе, туманит все головы и даже проникает в сердца самих патагонцев. Они совсем не чувствуют себя подонками и отребьем общества; напротив того, вполне сознают, что сила на их стороне. Они вполне убеждены, что мысль есть единственный и самый злой враг общества и что бессмыслие есть его ограда. И убеждение это делается тем непоколебимее, что на каждом шагу оно встречает себе практические подтверждения. Человек, от зари до зари обсчитывающий и обмеривающий, потом до безобразия напивающийся и в пьяном виде отходящий ко сну – вот идеал благонадежного гражданина, который и до сих пор не перестает господствовать в уличных понятиях. Нужды нет, что эти люди воруют самым наглым образом – они краеугольный камень собственности; нужды нет, что они верят в наговоренные пояса – они краеугольный камень религии; нужды нет, что семейная жизнь их есть не что иное, как сплошной разврат – они краеугольный камень семейства; нужды нет, что своими действиями они непрерывно подрывают основы общества – в них, и в них одних усматривается краеугольный камень общественного спокойствия. Собрание всех этих краеугольных камней можно видеть в столичном городе С.-Петербурге, на Апраксином дворе. И они ведут себя с полным сознанием своей краеугольности, ибо и отцам, и дедам их исстари было натолковано: вы столпы! Недаром же купец Суриков (в пьесе г. Лейкина «Ряженые») говорит: «А мы так и без арифметики прожили; слава богу, деньги счесть можем». Он знает, что он краеугольный камень и что в этом чине ему не только без арифметики, но и совсем без царя в голове прожить можно.
Стало быть, патагонцы наши далеко не беззащитные сироты, какими представляют их себе сентиментальничающие народолюбцы, но люди очень зубастые и опасные. Они наполняются ненавистью точно так же легко, как и сивухой, и притом ненавистью, всегда направленною односторонне. Всякая попытка к выходу из состояния бессознательности преследуется ими и прямо, и косвенно: прямо, когда лицо, предпринимающее попытку, находится под руками; косвенно, когда оно находится вне непосредственного влияния патагонцев. Поэтому не только нельзя относиться к патагонцам с сочувствием, но нет даже надобности отыскивать точку, на которой можно было бы примириться с ними. Если допустить, что это люди, находящиеся под гнетом истории, то надо допустить, что и они, в свою очередь, гнетут историю, которая, в своих темных чертах, есть не что иное, как дело рук патагонцев. Даже добрые качества, которыми они, как люди, конечно, обладать могут, не внушают ни малейшей симпатии, ибо они составляют лишь индивидуальные качества, инстинктивные и не освещенные разумом, до которых никому нет дела. Это – подневольная масса в самом обширном смысле этого слова, масса, мечущаяся из стороны в сторону и не отдающая себе ни малейшего отчета в этих панических метаниях.
Порицательное отношение к подобной действительности может ли быть названо глумленьем над нею? Может ли, например, г. Лейкин быть привлечен к ответственности за то, что апраксинский торговец является у нас в образе купца Шибалова, а не Перикла? Вопрос этот в недавнее время был разрешен одним неизвестным критиком утвердительно («Вестник Европы» в статье «Историческая сатира»). Критик сочинил даже по этому поводу особенную теорию «юмора», которая делает ему честь, как человеку, дошедшему собственным умом до некоторых общих соображений, но которая едва ли будет кем-нибудь принята к сведению. Следуя этой теории, «юмор» непосредственно вытекает из христианского изречения: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас» * , и значение его состоит в том, чтобы, «не жертвуя малым великому, великое низводить до малого, а малое возвышать до великого». А отсюда якобы возникают два непременных правила, которые юморист обязывается принять к исполнению: во-первых, великодушие, доброта и сострадание и, во-вторых, сочувствие во что бы то ни стало к тому, что̀ осуществляет собой то малое, которое следует возвышать до великого.
Как ни замечательна эта теория, но верить ей ни под каким видом не следует, ибо она основана на двух очень крупных недоразумениях. Во-первых, критик не различил исторического народа от народа, как воплотителя идеи демократизма. Между тем различие это весьма существенно. Первый, то есть исторический народ, всегда и везде оценивается и приобретает сочувствие по мере дел своих; стало быть, ежели он производит героев, подобных тем, каких изображает г. Лейкин, то о сочувствии ему не может быть и речи. Хороши обремененные и труждающиеся, которые всякую попытку в смысле сознательности считают чуть не посягательством на общественное спокойствие! Попробуйте-ка простереть им объятия, и вы наверное убедитесь, что, вместо лобзания, они произведут укушение – и ничего больше. Что же касается до «народа», рассматриваемого во втором смысле, то ему действительно не сочувствовать нельзя, но не потому, что он представляет нечто «малое», возбуждающее сострадание, а потому, напротив, что в нем воплощается безгранично великое. В этом «народе» замыкается начало и конец всякой индивидуальной деятельности; следовательно, несочувствие к нему, исходящее от отдельного индивидуума, равносильно несочувствию самому себе.
Во-вторых, искусство, точно так же как и наука, преследует одну цель: истину, а следовательно, оценивает жизненные явления единственно по внутренней их стоимости. Если б было иначе, если б к оценке примешивались великодушие и сострадание, то произошло бы нечто очень оригинальное. С одной стороны, читатель не знал бы, что̀ в начертанной художником картине действительно верно и что̀ смягчено, скрыто или прибавлено под влиянием сострадания. С другой стороны, читатель, подкупленный художником, мог бы в самом деле признать за краеугольные камни такие личности, которые в действительности не только ничего не подпирают, но все подтачивают.
Мы помним картины из времен крепостного права, написанные à la Dickens. Как там казалось тепло, светло, уютно, гостеприимно и благодушно! а какая, на самом деле, была у этого благодушия ужасная подкладка!
Но и этого еще мало. Изложенная выше теория юмора не только фальшива, но сама содержит в себе глумление, горшее всех глумлений. Трудно себе представить более низменное положение, нежели то, которое здесь отводится народу и относительно которого никакого иного приема не допускается, кроме великодушия и сострадания. Представьте себе на практике эту гимнастику низведения и возвышения, и вы убедитесь, что тут идет речь уже не о временно-великих и временно-малых, какими вообще являются люди в истории, но о консолидировании сих величин навсегда. Это противно даже тому христианскому учению, на которое ссылается критик и которое вразумительно объявляет, что все люди братья. Но это нужно критику, потому что в противном случае не будет юмора, некого будет ни возвышать, ни низводить…
Обращаясь от изложенной выше теории к разбираемому нами автору, мы можем сказать г. Лейкину: да не смущается сердце его. Пусть он имеет в виду одну истину, и результат этой истины будет гораздо плодотворнее, нежели всевозможные гимнастические упражнения с низведениями и возвышениями.








