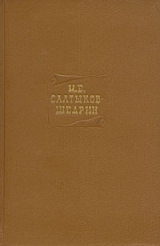
Текст книги "Том 16. Книга 2. Мелочи жизни"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)
К весне она собирается родить. Будет ли у них красная парочка, баран да ярочка, как предсказывал себе сам Сережа, или число детей увеличится до четырех – каждому по усадьбе и по сахарному заводу – это покажет будущее.
Вообще жизнь его устроилась, попала в окончательную колею, из которой уже не выйдет. Ни тревог, ни волнений, ничего впереди, кроме неосмысленной фразы: que tout est à recommencer.
В свое время он умрет, и прах его с надлежащею помпой отвезут сначала на варшавский вокзал, а потом в родовое имение, где похоронены останки его предков. А на другой день в газетах появится его некролог:
«Вчера скончался Сергей Семенович Росто̀кин, один из самых ревностных реформаторов последнего времени. Еще накануне он беседовал с друзьями об одном проекте, который составлял предмет его постоянных забот, и в этой беседе, внезапно, на порвавшемся слове, застигла его смерть… Мир праху твоему, честный труженик!»
2. Евгений ЛюберцевОн – товарищ Сережи Росто̀кина по школе, но какая разница! Сережа учился более нежели плохо и слыл между товарищами глупеньким; Люберцев учился отлично (вышел с золотою медалью) и уже на школьной скамье выглядывал мужем совета.
– Oh, celui-là ne manquera pas sa carrière! [33]33
О, этот не промахнется, сделает карьеру!
[Закрыть]– говорил про него француз-воспитатель, ласково держа его за подбородок и проницательно вглядываясь ему в глаза.
А русский воспитатель прибавлял:
– Со временем бразды правления в руках держать будет. И не без пользы для себя… и для других.
Евгений Филиппыч был сын чиновника из второстепенных, но пользовавшегося отличною репутациею. Филипп Андреич занимал не блестящий, но довольно солидный пост, на котором надеялся и покончить свою служебную карьеру. Многое от него зависело, хотя он скромно об этом умалчивал. Никогда он не метил высоко, держался средней линии и паче всего заботился о том, чтоб начальнику даже в голову не пришло, что он, честный и старый служака Люберцев, кому-нибудь ножку подставить хочет. Зато все его любили, все обращались к нему с доверием, дружелюбно жали ему руку, как равному, и никогда не отказывали в маленьких послугах, вроде определения детей на казенный счет, выдачи пособия на случай поездки куда-нибудь на воды и проч. Одним словом, Евгений Филиппыч принадлежал к одной из тех солидных чиновничьих семей, которые считают в прошлом несколько поколений начальников отделения и одного вице-директора (Филипп Андреич).
Евгений любил отца, видел его трудовую жизнь, сочувствовал ей и готовился идти по родительским стопам. Сходство между ними было поразительное во всех отношениях. По наружному виду он был такого же высокого роста, так же плотен и расположен к дебелости, как и отец. В нравственном отношении оба выросли в понятиях «долга», оба знали цену «послушанию», оба были трудолюбивы, толковиты и прямо отыскивали суть дела. Но существовала и разница: отец был человек себе на уме, а сын был тоже себе на уме, но, кроме того, и с «искрой». Впрочем, это последнее качество проявилось в нем как результат новых веяний.
Вышедши из школы, Люберцев поселился не вместе с родным семейством, а на отдельной квартире, и отец вполне согласился, что он поступает правильно. Старик жил старозаветною жизнью и понимал, что сыну нужна совсем другая обстановка. Нужны товарищи, более или менее шумные собеседования, а по временам и сосредоточенность, которую не могла бы нарушить семейная сутолока. Словом сказать, нужно молодому человеку развязать руки, доставить самостоятельность. А семьи он не позабудет; он слишком солиден и честен, чтобы поставить себя в сомнительные отношения к отцу и матери.
– Пускай его поживет на своих ногах! – утешал Филипп Андреич огорченную жену, – в школе довольно поводили на помочах – теперь пусть сам собой попробует ходить!
Наняли для Генечки скромную квартиру (всего две комнаты), чистенько убрали, назначили на первое время небольшое пособие, справили новоселье, и затем молодой Люберцев начал новую жизнь под личною ответственностью, но с сознанием, что отцовский глаз зорко следит за ним и что, на случай нужды, ему всегда будет оказана помощь и дан добрый совет.
– Главное, друг мой, береги здоровье! – твердил ему отец, – mens sana in corpore sano [34]34
здоровый дух в здоровом теле.
[Закрыть]. Будешь здоров, и житься будет веселее, и все пойдет у тебя ладком да мирком!
– Не правда ли, папенька? – соглашался Евгений с отцом.
– Здоровье – это первое наше благо! – подтверждал отец, – ну, Христос с тобой! живи; я на тебя надеюсь!
Как я сказал выше, Люберцев уже на школьной скамье выглядывал дельцом. По выходе из школы он быстро втянулся в служебный круговорот (благо, служба была обязательная и место уже в перспективе имелось готовое) и даже усвоил себе известную терминологию, которою, однако ж, покамест пользовался как бы шутя. Так, улыбаясь, он называл себя государственным послушником, – не опричником, фуй! а именно послушником, – а иногда рисковал даже, тоже улыбаясь, говорить: «Мы, государственные доктринеры…» Вообще, на первых порах, трудно было разобрать, серьезно ли он говорит или иронически. Большинство видело, впрочем, скорее тонкую иронию, и это дало ему немало друзей из молодых людей с несколько пылким темпераментом.
У него не было француза-слуги, а выписан был из деревни для прислуг сын родительской кухарки, мальчик лет четырнадцати, неумелый и неловкий, которого он, однако ж, скоро так вышколил, что в квартире его все блестело, сапоги были хорошо вычищены и на платье ни соринки.
День его протекал очень просто, без всяких вычур. Все он делал систематически, не торопясь; с вечера расписывал завтрашние шестнадцать часов на клетки, и везде поспевал в свое время. Случались отступления от расписания, но редко, да и то исключительно в форме начальственных приглашений, от которых уклониться было нельзя. Вставал аккуратно в девять часов и сам делал свой несложный туалет. В девять с половиной он был уж у самовара, сам разливал себе чай и брался за книгу. Процесс чаепития (это был в то же время и завтрак его) длился довольно долго, но так как он сопровождался чтением, то Люберцев не старался об его сокращении. До одиннадцати часов он читал. Любимыми авторами его * были французские доктринеры времен Луи-Филиппа: * Гизо, Дюшатель, Вилльмен и проч.; из журналов он читал только «Revue des deux Mondes», удивляясь олимпийскому спокойствию мысли и логичности выводов и не подозревая, что эта логичность представляет собой не больше как беличье колесо. Бисмарку он тоже удивлялся, но, по его мнению, он был слишком смел и, так сказать, внезапен в своей политике. Нельзя было заранее из предыдущего поступка предусмотреть последующий, хотя сущность этих поступков имела одну и ту же подкладку. Втайне он даже был уверен, что «раскусил» Бисмарка и каждый его шаг может предсказать вперед. «Франция – это только отвод, – говорил он, – с Францией он на Бельгии помирится или выбросит ей кусок Лотарингии – не Эльзас, нет! – а главным образом взоры его устремлены на Россию, – это узел его политики, – вот увидите!» По его мнению, будь наше время несколько менее тревожно, и деятельность Бисмарка имела бы менее тревожный характер; он просто представлял бы собой повторение твердого, спокойного и строго-логического Гизо.
В одиннадцать часов он выходил на прогулку. Помня завет отца, он охранял свое здоровье от всяких случайностей. Он инстинктивно любил жизнь, хотя еще не знал ее. Поэтому он был в высшей степени аккуратен и умерен в гигиеническом смысле и считал часовую утреннюю прогулку одним из главных предохранительных условий в этом отношении. На прогулке он нередко встречался с отцом (он даже искал этих встреч), которому тоже предписаны были ежедневные прогулки для предупреждения излишнего расположения к дебелости.
– Здоров? – спрашивал отец.
– Слава богу! вы как, папенька?
– Мне что делается! я уж стар, и умру, так удивительного не будет… А ты береги свое здоровье, мой друг! это – первое наше благо. Умру, так вся семья на твоих руках останется. Ну, а по службе как?
– Понемножку. Но скучаю, что настоящего дела нет. Впрочем, на днях записку составить поручили; я в два дня кончил и подал свой труд, да что-то молчат. Должно быть, дело-то не очень нужное; так, для пробы пера, дали, чтоб испытать, способен ли я.
– Это и всегда так бывает на первых порах. Все равно как у портных: сначала на лоскутках шить приучают, а потом и настоящее дело дадут. Потерпи, не сомневайся. В свое время будешь и шить, и кроить, и утюжить.
– Ах, папенька, как же так можно выражаться!..
– Ну, ну, пошутить-то ведь не грех. Не все же серьезничать; шутка тоже, в свое время, не лишняя. Жизнь она смазывает. Начнут колеса скрипеть – возьмешь и смажешь. Так-то, голубчик. Христос с тобой! Главное – здоровье береги!
В полдень Люберцев уже на службе, серьезный и сосредоточенный. Покуда у него нет определенной должности; но швейцар Никита, который тридцать лет стоит с булавой в департаментских сенях, уже угадал его и выражается прямо, что Евгений Филиппыч из молодых да ранний.
– Вот, погодите, щелкоперы! – говорит он чиновникам, – он вам ужо, как начальником будет, задаст перцу! Забудете папироски курить да посвистывать!
Люберцев сидит за пустым столом и от нечего делать перелистывает старое дело. Исподволь он приучается к формам и обрядам (приучается на лоскутках шить), а между тем присматривается и к канцелярскому быту. Чиновники, по его мнению, распущены и имеют лишь смутное понятие о государственном интересе; начальники отделений смотрят вяло, пишут – не пишут, вообще ведут себя, словно им до смерти вся эта канитель надоела. Многие даже откровенно зубоскалят; критикуют начальственные распоряжения, радуются, когда в газетах появится колкая заметка или намек, сами собираются что-нибудь тиснуть. Директор департамента приходит поздно, засиживается у «своей» (так, по крайней мере, говорят чиновники) и совершенно понапрасну задерживает подчиненных. И у него на лице написаны усталость и равнодушие.
– А все-таки машина не останавливается! – размышляет про себя Генечка, – вот что значит раз пустить ее в ход! вот какую силу представляет собой идея государства! Покуда она не тронута, все функции государства совершаются сами собой!
В этих присматриваньях идет время до шести часов. Скучное, тягучее время, но Люберцев бодро высиживает его, и не потому, что – кто знает? вдруг случится в нем надобность! – а просто потому, что он сознает себя одною из составных частей этой машины, функции которой совершаются сами собой. Затем нелишнее, конечно, чтобы и директор видел, что он готов и ждет только мановения.
– А! вы здесь? – изредка говорит ему, проходя мимо, директор, который знает его отца и не прочь оказать протекцию сыну, – это очень любезно с вашей стороны. Скоро мы и для вас настоящее дело найдем, к месту вас пристроим! Я вашу записку читал… сделана умно, но, разумеется, молодо. Рассуждений много, теория преобладает – сейчас видно, что школьная скамья еще не простыла… ну-с, а покуда прощайте!
Люберцев не держит дома обеда, а обедает или у своих (два раза в неделю), или в скромном отельчике за рубль серебром. Дома ему было бы приятнее обедать, но он не хочет баловать себя и боится утратить хоть частичку той выдержки, которую поставил целью всей своей жизни. Два раза в неделю – это, конечно, даже необходимо; в эти дни его нетерпеливо поджидает мать и заказывает его любимые блюда – совестно и огорчить отсутствием. За обедом он сообщает отцу о своих делах.
– Директор недавно видел меня и упоминал о моей записке, – рассказывает он, – говорил, что составлена недурно, но рассуждений много, теория преобладает…
– Да, мой друг, в делах службы рассуждения только мешают. Нужно быть кратким, держаться фактов, а факты уже сами собой покажут, куда следует идти.
– Но нельзя же, папенька, не рассуждать. Ведь недаром нас теории учили.
– Рассуждать ты можешь про себя, а об теориях в частных разговорах беседовать можно. Ну, и на службе, пожалуй, ими руководись, только чтоб не бросалось в глаза, не замедляло, так сказать, изложения. Теория, мой друг, окраску человеку дает, клеймо кладет на его деятельность – ну, и смотри на дело с точки зрения этой окраски, только не выставляй ее. Я сам в молодости теориям обучался, а потому вышел из меня Филипп Андреич Люберцев, а не Андрей Филиппыч. И всякий знает мою работу, всякий сразу скажет: эту записку писал не Андрей Филиппыч, а Филипп Андреев, сын Люберцев. Ex ungue leonem [35]35
Узнаю льва по когтям.
[Закрыть], если можно, без хвастовства, так выразиться. Вот об чем я говорю.
Вечер, часов с девяти, Люберцев проводит в кругу товарищей, но не таких шалопаев, как Ростбкин (он с ним почти не встречается), а таких же основательных и солидных, как и он сам. Раз в неделю он принимает у себя; остальные вечера переходит от одного товарища к другому и изредка посещает театр. Когда собираются у него, он очень мило разыгрывает роль хозяина, потчует чаем с сдобными булками, а под конец появляется и очень приличная закуска. Несмотря на солидность, между товарищами поднимаются шумные споры. Говорят, по преимуществу, о государстве, его функциях и отношениях к отдельному индивидууму. Как люди, готовящиеся к занятию «постов», юноши задорно стоят на стороне государства и защищают неприкосновенность его прав.
– Государство – это всё, – ораторствует Генечка, – наука о государстве – это современный палладиум. Это целое верование. Никакой отдельный индивидуум немыслим вне государства, потому что только последнее может дать защиту, оградить не только от внешних вторжений, но и от самого себя.
Однако бывают и противоречия, не то чтобы очень радикальные, а все-таки не столь всецело отдающие индивидуума в жертву государству. Середка на половине. Но Люберцев не формализируется противоречиями, ибо знает, что du choc des opinions jaillit la vérite [36]36
из столкновения мнений рождается истина.
[Закрыть]. Терпимость – это одно из достоинств, которым он особенно дорожит, но, конечно, в пределах. Сам он не отступит ни на пядь, но выслушает всегда благосклонно.
– И прекрасно, мой друг, делаешь, – хвалит его отец, – и я выслушиваю, когда начальник отделения мне возражает, а иногда и соглашаюсь с ним. И директор мои возражения благосклонно выслушивает. Ну, не захочет по-моему сделать – его воля! Стало быть, он прав, а я виноват, – из-за чего тут горячку пороть! А чаще всего так бывает, что поспорим-поспорим, да на чем-нибудь середнем и сойдемся!
– Не правда ли, папенька?
– Говорю тебе, что хорошо делаешь, что не горячишься. В жизни и все так бывает. Иногда идешь на Гороховую, да прозеваешь переулок и очутишься на Вознесенской. Так что же такое! И воротишься, – не бог знает, чего стоит. Излишняя горячность здоровью вредит, а оно нам нужнее всего. Ты здоров?
– Слава богу, папенька!
– Ну, и Христос с тобой! Посещай товарищей, не пренебрегай ими! Иной раз пренебрежешь человеком, а он потом в самонужнейших окажется!
На один из дружеских вечеров совсем неожиданно явился Сережа Росто̀кин. Он слышал, что у Генечки происходят в определенные дни умные разговоры, и пожелал полюбопытствовать, а при случае, с своей стороны, словечко вставить, доказать, que tout est à refaire. Он приехал навеселе, прямо от Бореля, и появление его так всех удивило, что вдруг все смолкло. Люберцев хотел разыграть радушного хозяина и не мог: голос у него потух. Гости сидели как на иголках; некоторые даже искали глазами свои шляпы. С своей стороны, и Сережа молчал и удивленно хлопал глазами, не видя нигде ни вина, ни объедков, ни залитой и загаженной скатерти.
– Вы̀пито! – бессмысленно пробормотал он наконец, щелкая себя в галстух. – Да, было-таки… Но какую мы свежую икру ели… сливки!
Пробормотавши это, он опять замолчал и через четверть часа встал и направился к выходу. Но тут обернулся и крикнул:
– Засу̀шины вы! все вы еще в пеленках высохли!.. Государство… туда же! Вот мы когда-нибудь с Петром Николаичем… разберем!
И исчез.
Споры возобновились, но Люберцев был слегка задумчив. Он вспомнил вещие слова отца: иной раз пренебрежешь человеком, а он в самонужнейших окажется…
«Что̀, ежели этот шалопай, в самом деле…» – тревожился он.
И на другой день, урвавши четверть часа у прогулки, он зашел к Сереже и застал его в самом разгаре туалетной деятельности.
– А! Люберцев! – воскликнул Ростокин, слегка удивленный, – каким добрым ветром тебя занесло?
Оказалось, что он действительно был так пьян накануне, что все забыл.
– Да так, повидаться захотелось. Давно уж…
– И я давно собираюсь к тебе. У тебя, говорят, умные вечера завелись… надо, надо послушать, что̀ умные люди говорят. Ведь и я с своей стороны… Вместе бы… unitibus… [37]37
объединимся.
[Закрыть]как это?
И он начал, по обыкновению, твердить, que tout est à refaire. Твердил бестолково, вращая зрачками, грозя пальцем и ссылаясь на Петра Николаича.
– Ежели вы, господа, на этой же почве стоите, – говорил он, – то я с вами сойдусь. Буду ездить на ваши совещания, пить чай с булками, и общими усилиями нам, быть может, удастся подвинуть дело вперед. Помилуй! tout croule, tout roule [38]38
все рушится, все разваливается.
[Закрыть]– а у нас полезнейшие проекты под сукном по полугоду лежат, и никто ни о чем подумать не хочет! Момент, говорят, не наступил; но уловите же наконец этот момент… sacrebleu!.. [39]39
черт возьми!
[Закрыть]
Генечка слушал терпеливо и от времени до времени качал головой. Он рад был, что вчерашняя история кончилась так благополучно.
Так проводит свой день государственный по̀слушник Евгений Филиппыч Люберцев и кончает его пунктуально в час ночи, когда мирно отходит ко сну.
Немного спустя, ему дали составить другую записку. Давно уже начали собирать данные о необходимости восстановить заставы и шлагбаумы, * и наконец отовсюду получены были ответные донесения. Оказывалось, что заставы и шлагбаумы не только полезны, но и самое восстановление их может совершиться легко, без потрясений. Столбы старых шлагбаумов еще доселе стоят невредимы, следовательно, стоит только купить новые цепи и нанять сторожа (буде военное ведомство не даст караула) – и города вновь украсятся и процветут. При сем прилагались и штаты. Генечка рассмотрел это дело очень внимательно. Он воздержался от рассуждений и только в одном месте упомянул об обывательских страстях, к ограждению от коих преимущественно должны служить заставы. Штаты он нашел умеренными и с помощью первых четырех правил арифметики легко вывел среднюю сумму предстоящих издержек. Оставалось только найти источник для удовлетворения нового расхода. Люберцев сходил за справкой в министерство финансов, но там ему сказали, что государственное казначейство и без того чересчур обременено. Слышал он мельком, что где-то существует калмыцкий капитал, толкнулся и туда, но там встретил почти враждебный отпор («вам какое дело?»). Предстояло одно из двух: или обратить дело к дополнительным запросам, – но тогда оно затянулось бы на неопределенное время, – или же ограждение обывателей от собственных их страстей произвести на счет их самих.
Генечка решил в последнем смысле: и короче, да и вполне справедливо. Дело не залежится, а между тем идея государственности будет соблюдена. Затем он составил свод мнений, включил справку о недостаточности средств казны и неприкосновенности калмыцкого капитала, разлиновал штаты, закруглил – и подал.
Директор одобрил записку всецело, только тираду о страстях вычеркнул, найдя, что в деловой бумаге поэзии и вообще вымыслов допустить нельзя. Затем положил доклад в ящик, щелкнул замком и сказал, что когда наступит момент, тогда все, что хранится в ящике, само собой выйдет оттуда и увидит свет.
Шаг этот был важен для Люберцева в том отношении, что открывал ему настежь двери в будущее. Ему дали место помощника столоначальника. Это было первое звено той цепи, которую ему предстояло пройти. Сравнительно, новое его положение досталось ему довольно легко. Прошло лишь семь– восемь месяцев по выходе из школы, и он, двадцатилетний юноша, уже находился в служебном круговороте, в качестве рычага государственной машины. Рычага маленького, почти незаметного, а все-таки…
По этому случаю у стариков Люберцевых был экстраординарный обед. Подавали шампанское и пили здоровье новобранца. Филипп Андреич сиял; Анна Яковлевна (мать) плакала от умиления; сестрицы и братцы говорили: «Je vous félicite» [40]40
Поздравляю.
[Закрыть]. Генечка был несколько взволнован, но сдерживался.
– Я в нем уверен, – говорил старик Люберцев, – в нем наша, люберцевская кровь. Батюшка у меня умер на службе, я – на службе умру, и он пойдет по нашим следам. Старайся, мой друг, воздерживаться от теорий, а паче всего от поэзии… ну ее! Держись фактов – это в нашем деле главное. А пуще всего пекись об здоровье. Береги себя, друг мой, не искушайся! Ведь ты здоров?
– Здоров, папенька.
– Ну, и слава богу. А теперь, на радостях, еще по бокальчику выпьем – вон, я вижу, в бутылке еще осталось. Не привык я к шампанскому, хотя и случалось в посторонних домах полакомиться. Ну, да на этот раз, ежели и сверх обыкновенного весел буду, так Аннушка простит.
И, вновь выпив здоровье новобранца, Филипп Андреич продолжал:
– Ты обо мне не суди по-теперешнему; я тоже повеселиться мастер был. Однажды даже настоящим образом был пьян. Зазвал меня к себе начальник, да в шутку, должно быть, – выпьемте да выпьемте! – и накатил! Да так накатил, что воротился я домой – зги божьей не вижу! Сестра Аннушкина в ту пору у нас гостила, так я Аннушку от нее отличить не могу: пойдем, – говорю! Месяца два после этого Анюта меня все пьяницей звала. Насилу оправдался.
– Так вот вы какой, папенька!
С получением штатного места пришлось несколько видоизменить modus vivendi [41]41
образ жизни.
[Закрыть]. Люберцев продолжал принимать у себя раз в неделю, но товарищей посещал уже реже, потому что приходилось и по вечерам работать дома. Дружеский кружок редел; между членами его мало-помалу образовался раскол. Некоторые члены заразились фантазиями, оказались чересчур рьяными и отделились.
Люберцев быстро втягивался в службу, и по мере того, как он проникал в ее сердце, идея государственности заменялась идеей о бюрократии, а интерес государства превращался в интерес казны. Слова и мнения старика отца с каждым днем все больше и больше принимали для сына значение непререкаемости. Он вполне усвоил себе идею главенства фактов и устранил вымысел и теорию навсегда. Если речь идет о снабжении городовых свистками, то только о свистках и писалось, а рассуждения на тему о безопасности допускались лишь настолько, насколько это нужно для оправдания свистков. «В видах ограждения безопасности обывателей, необходимо снабдить городовых свистками», только и всего. Потому что, ежели начать с того, что главная забота государства заключается в том… – то это уж будет не доклад, а бред. Залезешь в такую трущобу, что потом и не вылезешь. Ведь идея государственности и в обнаженном изложении фактов просочится сама собой – стало быть, ничего другого и не требуется. Это складка, которую он получил уже на школьной скамье и которая никогда его не оставит; зачем же выставлять ее напоказ и замедлять стройное и логическое изложение экскурсиями по сторонам?
Ты не очень, однако, в канцелярщину затягивайся! – предостерегал его отец, – надседаться будешь – пожалуй, и на шею сядут. Начальство тоже себе на уме; скажет: вот настоящий помощник столоначальника, и останешься ты аридовы веки в помощниках. Действуй вольно, показывай вид, что не очень дорожишь, что тебя везде с удовольствием приютят. Тогда тобой дорожить станут, настоящим образом труд твой будут ценить. Я десять лет вице-директором состою, да то – я, а тебе я этого не желаю. Связей не упускай, посещай людей, рассматривай. И старых знакомых, которые полезны, не упускай, и новых знакомств не беги. Мудреная, брат, это наука – жизнь! Ну, да, бог даст, ты справишься.
Генечка последовал и этому совету. Он даже сошелся с Росто̀киным, хотя должен был, так сказать, привыкать к его обществу. Через Ростокина он надеялся проникнуть дальше, устроить такие связи, о каких отец и не мечтал. Однако ж сердце все-таки тревожилось воспоминанием о товарищах, на глазах которых он вступил в жизнь и из которых значительная часть уже отшатнулась от него. С одним из них он однажды встретился.
– А помнишь, как Росто̀кин всех нас обозвал засушинами? – спросил прежний сочлен по «умным» вечерам, – глуп-глуп, а правду сказал. Ты не совсем еще засох?
Люберцев кисло улыбнулся в ответ.
– Засохнешь – в этом не сомневайся! – продолжал товарищ. – Смотри, как бы, вместо государственных-то людей, в простых подьячих не очутиться!
Но Генечка этого не опасался и продолжал преуспевать. Ему еще тридцати лет не было, а уже самые лестные предложения сыпались на него со всех сторон. Он не раз мог бы получить в провинции хорошо оплаченное и ответственное место, но уклонялся от таких предложений, предпочитая служить в Петербурге, на глазах у начальства. Много проектов он уже выработал, а еще больше имел в виду выработать в непродолжительном времени. Словом сказать, ему предстояло пролить свет…
Хотя свет этот начинал уже походить на тусклое освещение, разливаемое сальной свечой подьячего, но от окончательного подьячества его спасли связи и старая складка государственности, приобретенная еще в школе. Тем не менее он и от чада сальной свечки был бы не прочь, если б убедился, что этот чад ведет к цели.
Тридцати лет он уже занимал полуответственный пост, наравне с Сережей Ростокиным. Мысль, что служебный круговорот совершенно тождествен с круговоротом жизненным и что успех невозможен, покуда представление этой тождественности не будет усвоено во всей его полноте, все яснее и яснее обрисовывалась перед его умственным взором. И он, не торопясь, но настойчиво, начал подготовлять себя к применению этой мысли на практике.
К этому времени отец его совсем состарился, но все еще занимал прежнюю должность. Он с любовью следил за успехами сына, хотя, признаться, многого уже не понимал в его поступках. Его радовало, что сын здоров, что он на виду, – ничего другого он не желал. Старуха мать заботливо приискивала сыну приличную партию и однажды даже совсем было высватала ему богатенькую купеческую дочь, По̀хотневу, и Генечка чуть не соблазнился блестящим приданым и даже решил в уме, что неловко звучащую фамилию «По̀хотнев» можно без труда изменить на «Пахо̀тнев» (madame de Lubertzeff, née de Pakhotneff) [42]42
г-жа Люберцева, урожденная Пахотнева.
[Закрыть]. Но, по зрелом рассуждении, нашел, что еще рано садиться в гнездо, и предпочел сохранить независимость.
В настоящее время служебная его карьера настолько определилась, что до него рукой не достать. Он вполне изменил свой взгляд на служебный труд. Оставил при себе только государственную складку, а труд предоставил подчиненным. С утра до вечера он в движении: ездит по влиятельным знакомым, совещается, шушукается, подставляет ножки и всячески ограждает свою карьеру от случайности.
– Связи – вот главное! – говорит он отцу, – а как будет такой-то служебный вопрос решен, за или против, – это для меня безразлично. Перемелется – все мука̀ будет. Заручившись связями, я спокоен, да мне и приятно находиться в постоянном движении. Высшие сферы имеют чарующую, притягательную силу. Тут и роскошь обстановки, и непрерывная изворотливость мысли, и интерес неожиданных поворотов служебного ветра, то радующих, то пугающих, и роскошные женщины. Женщина, выхоленная, выдрессированная, сама по себе уже представляет для глаз неисчерпаемый источник наслаждений, а на любом рауте перед вами дефилируют десятки таких женщин. Свет, благоуханье, обнаженные плечи… Помилуйте! зачем я буду корпеть дома и перебирать бюрократическую ветошь, которая все равно ни к чему не поведет!
Старик выслушивает эти речи с некоторым удивлением, но не противоречит. Он просто думает, что, за старостью лет, отстал от времени и что, стало быть, все это нужно, ежели Генечка не может иначе поступать.
От времени до времени Люберцеву приходит на мысль, что теперь самая пора обзавестись своим семейством. Он тщательно приглядывается, рассматривает, разузнает, но делает это сам, не прибегая к постороннему посредничеству. Вообще подходит к этому вопросу с осторожностью и надеется в непродолжительном времени разрешить его.








