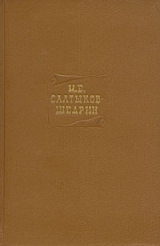
Текст книги "Том 16. Книга 2. Мелочи жизни"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
Никогда она не думала о выходе в замужество, никогда. Даже мимолетом не залетала эта мысль в ее голову, словно этот важнейший шаг женской жизни вовсе не касался ее.
Чем более погружалась она в институтскую мглу, тем своеобразнее становилось ее представление о мужчине. Когда-то ей везде виделись «херувимы»; теперь это было нечто вроде стада статских советников (и выше), из которых каждый имел надзор по своей части. Одни по хозяйственной, другие – по полицейской, третьи – по финансовой и т. д. А полковники и генералы стоят кругом в виде живой изгороди и наблюдают за тем, чтобы статским советникам не препятствовали огород городить.
Когда ей было уже за тридцать, ей предложили место классной дамы. Разумеется, она приняла с благодарностью и дала себе слово сделаться достойною оказанного ей отличия. Даже старалась быть строгою, как это ей рекомендовали, но никак не могла. Сама заводила в рекреационные часы игры с девицами, бегала и кружилась с ними, несмотря на то, что тугой и высокий корсет очень мешал ей. Начальство, видя это, покачивало головой, но наконец махнуло рукой, убедясь, что никаких беспорядков из этого не выходило.
Из класса в класс переходила она с «своими» девицами и радовалась, что наконец и у нее будет свой собственный выпуск, как у Клеопатры Карловны. Перед выпуском опять стали наезжать в приемные дни «херувимы»; но разница в ее прежних и нынешних воззрениях на них была громадная. Во дни оны она чувствовала себя точно причастного этому названию; теперь она употребляла это выражение совершенно машинально, чтоб сказать что-нибудь приятное девице, которую навещал «херувим».
Наконец день первого еевыпуска наступил. Красивейшая из девиц с необыкновенною грацией протанцевала па-де-шаль; другая с чувством прочла стихотворение Лермонтова «Спор»; на двух роялях исполнили в восемь рук увертюру из «Фрейшютц» * ; некрасивые и малоталантливые девицы исполнили хор из «Руслана и Людмилы». Родители прослезились и обнимали детей.
Наконец наступил час расставания. Как и при собственном выходе из института, Лидия Степановна стояла в швейцарской и провожала уезжавших.
– Прощайте божественная! небожительница! – кричали ей девицы, усаживаясь в кареты, – не забудьте! приезжайте!
– Непременно! непременно! – отвечала она им вслед.
Она махала платком, и ей махали платками из карет.
Вместе с нею стояла в швейцарской выпущенная институтка и плакала. Она тоже кончила курс, но была сирота, и ей предложили остаться при институте пепиньеркой.
– Вот и вы, Любочка, обрели тихое пристанище, – молвила плачущей Лидия Степановна.
Затем взяла ее под руку, и обе стали взбираться вверх по лестнице.
– Вы не плачьте, – утешала старшая сирота младшую, – здесь тихо… спокойно… точно в колыбели качаешься… Вам отведут комнату, и вы можете сидеть в ней и думать. Я тоже сидела и думала, но скоро успокоилась, и вам то же советую. Что мы такое? Мы – предназначенные судьбою вечные институтки. Институт наложил на нас свою печать, и эта печать будет лежать на нас до старости. Это хорошо, потому что иначе нельзя было бы жить. Вот придет весна, распустятся аллеи в институтском саду; мы будем вместе с вами ходить в сад во время классов, станем разговаривать, сообщать друг другу свои секреты… Право, судьба еще не так жестока, как кажется!
Около этого времени ее постигло горькое испытание: умерла старая директриса института. Горе едва не подавило ее, но она, как и по случаю смерти тетки, вступила с ним в борьбу и вышла из нее с честью.
– Бог знает, что̀ делает, – сказала она себе, – он отозвал к себе нашу добрую maman – стало быть, она нужна была там.А начальство, без сомнения, пришлет нам новую maman, которая со временем вознаградит нас за горькую утрату.
И действительно, через месяц явилась новая maman, и Лидия Степановна полюбила ее, как старую.
. .
Теперь ей уж за сорок, и скоро собираются праздновать ее юбилей. В парадные дни и во время официальных приемов, когда показывают институт влиятельным лицам, она следует за директрисой, в качестве старшей классной дамы, и всегда очень резонно отвечает на обращаемые к ней вопросы. В будущем она никаких изменений не предвидит, да и никому из начальствующих не приходит на мысль, что она может быть чем-нибудь иным, кроме образцовой классной дамы.
Корсет она, однако ж, переменила. Прежде всего старый обветшал, а наконец, она сама потучнела, и тело сделалось у нее грубое, словно хрящеватое. Но и тут она отказалась следовать моде и сделала себе корсет такой же высокий и жесткий, как кираса.
– Довольны вы? – спрашивал я ее на днях, встретивши ее у одной из ее питомок, молоденькой дамы, которая очень недавно связала себя узами гименея.
– И даже очень, – ответила она мне, – вспомните, ведь я сирота, и институт дал мне приют… Разве я этого не понимаю?
V. В сфере сеяния
1. ГазетчикЧем развитее общество, тем резче обозначаются в нем разнообразные умственные и политические течения, которые увлекают в свой круговорот массы людей. Так, например, во Франции существуют республиканцы различных оттенков и подразделений, монархисты вообще и, в частности, бонапартисты, легитимисты и орлеанисты; наконец, социалисты вообще и, в частности, социал-демократы, коллективисты и т. д. Приблизительно то же самое встречается и в других странах Западной Европы. Течения эти полагают начало политическим партиям; они же лежат и в основе журналистики. Правильна или неправильна идея, полезно или вредно направление, которому служит данный журнал (по-нашему, «газета») * , это – вопрос особый; но несомненно, что и идея и направление – существуют, что они высказываются в каждой строке журнала, не смешиваясь ни с какими другими идеями и направлениями. Издатель знает, что он издает; подписчик знает, на что он подписывается.
Торжество той или другой идеи производит известные изменения в политических сферах и в то же время представляет собой торжество журналистики соответствующего оттенка. Журналистика не стоит в стороне от жизни страны, считая подписчиков и рассчитывая лишь на то, чтобы журнальные воротилы были сыты, а принимает действительное участие в жизни. Стоит вспомнить июльскую монархию и ее представителя, Луи-Филиппа, чтобы убедиться в этом.
Но бывает и так, что журнальною деятельностью руководят не общественные и политические интересы, а побуждения совсем иного (низменно-морального) свойства. Или, говоря другими словами, бывает и так, что газеты, лишенные публицистической подкладки, подразделяются, по своему характеру, на ликующие и трепещущие. Содержание для первых представляют веселая диффамация и всех сортов балагурство (иногда, впрочем, заменяемые благонамеренным бешенством); содержанием для последних служит агонизирующая тоска, ввиду завтрашнего дня, и ежедневная разработка шкурного вопроса.
Каким образом балагурство для балагурства, бешенство для бешенства, тоска для тоски могут удовлетворять читающие массы – это секрет той степени развития, на которой может находиться в каждую данную минуту каждое данное общество. Ежели умственные и политические интересы не возбуждают внимания общества, то и журналистика неизбежно принимает соответствующий низменный характер. Единственная расценка, которая при этом допускается, – это подразделение газетных деятелей, как я сказал выше, на две группы: ликующих и трепещущих. О первых говорится: «Нахалы, но – молодцы!» О последних: «Ах, бедные!»
Сделавши эту оговорку, приступаю к рассказу. *
Первое место – газетчику ликующему, так как эта разновидность наиболее распространенная и притом благоденствующая.
Откуда он появляется на арену публичной деятельности? грек ли он таганрогский, расторговавшийся на халве и губках, еврей ли бердичевский, бывший ли сыщик или просто питомец воспитательного дома?
Каким образом приобрел он вкус к письменам?
Как очутился он во главе большой и распространенной газеты, претендующей на руководящее значение?
На все эти вопросы он может ответить только невнятным бормотанием.
Он даже избегает такого рода собеседований, как будто чувствует за собою вину. Он боится, что если обнаружится тайна осиявшего его ореола, то его станут дразнить. Он сам в основу своей литературно-публицистической деятельности всегда полагал дразнение * и потому не без основания опасается, что та же система будет применена и к нему. Мелкодушный и легкомысленный, он только от мелкодушных и легкомысленных ждет возмездия и обуздания.
Фактов, которые, в выгодном для него смысле, подтверждали бы его права на руководительство общественным мнением, не существует. Те факты, которые известны, свидетельствуют лишь о том, что он, до своего теперешнего возвеличения, пописывал фельетонцы, разрабатывал вопросцы и вообще занимался мелкосошным журнальным делом.
В фельетонцах он утверждал, что катанье на тройках есть признак наступления зимы; что есть блины с икрой – все равно, что в море купаться; что открытие «Аркадии» и «Ливадии» знаменует наступление весны. Вопросцы он разрабатывал крохотные, но дразнящие, оставляя, однако ж, в запасе лазейку, которая давала бы возможность отпереться. Вообще принял себе за правило писать бойко и хлестко; ненавидел принципы и убеждения и о писателях этой категории отзывался, что они напускают на публику уныние и скучищу.
Ввиду тумана, окутывающего его прошлое, его обыкновенно называют Иваном Непомнящим (имя собирательное). Этим же именем буду называть его здесь и я.
Газета Ивана Непомнящего возникла точно так же нечаянно, как и он сам. Он не верил глазам, когда ему принесли из типографии первый, пробный нумер. Удивление его тем более было законно, что в этом нумере он не узнавал самого себя. Ему посоветовали, для начала, прикинуться серьезным, и он смекнул, что это совет недурной. Большинство знавших его прежнюю бесшабашную деятельность ожидало, что он сейчас же начнет кувыркаться, и было приятно изумлено, услышав, что этот кувыркающийся человек может, между прочим, изрекать и солидные словеса. «Кувырканье от нас не уйдет, – говорили читатели, – но нужно и разнообразить газету». Притом же существуют факты, которые газета не имеет права игнорировать и по поводу которых сразу начать кувыркаться даже неудобно. Нужно до известной степени подготовить публику, приручить читателя, образовать его вкусы в известном направлении, а потом уж и начать звонить вовсю. Когда эта задача будет выполнена, никто не удивится, если и самые серьезные жизненные явления предстанут пропитанными кувырканьем.
Итак, на первых порах Непомнящий ведет свое предприятие довольно скромно. Прошедшее его имело слегка либеральный характер. Один Непомнящий (имя собирательное) дразнился в фельетонцах, другой – в статьях публицистического характера, третий – тиснул какую-то брошюру, и сам не помнит – о чем. Словом сказать, и тот, и другой, и третий – наследили-таки следов, покуда балагурили за чужой счет. Теперь, сделавшись обладателями сокровища, они понимают, что надо эти следы замести хвостом. И вот один Непомнящий объявляет, что, в сущности, он никогда не дразнился, а просто балагурил; другой, что если он язвил в одну сторону, то может, по требованию, язвить и в другую; третий – что он и сам не знает, что делал, но вперед «не будет». И тут же представляют образцы будущего хорошего поведения. Вероломство и подвохи украшают столбцы вперемежку с лестью и курением фимиамов. Один Непомнящий науськивает весело и бойко; другой – производит то же самое с шипением и пеною у рта; третий – не знает, как ему поспеть за двумя первыми.
Спросите Непомнящего, что он хочет, какие цели преследует его газета? – и ежели в нем еще сохранилась хоть капля искренности, то вы услышите ответ: хочу подписчика! Да и чего другого ему хотеть? Он до тонкости постиг суть своего времени и очень хорошо знает, что древняя поговорка: «scripta manent» [74]74
«Письмена остаются».
[Закрыть]– до его ремесла не относится. Ему достоверно известно, что его «простыня» годна только сегодня, а завтра она исчезнет – куда? О господи, спаси и помилуй! О каких же тут целях может идти речь, кроме уловления подписчика? «Scripta» исчезают бесследно, не оставляя в памяти ничего, кроме мути; но подписчик остается (вон он, слоняется по улице! – где у тебя портмоне?.. дур-рак!), и запах его имеет одуряющие свойства. Надо изловить его; а чтобы достигнуть этого, необходимо давать ему именно ту умственную пищу, которая ему по вкусу. Поэтому Непомнящий напрягает все усилия преимущественно в начале года и к концу его. В средине он может даже игнорировать собственную газету, потому что это время глухое и никаких существенных перемен в материальном смысле не представляет. Но с октября Непомнящий стоит уж на страже и начинает подсчитывать. И не только он сам, но и ближайшие сотрудники его как будто чувствуют, что наступает час генеральной битвы, и удвоивают усилия. Никогда не бывает таких забубенных, ликующих фельетонцев, никогда «вопросцам» не уделяется так много места, никогда столбцы не уснащаются такою массою подсиживаний. Читатель в изумлении ждет, что будет дальше, – и подписывается.
Подписчик драгоценен еще и в том смысле, что он приводит за собою объявителя. * Никакая кухарка, ни один дворник не пойдут объявлять о себе в газету, которая считает подписчиков единичными тысячами. И вот из скромных дворнических лепт образуется ассигнационная груда. Найдут ли алчущие кухарки искомое место – это еще вопрос; но газетчик свое дело сделал; он спустил кухаркину лепту в общую пропасть, и затем ему и в голову не придет, что эта лепта составляет один из элементов его благосостояния.
Одним словом, под фирмой газеты Непомнящий приобрел себе сокровище. Понятно, что он бережет ее, как зеницу ока, от всяких случайностей. Ввиду упрочения ее будущего, не должно быть речи ни об идеях, ни о целях, ни об убеждениях, ни о чем, кроме наивернейших способов удержать за собою сокровище. Он употребляет все усилия, чтобы проникнуть в мысль и вкусы влиятельной среды, справляется у приспешников, угадывает смысл улыбок и телодвижений, напоминает о своей неизменной готовности, а иногда даже удостоивается собеседований. Язвит он исключительно безоружных, тех, которые на его науськиванье не могут дать прямого отпора. Такой образ действия и до сих пор у нас известен под именем полемики. Изречет ликующий доброволец какую-нибудь бесспорную «истину», вроде, например, обвинения в неблагонадежности, и торжествует, зная заранее, что ответ на такое обвинение немыслим. Почему немыслим? – а потому, милостивые государи, что, во-первых, в обвинении подобного рода, говоря языком юристов, нет состава вины, а во-вторых, и потому, что самый спор об известных предметах может завести в такую трущобу, из которой и не вылезешь.
Благодаря прочно организованной системе приспешничества газета Непомнящего получает возможность ежедневно снабжать читателя целой массой новостей и слухов. Читатель жадно ловит эти слухи, прежде всего потому, что он сам иной здоровой пищи не знает, а наконец, и потому, что всякая новость передается в газете бойко, весело, облитая соответствующим пикантным соусом. Завтра девять десятых этих слухов окажутся лишенными основания, но зато они заменятся таким же количеством других слухов, которые окажутся ложными послезавтра. По части слухов, кроме системы приспешничества, много способствует и дар выдумки. Существует целая армия сотрудников, репортеров, странствующих витязей, которых назначение заключается единственно в том, чтобы оживлять столбцы и занимать читателя целым ворохом небывальщины. Запасшись этим ворохом, читатель на целый день обеспечен. Он ходит по улице, навещает знакомых и целый день лжет на основании данных, почерпнутых им из газеты Непомнящего 1-го. Знакомые его, получающие газету Непомнящего 2-го, в свою очередь, лгут. Происходит обмен сумбурных мыслей, которые, впрочем, имеют за собой то преимущество, что не дают жизни окончательно замереть. Ибо этот-то именно сумбур и называется жизнию.
Обилие сплетен приводит за собой обилие подписчика; обилие подписчика приносит обилие денег. Сначала Непомнящий как бы робеет перед сыплющеюся на него манною, относится к ней слегка иронически и даже ведет приблизительно тот же образ жизни, к которому привык с молодых ногтей. Но по мере того, как растет толпа объявителей-дворников и объявительниц-кухарок, сердце его все шире и шире раскрывается для сибаритства. Непомнящий забывает прошлое, привередничает, бросает деньги направо и налево. Прежде всего он устраивает себе обширный кабинет с изобилием письменных столов, с тяжелою мебелью, тяжелыми портьерами и гардинами, стараясь придать помещению такой вид, чтобы случайный посетитель знал, что именно в этой храмине производится та таинственная стряпня, по поводу которой сложилась поговорка, что печать есть шестая великая держава * . Около часу дня в кабинет начинает приливать набранное в типографии для завтрашнего нумера лганье.
Под масть кабинету устраивается и остальное помещение. Обширная столовая со шкафами, уставленными серебром (непременно в русском стиле), приемная, два салона. Только комнаты, отведенные для сотрудников и для семьи (ежели таковая есть), несколько напоминают трактир средней руки. Первые плохо вентилируются, редко выметаются, всегда наполнены табачным дымом и тою неопрятностью, которая сопровождает беспрерывное питье чая и неумеренное потребление бутербродов (угощение от редакции). Последние представляют собой склад всякого рода покупок, которые ворохами приливают с утра до вечера и разбрасываются по столам, стульям, постелям – где попало.
Непомнящий назначает журфиксы и устраивает обеды. И на тех и на других фигурируют преимущественно сотрудники и ведется откровенная беседа о том, что хотя подписчик и наклевывается, но следует и еще «поддать жару», чтобы он продолжал приливать. Сверх того, в штате Непомнящего непременно состоят три лица: льстец, рассказчик сцен и разорившийся жуир. Первый называет хозяина «амфитрионом», провозглашает за него тосты и передает патрону подслушанные разговоры; второй – оживляет застольную беседу; последний распоряжается кулинарною частию, сервировкой и обучает хозяина приличным манерам. Изредка в эту богато убранную клоаку заходят актеры, актрисы и канцелярские лазутчики, доставляющие материал для новостей дня. Особенным торжеством для себя считает Непомнящий, когда его посетит заезжая знаменитость. «Иностранцы, – говорит он, – начинают уже понимать, что в России печать – сила».
Повар Непомнящего отличный; обед тонкий – такой, о котором и во сне не снилось объявляющимся в его газете кухаркам. Лакеи во фраках и белых галстуках бесшумно обходят гостей, под зорким наблюдением старого жуира, который лишь на минутку садится за стол и почти все время дежурит около входной двери, щелкая языком, когда мимо него проносят лакомые блюда, и тревожно произнося: «psst!» – когда в сервировке замечается промах. Льстец тоже следит за сервировкой, но не по обязанности, а из усердия. Только рассказчик сцен делает вид, что он здесь – дома, и наполняет залу звукоподражаниями. Гости сидят скромно и потихоньку переговариваются между собою.
Но Непомнящему уже все надоело. Он едва притрогивается к великолепному шо-фруа, почти с презрением отламывает клешню рака à la bordelaise, – пососет и бросит. В воображении его проносится какое-то диковинное блюдо, в котором рядом фигурируют и шоколад, и мармелад, и икра с маслом, и стерлядь, и говяжий сычуг. Все это он едал отдельно, а теперь хотелось бы разом свалить все ингредиенты в кастрюлю, полить уксусом, яичным желтком и дать упреть. Но увы! – это только мечта! Не раз он сообщал эту мечту своему повару, но последний только улыбался, слушая его. Известно, богатому человеку и бред наяву к лицу.
Иногда, проглатывая куски сочного ростбифа, он уносится мыслию в далекое прошлое, припоминается Сундучный ряд в Москве – какая там продавалась с лотков ветчина! какие были квасы! А потом Московский трактир, куда он изредка захаживал полакомиться селянкой! Чего в этой селянке не было: и капуста, и обрывки телятины, дичины, ветчины, и маслины – почти то самое волшебное блюдо, о котором он мечтает теперь в апогее своего величия!
– А помнишь, Маня, – обращается он через стол к жене, – как мы с тобой в Москве в Сундучный ряд бегали? Купим, бывало, сайку да по ломтю ветчины (вот какие тогда ломти резали! – показывает он рукой) – и сыты на весь день!
Маню точно кто сзади в шею укусил. Лицо ее пламенеет, и она быстро ныряет им в тарелку, храня глубокое молчание. Но на него нашел добрый стих, и он продолжает благодушествовать.
– А что, господа! – обращается он к гостям, – ведь это лучшенькое из всего, что мы испытали в жизни, и я всегда с благодарностью вспоминаю об этом времени. Что такое я теперь? – «Я знаю, что я ничего не знаю», – вот все, что я могу сказать о себе. Все мне прискучило, все мной испытано – и на дне всего оказалось – ничто! Nichts! А в то золотое время земля под ногами горела, кровь кипела в жилах… Придешь в Московский трактир: «Гаврило! селянки!» – Ах, что это за селянка была! Маня, помнишь?
Маню опять нечто кусает в затылок, и она вновь молча ныряет лицом в тарелку.
– Вот она этих воспоминаний не любит, – кобенится Непомнящий, – а я ничего дороже их не знаю. Поверьте, что когда-нибудь я устрою себе праздник по своему вкусу. Брошу все, уеду в Москву и спрячусь куда-нибудь на Плющиху… непременно на Плющиху!
– Плющиха – улица первый сорт! – откликается рассказчик сцен – тут и Смоленский рынок близко – весь воздух протухлой рыбой провонял. Позвольте, я по этому самому случаю сцену из народного быта расскажу!
И рассказывает. Гости грохочут; даже лакеи позволяют себе слегка ухмыльнуться. Сервировка обеда несколько замедляется, к великому огорчению жуира, который исповедует то мнение, что за обед садятся затем, чтобы есть, а не затем, чтобы разговаривать.
К счастью, в это время лакей подает на серебряном подносе записку. Это рапортичка из конторы газеты; в ней значится: «Сего 11-го декабря прибыло на газету годовых подписчиков: городских 63, с почты – 467, итого 530. Затем, полугодовых, месячных» и т. д.
Непомнящий громко прочитывает записку; гости рукоплещут; жуир неистово произносит: «psst!»; льстец и рассказчик сцен откупоривают бутылки с шампанским и разливают вино по стаканам.
– Господа! – провозглашает Непомнящий, уже совсем забыв о недавней московской идиллии, – ежели так продолжится до 1-го января, то победа будет обеспечена. Не забудем, что после 1-го января перед нами еще целый год, в продолжение которого подписка принимается; наконец, весьма важный ресурс представляет розничная продажа… Повторяю: это – победа! Но она досталась нам нелегко. Припомним недавние годы, когда даже декабрьская подписка не достигала и трети теперешнего количества пренумерантов, – сколько потрачено усилий, тревог, волнений, чтобы выйти из состояния посредственности и довести дело до того блестящего положения, в котором оно в настоящее время находится! Положением этим я обязан не столько своим личным скромным силам, – «я знаю, что я ничего не знаю», только и всего, – сколько труду моих дорогих сотрудников (льстец закатывает глаза и мотает головой; сотрудники протестуют; раздаются возгласы: «Нет, вы даете тон газете! вам она обязана своим успехом! вам!»)… Благодарю вас, господа! Вы чересчур добры, но я совершенно искренно говорю: вы на ваших плечах вынесли мою газету; без вашего содействия она не достигла бы и малой доли теперешнего процветания! Что касается лично до меня, то единственная моя заслуга состоит в том, что я не унывал. Я сказал себе раз навсегда, что газету следует вести бойко, весело («так! так!»), что нужно давать читателю ежедневный материал для светского разговора («совершенно справедливо! совершенно справедливо!») – и неуклонно следовал этому принципу. Сверх того, я сказал себе: никогда не прать против рожна («никогда! никогда!»), потому, во-первых, что самое слово «рожон», в сущности, не имеет смысла, и, во-вторых, потому, что мы живем в такое время, когда не прать нужно, а содействовать. Вы поняли мою мысль, вы даже косвенно не «прали» и этим обеспечили будущее моей газеты. Исполать вам, господа! Поднимаю бокал и пью за здоровье моих дорогих друзей и сотрудников… ура!
– Нет! нет! за ваше здоровье! за ваше! об нас после… сначала вы!
– За здоровье радушного хозяина! – провозглашает льстец. Все встают из-за стола и гурьбою направляются к радушному амфитриону. Раздаются поцелуи.
Устраивая обеды и вечера, Непомнящий, как я уже сказал выше, прикидывается пресыщенным. Он чаще и чаще повторяет, что все на свете сем превратно, все на свете коловратно; что философия, науки, искусство – все исчерпывается словом: nichts! Посмотрит на пук ассигнаций, принесенный из канторы, и скажет: nichts! прочитает корректуру газеты и опять скажет: nichts! Если бы был под рукою Мефистофель, он приказал бы ему потопить корабль с грузом шоколада. *
– Сходите в мелочную лавку и принесите колбасы! – восклицает он.
Он рассматривает принесенную колбасу в микроскоп и видит шевелящихся трихин. Какая прекрасная мысль для фельетона! Бедняк заходит в лавочку, покупает, для поддержания жизни, на гривенник колбасы и обретает смерть! С другой стороны, пресыщенный богач, под внушением внезапной прихоти… опять колбаса – и опять смерть! Какое горькое сопоставление! Однако есть ли принесенную из лавки колбасу или не есть? Собственно говоря, жизнь так надоела, что всего естественнее было бы съесть колбасу и умереть. Но, с другой стороны, он – не просто Непомнящий, но прежде всего гражданин страны и патриот своего отечества. У него на руках целая масса сотрудников, корректоров, факторов, наборщиков. Наконец, публика, которую тоже нельзя оставить без руководительства. Нет, лучше не есть!
Не зная, как освободиться от массы денег и от гнета бездельничества, он начинает коллекционировать. * Ходит по Апраксину двору, отыскивает подлинных Рубенсов и Теньеров и мимоходом находит чашу, из которой пил Олег, прибивая щит к вратам Константинополя. * Запасшись десятком-другим апраксинских Рубенсов, украсив свой кабинет дорогими эльзевирами * , он вновь начинает томиться бездельничеством. Лежит по целым часам на диване, посвистывает и наконец нападает на мысль устроить еще два кабинета: китайский и японский. Он посещает базары и аукционы, знакомится с путешественниками, дает им поручения и в уме проектирует четыре зала: один под Рубенсов и Теньеров, другой – под старинные братины, кубки и прочую утварь; третий зал будет китайский, четвертый – японский. Квартиру придется переменить.
А газета между тем идет все ходчее и ходчее. Подписчик так и валит; от кухарок, дворников, кучеров отбою нет. У Непомнящего голова с каждым днем делается менее и менее способною выдумать что-нибудь путное для помещения денег.
Некоторое время его соблазняет мысль: не съездить ли в Италию, где продается за̀мок Лампопо̀ с принадлежащим к нему княжеским титулом? Сверх того, у него на правой лядвее вскочил прыщ, так уж и его, кстати, омыть в волнах Средиземного моря. Находятся, однако ж, настолько честные люди, которые доказывают, что затея его требует, по малой мере, в двадцать раз большего капитала, нежели тот, которым он обладает. С горечью покидает он свою мечту и жалуется, что ничто ему не удается. Nichts! Он ропщет на себя за то, что до сих пор так безрасчетно расходовал дворницкие лепты, и жестко отказывает сотрудникам в выдаче денег в счет будущих заработков.
На другой день, однако ж, Непомнящий, по обыкновению, забыл о вчерашнем. * И мечты и намерения сменяются в нем быстро, без всякой резонной причины. Вчера он мечтал о покупке замка в Италии, сегодня – порешил сделаться крупным землевладельцем в своем отечестве. Ему нужно много-много земли, много-много леса и пропасть воды. Для обработки земли он выпишет из Франции нормандских жеребцов и скупит все сельскохозяйственные машины, какие существуют на свете. В лес он напустит всевозможных птиц и зверей и будет устраивать охоты. В водах будет производить опыты рыбоводства: скрестит леща с налимом, стерлядь с судаком. Но, главным образом, ему необходима старинная барская усадьба, такая, в которой каждое уединенное место свидетельствовало бы о временном пребывании в нем Добрыни, или Осляби, или Яна Усмовича. * Эти места он слегка реставрирует, но непременно в том же духе и стиле, в каком они были при их приснопамятных посетителях. И, говорят, такая усадьба уже наклевывается, и именно «на верху крутой горы», где, по свидетельству «Аскольдовой могилы», «знаменитый жил боярин, по прозванью Карачун». *
Газету свою он начинает ненавидеть.
– Помилуйте! каждый день, каждый день, словно червь неусыпающий, появляется на столе эта ненавистная простыня! Ах, когда же, когда?!
Но внутренний голос отвечает: никогда! Он даже переменить одну бесцельную глупость на другую не может, потому что одна требует массу денег, другая – дает их.
На сотрудников он смотрит как на илотов; * сотрудники, в свою очередь, направо и налево сыплют анекдотами из жизни своих бесшабашных патронов. *
– Вчера, – рассказывает один, – наш бесшабашный о Шекспире со мной разговаривал. Вот, говорит, человек, которого я понимаю! Вот кабы что-нибудь в этом роде писнуть!
– И со мной разговор был, – подхватывает другой, – слышал я, говорит, что у одного из гарсонов ресторана Маньи, в Париже, локон волос Жорж-Занда сохранился, так я хочу для своих коллекций приобресть. Только дорого, каналья, заломил – пять тысяч франков!
Тем не менее газетная машина, однажды пущенная в ход, работает все бойчее и бойчее. Без идеи, без убеждения, без ясного понятия о добре и зле, Непомнящий стоит на страже руководительства, не веря ни во что, кроме тех пятнадцати рублей, которые приносит подписчик, и тех грошей, которые один за другим вытаскивает из кошеля кухарка. Он даже щеголяет отсутствием убеждений, называя последние абракадаброю и во всеуслышание объявляя, что ни завтра, ни послезавтра он не намерен стеснять себя никакими узами.
Чем же отвечает на эту бесшабашность общее течение жизни? Отворачивается ли оно от нее или идет ей навстречу? На этот вопрос я не могу дать вполне определенного ответа. Думаю, однако ж, что современная жизнь настолько заражена тлением всякого рода крох, что одно лишнее зловоние не составляет счета. Мелочи до такой степени переполнили ее и перепутались между собою, что критическое отношение к ним сделалось трудным. Приходится принимать их – только и всего.








