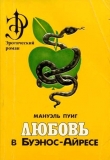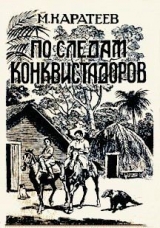
Текст книги "По следам конквистадоров"
Автор книги: Михаил Каратеев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Страшная ночь
К концу моего обхода начал накрапывать дождь и я поспешил домой. В сумерках, уже переходивших в ночную тьму, «Собачья Радость» выглядела привлекательнее, чем днем, и развернувшаяся передо мной картина казалась иллюстрацией к какому-то роману Жюль Верна, а может быть подсознание даже находило в ней нечто общее с давно пережитым, если не мною самим, то отдаленными предками-кочевниками, память о чем сохранил какой-то таинственный ген, дошедший до меня из глубины тысячелетий в силу законов атавизма.
Возле среднего навеса пылал костер, над которым висел на треноге объемистый чайник; обнаженный до пояса усатый и лохматый капитан Миловидов подбрасывал в огонь сухие сучья; тут же на бревне сидели три или четыре женщины, одна из них укачивала на руках засыпающего ребенка. Сзади, на фоне вызолоченной огнем опушки леса, мелькали тени, очевидно кто-то собирал там дрова, а на переднем плане старенький и бородатый завхоз, полковник Рапп, с видом патриарха раздавал группе полуголых мужчин порции привезенной менонитом колбасы, на ужин и на утро.
Из «клетки» слышались голоса, там кто-то невидимый жаловался, что стало темно как у негра в желудке, а на все восемь семейств хозяйственная часть отпустила один единственный керосиновый фонарь. Впрочем, пока в нем не ощущалось особой надобности, так как начавшийся было дождь прекратился и все население чакры сосредоточилось у костра.
Выпив горячего чаю и закусив колбасой, мы часика пол поболтали, делясь впечатлениями дня, а затем принялись укладываться в постели, передавая друг другу фонарь.
В ожидании своей очереди, мы с женой подошли к воротам. Над болотом дрожал золотой фейерверк светлячков и все оно, от края до края, звучало голосами многотысячного лягушиного хора. Тут были и звонкие сопрано и мягкие бархатные контральто, и могучие, ухающие как из пустой бочки басы. Временами в общую довольно стройную симфонию, резким диссонансом врывалась бравурная рулада, видимо от всей лягушачьей души, но невпопад запущенная каким-то болотным дилетантом. Изредка, воскрешая в памяти легенды об упырях, из трясины слышался жалобный и жуткий плач ребенка. Сходство было до того полным, что первое время некоторые из нас порывались лезть в болото, спасать «тонущее дитя». Ой! Ой-ой! Ой-ой-ой! – глухим человеческим голосом вопил в осоке другой земноводный шутник.
Теплая тропическая ночь так любовно обнимала эту безмятежную землю, еще не опакощенную ни фабрикантом, ни расовыми и классовыми распрями, ни законами, урезающими чье-либо право на труд и на место под солнцем, что душа до краев наполнялась давно забытыми чувствами тишины и умиротворения. Почти физически ощущалось, как скрученные постоянной европейской напряженностью нервы теперь приходят в свое нормальное состояние. И разум начинал оправдывать и приезд сюда, и безрассудную нашу авантюру. За это спокойствие, за этот душевный мир, разве не стоило заплатить отказом от цивилизации от связанных с нею жизненных удобств?
– Каратеевы, ваша очередь на фонарь, не задерживайте! – раздался в это время чей-то крик, сразу возвративший мои мысли к реальности.
Раздевшись, я залез под москитник и с наслаждением вытянулся на мягком пальмовом ложе. Фонарь еще у нас не забрали и можно было перед сном окинуть взором ближайшие окрестности.
За нашим изголовьем, в клетке, вплотную к ее стене, стояла импровизированная постель супругов Андреевых – нас разделяло расстояние немного более метра. С другой стороны, под соседним навесом, в трех шагах мостился на ящиках Миловидов. От тети Жени и ее супруга меня отделяла только тонкая перегородка из поставленных торчком чемоданов и повешенная над ними занавеска. Если бы мне взбрела в голову игривая мысль – пощекотать свою соседку по квартире, я мог бы это сделать не трогаясь с места, лишь вытянув руку.
Вокруг стоявшего на сундуке фонаря клубился рой бабочек, жуков и иных насекомых. Привлеченные этим изобилием, внизу, у постели тяжело плюхали белыми животами громадные жабы. Метко выбрасывая длинные липкие языки, они без промаха наклеивали на них добычу.
Наверху, по поддерживающим крышу стропилам, совершенно не стесняясь присутствием людей, озабоченно сновали крысы. Иногда, в чем-то не поладив, они вступали над нашими головами в драку, поднимая такой гвалт и писк, что некоторые начинали на них орать и шикать, мешая спать тем, у кого нервы были крепче.
– Старый! Как можно такое! – услышал я, засыпая, хнычущий голос тети Жени, обращавшейся к мужу. Она была полькой и по-русски говорила не совсем правильно. – Слушай, старый! Я боюсь…
– Спи, спи, чего там, – промямлил спросонья Воробьянин.
– Как я могу спать, когда тут столько этих крысов! Придумай что-нибудь, старый! Если крыса упадет мне на голову, я же умру!
Погрузившись в объятия сна, я уже не слышал что ответил и что придумал «старый». Надо полагать, ничего, так как в скором времени вся чакра была разбужена диким воем. Не соображая в чем дело, я привскочил на ходившей ходуном постели. В царящей под навесом могильной темноте, совсем рядом кто-то откалывал чечетку, неистово вопил и сокрушал пограничные чемоданы.
– Что тут происходит? – крикнул я, вытаскивая из-под подушки наган.
– Тетю Женю лопает пума, – высказали предположение из клетки.
Однако произошла вещь гораздо более простая, неоднократно случавшаяся потом и с другими: на задремавшую тетю Женю обрушился целый клубок подравшихся крыс. Пострадавшую отпоили водой, крыс общими силами разогнали и через несколько минут аврал закончился. Засыпая, я снова слышал:
– Видишь, старый черт, я тебе говорила, что-нибудь придумай! Жену крысы съедают, а он спит как боров! У, чтоб ты скис!
– Бу, бу, бу, – успокоительно бубнил в ответ «старый».
Долго ли я спал, не знаю, но проснулся снова от какого-то замогильного воя, идущего теперь откуда-то снизу. Поблизости кто-то чиркал зажигалкой, шуршал бумагой и тихо, но негодующе бормотал.
– Кто это тут воете – раздался сбоку сонный голос Воробьянина, свидетельствующий что тетя Женя на этот раз ни при чем.
– Проклятый кот спер у меня колбасу и еще кричит, эдакая сволочь! – ответил из темноты густой бас Миловидова.
Нашу колбасу, предназначенную на завтрак, я оставил в мисочке, на сундуке, накрыв ее тарелкой и сверху положил довольно тяжелый камень в уверенности, что крысы его не сдвинут. Но кот иное дело. Высунув руку из-под москитника, я пошарил по сундуку и с грустью убедился, что там осталась только пустая мисочка. Машинально я ее поднял и сейчас же с проклятиями бросил на землю: она была до такой степени облеплена муравьями, что казалась живой.
Нужно сказать, что этот неизвестно откуда появлявшийся кот, сделался подлинным бичом нашей жизни: совершенно не интересуясь крысами, или боясь с ними связываться, он артистически находил и поедал то у одного, то у другого спрятанную на утро еду. Только месяц спустя его удалось поймать в специально приготовленную ловушку и ликвидировать.
Однако в эту ночь кот благополучно ограбил всех, кого хотел, и наевшись до отвала отправился восвояси. Наступившую наконец тишину нарушал только душераздирающий храп мадам Шашиной, но к этому явлению мы уже имели время привыкнуть в школе и потому над «Собачьей Радостью» вновь воцарился безмятежный и вполне коллективный сон.
– Марго… Марго! Капает! – услышал я, просыпаясь, взволнованный голос Шашина. – Вот черт-те драл! Марго! Течет!
Богатырский храп на восточной стороне навеса оборвался и его сменило продолжительное плямканье. Я прислушался: дождь шел уже вовсю и через минуту царящая вокруг темнота наполнилась оханьями дам и проклятиями мужчин.
Большой навес не протекал, очевидно именно там жили наши предшественники, и потому у Раппов и у Миловидовых все обстояло более или менее благополучно, лишь кое-кому пришлось отодвинуть свои постели от края. Зато клетку дождь прохлестывал почти насквозь и при частых вспышках молний было видно, как ее обитатели белыми привидениями двигались вдоль своего частокола, распиная на нем одеяла, плащи и иное подручное тряпье.
У нас было хуже всего. Над Воробьяниными крыша протекала в нескольких местах, но по счастливой случайности на них самих не текло и потому «старый», придя в отличное настроение и не слушая причитаний тети Жени, устроился поудобней и принялся подавать советы соседям. На постель Шашиных хлестало, как из пожарной кишки, и тщетно они ее таскали из стороны в сторону в поисках какого-либо непромокаемого места под крышей.
Что касается моего апартамента, вначале дело ограничивалось лишь легкой капелью в одном, по счастью ничем не занятом углу, а благодаря сделанному мною плетню, дождь не забивал и снаружи. Умиротворенно подумав, что жизнь в Парагвае не так уж плоха, если самому не плошать, я собирался снова заснуть, как вдруг поток холодной воды хлынул нам с женой на ноги. Сорвавшись с места, я при помощи электрического фонарика сразу обнаружил причину катастрофы: скат соседней крыши обрывался в полуметре от края постели и едва солома намокла, каскады воды потекли на наше пальмовое ложе, заливая его почти до половины. На следующий день я подвесил между крышами железный жолоб, который в дальнейшем отводил дождевые хляби в сторону. Но в эту богатую приключениями ночь нам с женой оставалось только свернуться калачиками на той половине постели, куда не достигал водопад.
Ливень, между тем, хлестал с нарастающей силой и вскоре пол нашего навеса, который оказался немного ниже других, превратился в озеро: вода текла на него со всех сторон.
Меня это новое бедствие не застало врасплох, ибо в предвидении такой возможности я еще с вечера поставил все наши вещи на довольно высокие подставки. Но радужному настроению Воробьянина пришел внезапный конец: наскоро навалив свое уплывающее имущество на постели, ему и Шашину пришлось вылезать наружу и под проливным дождем окапываться отводной канавой.
Наученные этим горьким опытом, в ближайшие дни мы произвели в своих жилищах все доступные нам реформы: залатали крыши, повысили уровень полов, окопали свою жилплощадь канавами, стены под большим навесом обмазали глиной, а обитатели клетки и Шашины, по моему примеру, загородились пальмовыми плетнями.
Умеренный украинский климат
Дел, и притом самых насущных, не терпящих отлагательства, над нами с первого же дня нависла целая уйма.
Прежде всего, надо было рыть колодцы, так как воды в роднике хронически не хватало и первое время ее у нас, как было и у менонитов в Чако, раздавали по порциям, да и то лишь для питья, а для умывания каждый должен был добывать ее сам, кто где мог.
Нужно было также рубить в лесу деревья и заготовлять строительные материалы для всевозможных хозяйственных построек, соорудить печь для выпечки хлеба, предварительно самим же сделав для нее кирпичи, построить столовую, кухню, курятник, свинарник и загон для скота, пропалывать все плантации, собирать портившийся хлопок, подготовить поле для огорода, починить во многих местах изгородь, проложить внутреннюю дорогу между чакрами, привести в порядок лесную, ведущую к железнодорожной станции, и совершить еще великое множество более мелких, но столь же необходимых работ.
В колонии было тридцать два мужчины, но заниматься всем этим могли далеко не все. Керманов вел общее руководство и был поглощен хозяйственно-административными делами; полковники Рапп и Прокопович, не столько в силу своих «чиновничьих» обязанностей, сколько по старости и инвалидности, в расчет тоже не шли; поручик Яцевич был мастер на все руки и потому его завалили специальной работой: целые дни он пилил, строгал, ковал, клепал и чинил все в чем являлась надобность. Капитан Богданов был занят исключительно огородом, с которым, при недостатке воды и избытке всевозможных вредителей, управиться было нелегко; корнет Щедрин был конюхом, а поручик Колесников «быкадором»: они должны были заботиться о лошадях и волах, заготовлять им корм, возить на них всевозможные хозяйственные материалы и грузы, доставлять в колонию воду и т. п. Кто-нибудь один ежедневно назначался «кухонным мужиком» и обслуживал кухню.
Помимо этого существовали: секретарь колонии, он же переводчик и «чиновник для особых поручений», шорник (по совместительству и сапожник) и фельдшер. Эти трое, хотя и выходили в поле и в лес на общих основаниях, нередко должны были отвлекаться для исполнения своих специальных обязанностей. Кроме того, всегда находился кто-либо поранившийся на работе или временно выведенный из строя акклиматизационными болезнями, укусами насекомых и т. п., следовательно в общественных работах регулярно и ежедневно принимало участие не больше двадцати двух человек.
Работали, притом очень самоотверженно, и дамы; они готовили на всех еду, мыли посуду, обстирывали и обшивали всю колонию и сверх того нередко выходили на уборку хлопка и на другие легкие полевые работы.
На те или иные отрасли работ Керманов назначал наряд с вечера. При этом обычно принималось во внимание – кто к какой работе был подготовлен своей прошлой практикой или же успел в ней поднатореть уже на месте. Таким образом, более или менее постоянный состав назначался на полевые работы, на рубку леса и на постройки.
Курьезной и вместе с тем весьма показательной оказалась судьба молодого Раппа, сына нашего завхоза. Перед самым отъездом в Парагвай, он окончил в Бельгии агрономический факультет, и хотя не имел практики, все же в вопросах сельского хозяйства смыслил гораздо больше, чем все другие. Керманов назначил его шорником. Агроном, флегматичный парень, только пожал плечами и принялся чинить наши сапоги, седла и сбруи, в свободное от этих занятий время выходя на рубку леса. За весь год диктатор ни разу не применил его по специальности и даже не обратился за каким-нибудь советом.
День в колонии проходил так: в четыре часа утра, когда на небе едва намечались первые признаки рассвета, из своего логовища появлялся заспанный Шашни с сигнальной трубой в руке, взбирался на ближайший пригорок и мирно дремавшие окрестности оглашались пронзительными звуками «подъема».
Да не подумает читатель, что трубные сигналы, возвещавшие у нас побудку, начало и конец работы, обед и ужин, являлись следствием чрезмерной приверженности к милитаризму. Просто эта система оказалась в нашем положении весьма удобной: чакры стояли далеко друг от друга, работать тоже иногда приходилось в изрядном отдалении и в разных местах, часов при себе почти никто не имел, а сигнал был хорошо слышен всюду; таким образом все могли координировать свои действия и вовремя являться куда надо.
Заслышав подъем, все выползали из-под своих москитников, вытряхивали одежду и тщательно выколачивали палками сапоги, в которые любили забираться пауки, скорпионы и даже жабы, затем одевались и пили чай с какой-нибудь выданной с вечера закуской. В половине пятого раздавался второй сигнал и, вооружившись соответствующими инструментами, каждый отправлялся к месту своего назначения, согласно наряду, прочитанному за ужином Кермановым.
Первые два часа работ были сравнительно легкими и приятными, это было самое прохладное время суток. В шесть всходило солнце и через полчаса уже начинала ощущаться жара. Еще через полчаса пот лил со всех водопадами. Европейцу не понять, что значит парагвайское потение: с человека бегут ручьи, в сапогах хлюпает, одежда мокра до последнего атома, на работе мы ее снимали и отжимали как только к тому представлялась возможность.
Парагвайцы на солнцепеке всегда закрывали шею и верхние позвонки черными платками, утверждая, что пренебрегающие этой предосторожностью рискуют параличом. В нашей группе, за исключением одного-двух человек, этого никто не делал, но без рубах некоторые боялись работать и, по-видимому, совершенно напрасно: никто из нас от действия тропического солнца не пострадал и даже не загорал до такой степени, как можно было загореть на любом европейском пляже, очевидно, этому препятствовал обильно лившийся пот. Лично я, подобно многим другим, с утра до вечера работал в поле в одних трусиках и надевал шаровары и рубаху только в случае назначения в лес – туда внедряться без «защитительного покрова» было немыслимо.
После десяти часов пекло уже так, что работу приходилось прекращать. Весной перерыв у нас делался от одиннадцати до двух, а летом «сиесту» пришлось расширить на час в каждую сторону. Но и после трех, до самого захода солнца, почти не становилось прохладнее.
В летнее время температура в тени держалась обычно на 40–42 °C, но нередко бывало и больше. На солнце мы ее, к сожалению, не могли измерить за отсутствием подходящих термометров. Мой, например, был рассчитан на 55 °C, да сверх шкалы в трубочке оставалось свободного пространства градуса на три. Когда в полуденную пору я выставлял его на солнце, ртуть мгновенно заполняла трубочку до отказа и я спешил убрать термометр, пока он не лопнул.
Таким образом, днем на солнцепеке бывало, надо полагать, градусов шестьдесят, может быть и больше, а работать чаще всего приходилось на совершенно открытой местности. Впрочем, в лесу в эту пору бывало еще хуже: там стояла жара удручающе влажная, по сравнению с которой парниковая казалась Божьей благодатью, не говоря уж о тучах весьма бодро настроенных комаров, которые на кампе в такой зной заметно сдавали и вели себя довольно сдержанно.
В шесть часов заходило солнце, озарив на прощание землю огнями заката невиданной в Европе красоты. Весь небосвод, почти до восточного горизонта, пылал всеми оттенками багрянца, постепенно меняя цвета от золотисто-розового до фиолетового. Работу в это время приходилось кончать, так как ночь наступала по тропически быстро. Все взапуски устремлялись к родникам, колодцам и лужам, чтобы помыться (наиболее расторопным доставалось больше воды), и эти моменты были, пожалуй, самыми приятными в нашей жизни.
В половине восьмого подавался сигнал на ужин. Насытившись, мизантропы расходились по чакрам, а более общительные задерживались на часок в столовой, чтобы поболтать о том, о сем или послушать граммофон при свете керосинового фонаря и костров, которые раскладывались вокруг, чтобы хоть отчасти разогнать комаров.
Наша столовая, т. е. навес под которым стояли столы и скамейки, случайно оказалась расположенной очень удачно: через нее всегда тянул легкий сквознячок и жара тут не так ощущалась. Но первый месяц, пока шла заготовка материалов и постройка этой столовой и кухни, дамы готовили на кострах, а обедали мы тут же, на открытой лужайке. Было выкопано две параллельных канавы, на внешние края которых садились люди, свесив ноги вниз, а столом служила не-выбранная полоса земли между этими канавами. И в ту пору, особенно днем, когда сверху пекло тропическое солнце, мы, разумеется, «за столами» долго не засиживались.
После захода солнца жара спадала, но все же не настолько, чтобы можно было высохнуть. Это становилось возможным только с конца марта, после пятимесячного беспрерывного и круглосуточного потения. В летнее время температура по ночам падала до 33–34 градусов, и сон, особенно на матраце и подушке, полного отдыха не приносил: все это насквозь пропитывалось потом, действуя на тело как согревающий компресс, и потому многие предпочитали спать на парагвайских, плетенных из ремней койках или в гамаках.
Зато зимнее полугодие (апрель – сентябрь) обычно знаменуется в Парагвае отличной погодой, теплой, но не жаркой, с прохладными ночами. Иногда и днем бывают резкие колебания температуры, и когда она внезапно опускается градусов до двадцати, привыкшие к жаре люди начинают мерзнуть и кутаться в теплое. Комары и москиты в эту пору тоже исчезают, так что можно в полной мере наслаждаться жизнью и природой, отдыхая от всех летних тягот.
В смысле атмосферных осадков на Парагвай жаловаться нельзя. Продолжительные засухи тут бывают редко, а дожди, как правило, идут с промежутками в неделю-полторы (зимою чаще, чем летом) и обычно сопровождаются страшными тропическими грозами. Молнии беспрерывно рассекают небо во всех направлениях и отдельных раскатов грома вы не различаете, они сливаются в сплошной грохот и гул, который длится иногда несколько часов, не прекращаясь ни на секунду.
Во всем этом, вопреки уверениям колонизаторов, сходства с Украиной довольно мало. Но климат здесь здоровый. Ни малярии, ни лихорадок, ни иных свойственных тропикам болезней нет, и даже грипп или простуда тут явления гораздо более редкие, чем в Европе.
Следует, однако, отметить влияние жары на психику. Обычно людьми, приезжающими сюда из умеренного климата, овладевает несвойственная им прежде апатия и вялость, все валится из рук, любую, даже самую незначительную работу, особенно умственную, хочется отложить «на потом», и иной раз требуется большое усилие воли, чтобы взять себя в руки. Вероятно все это тоже относится к явлениям акклиматизации, но многие остаются как бы выбитыми из колеи надолго, а некоторые навсегда. И во всяком случае темпы работы, как физической, так и умственной, тут не могут идти в сравнение с европейскими.