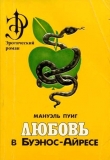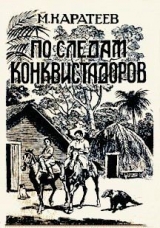
Текст книги "По следам конквистадоров"
Автор книги: Михаил Каратеев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
Колхоз и диктатура
Работа наша была тяжела, условия жизни до предела примитивны, перспективы достаточно безрадостны. Но со всем этим можно было примириться и даже значительно улучшить свой быт, если бы не наша диктаториально-колхозная организация, которая была хороша в теории, но на практике сразу же приобрела уродливые и губительные для общего дела формы.
Она свелась к полному подавлению всякой частной инициативы и психологически превратила нас в батраков, которые, не рассуждая, должны делать то, что велит хозяин, и не имели никакой возможности осуществить что-либо из области своих собственных планов и желаний, казалось бы, вполне естественных и легко исполнимых без всякого ущерба для коллектива.
Керманов не учитывал самого главного фактора, который только и мог удержать на общей орбите и в данной обстановке таких людей как мы, а именно: внутреннего, часто даже подсознательного стремления человека создать что-то свое, пусть ничтожно маленькое, но собственное, над чем он мог бы чувствовать себя неоспоримым хозяином и что в какой-то мере украшало бы его жизнь, или хотя бы примиряло с ней.
Все мы в конечном счете бежали из Европы от своего бесправия и от сознания того, что целиком зависим от множества внешних обстоятельств, каждое из которых в любой момент может обернуться против нас и оставить без куска хлеба. В течение многих лет каждый засыпал с мыслью о том, что завтра может лишиться работы, а затем и квартиры, и деваться будет некуда, ибо ничего своего нет, даже дерева над головой, из-под которого не выгнал бы полицейский. И вот именно это желание обрести что-то свое, избавляющее от чувства постоянной зависимости, привело нас в Парагвай.
А на деле оказалось, что у каждого отдельного лица и тут ничего своего не было. Собственником никто себя чувствовать не мог и всякое стремление к какой-либо собственности встречало открытое противодействие диктатора, если даже дело шло о самых простых и естественных вещах, казалось бы, заслуживающих не только одобрения, но и помощи.
Прежде всего, это касалось жилых помещений. Впустив нас под купленные навесы, Керманов жилищным вопросом больше не интересовался и о постройке обещанного дома думал меньше всего. Но если такое положение было терпимо для холостых, то у семейных дело обстояло иначе: они жили в страшной тесноте, по две-три семьи вместе, не говоря уже о том, что приближалась зима с ее холодными ночами, и родители беспокоились о детях.
Первыми решились построить себе какую-нибудь отдельную хибарку Приваловы, так как в «клетке» на девяти квадратных метрах ютилось пять человек, принадлежавших к трем различным семьям, и для того, чтобы совершенно уподобить их сардинкам, оставалось только полить сверху маслом. При таких обстоятельствах следовало всячески приветствовать идею Привалова и всемерно облегчить ее осуществление, но Керманов сделал как раз обратное и постарался его всеми способами затруднить. Прежде всего, не давал для этой крохотной постройки места: где бы Привалов его не выбрал, у него неизменно находился какой-нибудь предлог для отказа. Один из этих предлогов я запомнил: «Здесь слишком близко от дороги, ваша хата будет пугать лошадей и волов».
Наконец место было дано где-то в зарослях бурьяна, и Привалов получил разрешение строиться, но на таких условиях: работать только в свободное от общественных работ время, не пользоваться никакими принадлежащими колонии материалами, не просить колхозных перевозочных средств или какой либо помощи в работе и дать обязательство снести свое жилище по первому требованию диктатора, если это место ему понадобиться для чего-нибудь другого.
При таких предпосылках, Привалов должен был, конечно, ограничиться постройкой самой примитивной и маленькой хатенки, которая не требовала ни затрат, ни большого труда. Работая по праздникам и в часы сиесты, с полуконтрабандной помощью одного-двух друзей он ее в течение месяца выстроил.
Но когда на таких же условиях и я решил построить для своей семьи отдельный домик, уже более основательный, дело обернулось значительно хуже: Керманов наотрез отказался дать мне место на территории колонии и предложил строиться за ее оградой, на казенной земле.
Видя, что всякие споры бесполезны, я с помощью Флейшера, в свободное время расчистил себе полгектара леса рядом с семейной чакрой, а все необходимые для постройки материалы купил в Велене. Но еще раньше, чем мне их доставили, диктатор отправил меня с каким-то поручением в Концепсион, и едва я уехал, приказал вырубить на моем участке все оставленные мною для тени деревья, мотивируя это распоряжение тем, что колонии нужны дрова, а участок еще не огорожен, значит по закону он «ничей». К счастью поблизости оказался Флейшер, который энергично вмешался в дело и спас деревья. Но это было только начало. Если бы я стал перечислять все придирки, каверзы и помехи, которые мне были сделаны в дальнейшем, чтобы затруднить работу по постройке, пришлось бы писать отдельную главу. Скажу только, что этого дома мне так и не удалось достроить.
Не лучше было и с частными лошадьми. Казалось бы, какой коллективу вред от того, что человек на собственные деньги купил себе коня и ездит на нем в свободное время, а нередко исполняет и общественные поручения? Но, тем не менее, эти несчастные лошади вызывали бесчисленные нарекания и придирки. Было строжайше запрещено кормить их не только колхозной кукурузой или маниокой, но даже никому ненужными листьями этих растений. Более того: когда я попросил продавать мне общественную кукурузу (из которой, между прочим, на пай моей семьи приходилось около полутора тонн), мне в этом было отказано и я покупал ее для своих лошадей у соседей, также как и другие «частники».
Заведет себе какая-нибудь семья несколько собственных кур, и начинается та же история: диктатор ворчит, что эти куры всем мешают, выклевывают общественные плантации, разводят грязь, словом, нападкам на них нет конца. И не дай Бог бросить им горсть общественного зерна! А для чего было так свирепо оберегать это зерно и какую пользу от него получил коллектив, читатель увидит из следующей главы.
Таким образом, именно то, о чем мечтали люди и ради чего сюда ехали, стало служить источником постоянных неприятностей и огорчений. И выходило так, что мы просто переменили хозяина, причем прежний, европейский хозяин-работодатель в нашу частную жизнь не вмешивался, а тут и она попала под контроль. Оставалось только тянуть скучную лямку, выходя на ту работу, которую укажут свыше и не имея ни права, ни возможности внести в нее что-нибудь от своего разума, ибо инициатива могла исходить только от диктатора. Разумеется, при такой постановке дела, от какого-либо энтузиазма или хотя бы усердия в работе вскоре не осталось и следа. Каждый чувствовал себя не хозяином, а батраком и отбывал положенные часы с таким же нудным ожиданием вечернего отбоя, как на любой европейской фабрике.
Но не зависимо от этого рабочих рук в колонии не хватало, так как помимо полевых работ и ухода за плантациями, мы одновременно проводили дороги, заготовляли лесные материалы и строили всевозможные хозяйственные постройки. В связи с этим Керманов сразу же начал хлопоты о предоставлении нам группы военнопленных боливийцев, которых в Парагвае было множество. По этому поводу долго тянулись переговоры с военными властями и все уже думали, что ничего из этого не выйдет. Но однажды мы с Флейшером поехали по делам в Концепсион и тут нам неожиданно сообщили, что шестеро боливийцев находятся в нашем распоряжении и их можно сегодня же забрать, выполнив в комендатуре положенные формальности. Они заключались в том, что комендант предложил мне подписать документ, в котором было сказано, что пленные выдаются на мою полную ответственность: в будущем я отвечаю за все, что они могут натворить, а в случае их побега мое имущество подлежит конфискации, а сам я предстаю перед военным судом.
Хотя комендант и уверял меня, что ни один боливиец не убежит и потому бояться мне нечего, я все же усомнился в их добродетелях и этого документа не подписал.
Позже я узнал, что пленные действительно из Парагвая никогда не бежали, по той простой причине, что здесь им жилось лучше, чем дома. Население Боливии почти на девяносто процентов состоит из индейцев и полуиндейцев, которых правящая белая верхушка держала в то время в нищете и бесправии, поэтому у них не было особого желания сражаться за нефтяные интересы этой верхушки и они массами сдавались в плен. Парагвайцы к ним относились хорошо, и это привело к историческому курьезу: когда Парагвай выиграл войну по мирному договору Боливия должна была уплатить ему семь миллионов долларов за содержание пленных боливийцев, но предварительно она требовала этих пленных обратно, а большинство из них возвращаться на родину не хотели. С трудом их спровадили чуть ли не силой, пообещав принять потом желающих обратно.
Но в тот день, когда мне предложили взять пленных, я ничего подобного не подозревал и мне казалось вполне закономерным, что они при первой же возможности попытаются сбежать, а это легко можно было сделать и из колонии, и по пути туда. Нам предстояло возвращаться ночью поездом, через сплошной лес: достаточно было выпрыгнуть из вагона и пиши пропало! А парагвайские вагоны… Впрочем, вся наша железная дорога, в целом заслуживает того, чтобы посвятить ей несколько отдельных строк.
Протяжением она была около семидесяти километров и поезда по ней ходили два раза в неделю, по вторникам отправляясь из Концепсиона утром и возвращаясь ночью, а по пятницам наоборот. Путь в каждый конец занимал часов шесть-семь, так как поезд останавливался возле многих чакр, принимая грузы, а нередко по полчаса и больше ожидал где-нибудь в лесу запоздавшего эстансиеро, который заранее сообщил, что в этом месте сядет на поезд. Кроме того, любой прохожий где угодно мог остановить его простым поднятием руки, машинист тормозил, пассажира подбирали и кондуктор продавал ему билет. Очень часто состав приходилось останавливать, чтобы прогнать улегшихся на пути коров или оттащить в сторону упавшее на рельсы дерево. Если оно было толстым и тяжелым, кондуктор выдавал пассажирам пилу и топоры, и они его разделывали на куски. Таким образом, все зависело от подобных случайностей и расписание существовало только в теории.
Путешествовать в таком поезде было не весьма приятно и по другим причинам: вагоны были открытого типа, без боковых стенок, а паровозик «кукушка» отапливался дровами, из его трубы каскадами сыпались искры, прожигая пассажирам костюмы, не говоря уж о том, что их густо покрывала кирпично-красная пыль. В силу этого, надо было надевать в дорогу какое-нибудь старье, а с собою везти в чемоданчике приличный костюм, чтобы переодеться в Концепсионе, что обычно делалось прямо на вокзале. Приблизительно так же в те годы обстояло дело и на всех других железнодорожных линиях Парагвая, да и сейчас, кажется, немногим лучше.
Когда, возвратившись в колонию, я рассказал Керманову все что касалось пленных, он долго громил меня за то, что я их не привез, но сам за ними не поехал и на том дело кончилось.
Конец иллюзиям
Текло время и по мере того как приближался к концу первый год существования нашей колонии, ее полная нежизнеспособность выявлялась с возрастающей очевидностью.
Больше всего надежд у нас возлагалось на хлопок, который в Парагвае считается самой доходной культурой и к тому же единственной, которую где угодно можно продать на месте. Чтобы читатель яснее себе представил, каких благ мы могли ожидать от своего хлопка, приведу немного цифровых данных. Отличным урожаем тут считается 1200 кг ваты с гектара. Наши растения были уже стары, надлежащего ухода за ними тоже не было и мы снимали с гектара всего по 700–800 кг, таким образом вся наша хлопковая плантация (8 гектаров) дала около 6 000 кг. Вдобавок эта вата была далеко не первосортна, так как ее подпортили дожди и вредители.
Не лучше обстояло дело и с ценами. Колонизаторы нас уверяли, что в Парагвае на хлопок существует твердая, декретированная правительством цена: 28 пезо за килограмм ваты первого качества. На месте мы от соседей узнали, что о такой цене никогда и слышно не было, но она ежегодно меняется и есть надежда, что нынешний урожай можно будет продать хорошо, по 17–18 пезо. Однако эти предположения не оправдались: вскоре была опубликована официальная цена – 12 пезо за килограмм, но и это оказалось лишь теорией, а на практике скупщики платили не больше десяти за самую лучшую вату, за нашу же предложили по четыре. Иными словами, за весь свой урожай мы могли получить 24.000 пезо. При дележе на сорок участников, это давало 600 пезо (менее полутора долларов) на пай.
Отдать хлопок по этой цене Керманов отказался. Его сложили под навес и несколько человек, еще оставшиеся в колонии, дождавшись неурожайного года, продали его впоследствии по восемь пезо.
Предположим теперь, что мы засеяли хлопком, как самой выгодной культурой, всю свою расчищенную территорию, т. е. 30 гектаров. Допустим далее, что судьба бы к нам благоволила и мы, получая максимальный урожай, 1200 кг с гектара, продавали бы его по самой высокой из реально существующих цен, т. е. по 10 пезо за 1 кг. В совокупности этих предельно благоприятных предпосылок вышло бы по 9 000 пезо на пай, т. е. 20 долларов на человека за год каторжного труда. С прохладцей работая в Асунсионе простым рабочим восемь часов в день, можно было заработать втрое или вчетверо больше, живя к тому же в культурных условиях.
Второю по важности культурой была у нас кукуруза, ее мы имели около десяти гектаров. Уродилась она отлично и дала нам примерно 30 тонн зерна. В Концепсионе цена на нее была установлена 2,5 пезо за килограмм, но когда мы попробовали продать свою, никто не давал больше одного пезо. К тому же надо было самим доставить кукурузу в город, а при наших транспортных средствах и состоянии местных дорог, перевозка 30 т заняла бы около года. Легче было отправить железной дорогой, но для этого надо было ссыпать зерно в мешки. Их стоимость и оплата перевозки полностью поглощали заработок. И в результате кукуруза у нас осталась непроданной. Небольшую часть ее скормили скоту, а остальное помаленьку доедали черви.
Также обстояло дело и с земляными орехами. В Концепсионе давали по 2,5 пезо за килограмм, это было втрое ниже официальной цены, а с доставкой орехов в город возникали те же трудности, что и с кукурузой. Выдавить из них масло было невозможно без дорогостоящего оборудования, о приобретении которого мы не могли и мечтать. Короче говоря, наши орехи тоже пошли на пользу лишь крысам, которые пожирали их с упоением, тогда как нам самим строжайше запрещалось их есть.
Было у нас еще восемь гектаров маниоки. Ее вообще нельзя было продать: поблизости у каждого была своя, а перевозки этот продукт не выдерживает. В земле клубни сохраняются около двух лет, но как только их выкопали, надо немедленно пускать в дело, так как несколько дней спустя в них начинают вырабатываться ядовитые вещества и они портятся.
Однако из этого положения существовал разумный выход: можно было на месте перерабатывать маниоку в крахмал и этим тут занималась почти каждая крестьянская семья, ибо производство крайне несложно и все необходимое оборудование легко сделать самим. А за килограмм крахмала в Концепсионе платили не меньше восьми пезо. Приведу и тут немного цифровых данных: гектар маниоки дает до десяти тонн клубней. Для внутренних потребностей колонии этого было вполне достаточно, а остальные 70 тонн могли дать нам, как минимум – с учетом всяких потерь – 14 тонн чистого крахмала, или 112 000 пезо, т, е, почти впятеро больше, чем нам предлагали за хлопок.
Сделав этот несложный расчет, я настойчиво советовал Керманову заняться крахмалом. Меня поддержали и многие другие. Диктатор советов не любил, но выгода была настолько очевидна, что он сейчас же приказал сделать в нашей мастерской все нужное оборудование. Оно было сделано, но осталось без применения, его даже не испробовали на практике, так как к тому времени Керманов уже увлекся идеей производства сыра. Таково было свойство его характера, он бросался с одного на другое и ничего до конца не доводил.
После сыра, из которого ничего не вышло, он схватился за производство сливочного масла. Немедленно был куплен сепаратор и сделана ручная маслобойка, но оказалось, что масло некому продавать. Затем последовало новое увлечение: производство ароматических эссенций. Был куплен перегонный куб, совершенно для этого не подходящий, его собирались переделать, но диктатор внезапно загорелся идеей приобретения пресса для производства патоки из сахарного тростника, а перегонный куб стали употреблять вместо табуретки. На пресс у нас денег уже не хватало, а то и его бы, вероятно, постигла подобная участь. В окрестностях у одного крестьянина такой пресс был и всем соседям он выдавливал патоку от половины. Выдавил и нам. Ее тоже не продали, а съели сами, когда сахар стал не по карману.
Остается сказать несколько слов о табаке. В Парагвае выращиваются только черные сорта и есть районы, где это дело поставлено хорошо. Но в наших краях его вели совершенно по-варварски: листьям давали вырасти до максимума и когда они достигали полутора метров длиной, их срывали, минуя все промежуточные процессы высушивали на солнце, а затем превращали в самодельные сигары. Продать такой табак нечего было и думать, и сеяли его тут исключительно для собственного потребления. Сигары умеет крутить любая парагвайская крестьянка, одна из соседок накрутила из нашего табака и нам, за труд взявши себе половину. Эти сигары были отвратительны, но когда не стало денег на покупку сигарет, мы их все же выкурили.
Итак, к концу года с трагической очевидностью выяснилось, что из своего урожая мы ничего продать не можем, и труд наш, по существу, оказался напрасным. Однако Керманов еще бодрился. Теперь его осенила новая идея, от которой он ожидал спасения: купить несколько километров проволоки и, загородив тридцать или сорок гектаров Красной Кампы, посеять там хлопок – единственную культуру, которую тут все же можно было продавать, хотя бы по явно заниженной цене. Однако и это было уже неосуществимо, так как на проволоку не осталось денег.
Теперь, отбросив мечты об обещанном колонизаторами благосостоянии, никто не надеялся даже на возможность какого-либо денежного заработка. Вопрос ставился лишь в такой плоскости: можно ли будет как-то просуществовать в колонии, когда ее касса окончательно опустеет?
Большинство считало, что нет. Прокормиться тем, что мы сами производили, было, пожалуй, возможно, хотя такой стол был бы предельно скромен: маниока, кукуруза, изредка яйца и курятина, на десерт земляные орехи и фрукты, кое-что могло вырасти и на огороде. Вместо сахара можно было употреблять патоку, вместо чая можно было заваривать какую-нибудь травку, курить самодельные сигары, освещаться костром, изредка обменять мешок земляных орехов на пару литров постного масла, словом подлинного голода можно было не бояться. Но какие-то деньги все же были необходимы хотя бы на одежду и на обувь, которые в парагвайских условиях изнашивались невероятно быстро. И в этом смысле наша колония находилась в положении неизмеримо худшем, чем самое бедное парагвайское хозяйство. Если крестьянину «единоличнику» понадобилось приобрести штаны, он может отвезти в город сотню яиц, пару кур, мешка два орехов, и продав это на базаре, хотя бы по-дешевке, сделать необходимую покупку. Но когда штаны нужны сорока человекам, таким путем из положения не выйдешь, ибо по существу наша колония была таким же бедным хозяйством, как все соседние, а потребностей у нее было неизмеримо больше.
В будущем мог немного выручить хлопок, но чтобы дождаться возможности продать его за приемлемую цену, необходимо было сохранить хотя бы маленький резервный капитал, а у нас, в чаяньи крупных барышей от продажи первого урожая, деньги тратились легкомысленно, щедро и непроизводительно, примеры чего я уже приводил. Приведу и еще один: имея полную возможность в основном питаться продуктами собственного производства, прикупая лишь самое необходимое – колония только за три первые месяца истратила на свое довольствие 60,000 пезо наличными, т. е. более того что стоили все три купленные нами чакры.
Когда в нашей колхозной кассе уже проглядывало дно и вместе с тем стало очевидным, что надеяться больше не на что, общее собрание постановило на каждого члена колонии сохранить в неприкосновенности сумму, равную стоимости проезда до Асунсиона. Для многих это послужило спасением.