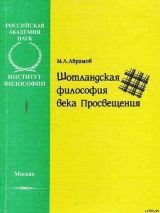
Текст книги "Шотландская философия века Просвещения"
Автор книги: Михаил Абрамов
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Демократия признается Хатчесоном наиболее верной общественным интересам формой правления, но и она без сдерживающего контроля со стороны сената или мудрого правителя не будет гарантией принятия взвешенных решений, единства и сохранности государственных тайн.
Лучшим собранием в смешанной форме правления будет, по мнению Хатчесона, ассамблея депутатов или представителей, избранных пропорционально и честно на следующих условиях: они должны представлять соответствующее количество населения и их богатства в отдельных районах. При этом необходимо исключить коррупцию, распространенную в небольших городках и бедных районах, которые дают непропорциональное число представителей по сравнению с той долей, которую они вносят в общественное богатство, т. е. устранить «гнилые местечки».
Все сенаты, ассамблеи и советы должны избираться на определенных условиях. Ротация для всех них весьма полезна, сменяя треть или четверть каждый год или раз в два года. Также на определенный срок избираются магистраты.
Во всех вопросах такого рода лучшими авторитетами Хатчесон считает Аристотеля и Гаррингтона.
Следуя Локку, автор Системы моральной философии признает право на сопротивление во всех моделях власти (213.В.3, 270. Ср. 50. кн. I. гл. IV, VII–XIV. Гроций признает это право при нарушениях соглашения о разделении власти и в других случаях).
Но даже и при абсолютном правлении обе стороны единственной целью должны признать процветание и безопасность целого и частей, и если власть руководствуется другими целями, вследствие глупости или порочности властителей, то подданные имеют право на сопротивление, так как их доверие подорвано. Хатчесон выступает против легитимности абсолютной власти. Утверждение никем и ничем неограниченной власти противоречит тому, что такие правители также являются субъектами закона Бога и Природы и, даже получив власть, должны способствовать общему благу, отклонение от этой цели ставит их вне божественного и природного закона. Хатчесон не решается отрицать прецедент абсолютной власти, но у него не хватает духу признать изначальную нелегитимность абсолютизма и с точки зрения Божественного закона, и с позиции естественного права. Эта нерешительность ослабляет его тезис о праве на сопротивление. Восстание допустимо в ответ на ущемление общего, а затем и частного блага, т. е. мотив чисто утилитарный. Вместе с тем он критикует доктрины, дающие лицензии правителям на угнетение народа, ибо они противоречат природе и здравому смыслу, оправдывая тиранию и насилие. Тут уже мотив сопротивления правителям и их прислужникам – церковникам, которые держали народ в неведении о правах человека, естественные понятия политики были вытравлены из сознания людей и заменены спутанными представлениями о божественности монарха. Не удивительно, что миллионы людей считали себя собственностью одного из своих соотечественников. Именно это позволяло многим ученым вроде Р. Филмера без всякого стыда говорить о патримониальных и деспотических царствах, как соответствующих Божьему закону.
Тут Хатчесон уже ничего не говорит об общем благе, а прямо взывает к свободе и естественной и гражданской, попранной в таких царствах. Естественная свобода есть «право каждого лица действовать согласно с его собственными склонностями в рамках законов природы». Гражданская свобода есть «право действовать так, как лицо считает сообразным с его склонностями в пределах гражданского закона, так же как и законов природы» (213.B.3, 281). Таким образом обе свободы тождественны, обе являются ненасильственными детерминациями внутренних склонностей, отправление которых контролируется самим лицом и которое ответственно за последствия своего действия или бездействия. Нормальные гражданские законы соответствуют природным и служат надежной защитой свободе.
Тут возобновляется полемика с Гоббсом. Тот считал, что ни один природный закон не ограничивает законы социальные и нормы; правила и запреты целиком зависят от воли законодателей или правителей. Но тогда содержание гражданских законов определялось бы теми, у кого больше силы и власти. В таком случае не могло бы существовать неписаное право, защищающее от нанесения вреда и гарантирующего безопасность тела и сохранность имущества. Весь этот пассаж напоминает полемику Сократа и Калликла в платоновском «Горгии». И мало чего к нему прибавляет, поскольку Хатчесон не разрабатывал метафизические основания свободы, и потому ему нечем возразить на отрицание неписаного права Гоббсом, к тому же оба – детерминисты.
Ему остается описывать социальный феномен гражданской свободы и риторически спрашивать, кого называть свободным гражданином? О ком можно сказать, что он действует свободно? Свободен ли тот, кто действует добровольно, полагаясь на мудрость и добрые намерения руководителя? И, как не странно, автор СМФ поднимает ставшую весьма актуальной (спустя лет двести) тему. В обществе, где установлена строжайшая дисциплина и регулируется манера поведения народа и люди подвергаются исправительным наказаниям, если поступают не так, как предписано законом, все-таки остается необходимая свобода, о которой говорил Гоббс (отчего некоторые ученые в наше время причисляют его к либералам).
Подлинно свободным, констатирует Хатчесон, можно назвать только такой народ, интересы которого надежно гарантированы против любых прихотей и капризов людей, стоящих у власти. Сравним современное наблюдение И. Берлина в эссе «Две концепции свободы» – «… триумф деспотизма состоит в том, чтобы заставить рабов объявить себя свободными» (108, 36).
Вот в чем заключается гражданская свобода по Хатчесону – в повиновении легальным законам, совпадающим с естественным правом, дарованным Богом. Это почти буквальное воспроизведение локковской позиции, хотя этическая доктрина морального чувства не предусматривает стимуляторов добродетели в виде наказаний и наград.
Как и во всех прочих случаях Хатчесон исходит из примата Общего (Целого) и ставит среди мотивов поведения на первое место соображения общего интереса, а не частного блага.
Это относится и к условиям легализации верховной власти, она должна быть освящена не божественным соизволением, а согласием или добровольным актом всего народа. Этим шотландский просветитель «реабилитирует» дохристианские античные демократические формы правления. Никакая ветвь власти, полученная иным способом, не обладает супрематией и достоинством. Тирада предвосхищает дифирамбы народовластию Руссо. Легкомысленно, указывает Хатчесон, исследовать степени божественности, присущие тем или иным формам власти. Божественно то, что способствует общему благу, благу общества в целом. Превращение Бога в «общественника», радеющего за благо человеческого общества вообще (каждый за себя, один Бог за всех!), учитывая отсутствие в Библии предписаний в отношении предпочтительности каких-то форм правления, напоминает деистические пассажи Э. Герберта и при всем просветительском антиклерикальном пафосе имеет свою оборотную сторону, как и учение об общей воли у Руссо. Воля индивида растворяется в общей воле и, отпадая от нее, становится социально незначима, если не опасна. Скрытая тирания общей цели сжато выражена в максиме: закон природы требует делать то, что наиболее благоприятствует человечеству.
У Канта вместо безличного «требует» императив адресован к первому лицу – «поступай так, чтобы максима твоей воли…».
Хатчесону в его эпоху с ее «разгулом» коммерции и упадком нравов казалось, что беспринципный, то бишь безбожный, индивидуализм представляет реальную опасность для общества, особенно если получит в свое распоряжение власть, но, видимо, он не очень-то боялся осуществления этой угрозы, по крайней мере в Великобритании. Главенство чувства над разумом в духовной жизни человека ставит проблему контроля над субъективизмом, и тут Хатчесон может надеяться только на «Божью помощь» и, видимо, он всерьез рассчитывал на нее.
Верный стратегической цели воссоздания Замысла, должного образа человечества и его общественной жизни, Хатчесон, завершая труд, обсуждает вопрос, насколько религия может контролировать гражданскую власть. Тема обоюдоострая – нельзя впасть в апологетику папизма и в то же время нельзя потворствовать этатизму Гоббса, полностью подчинившего государству религиозный культ, да еще ссылавшегося на опыт Генриха VIII, короля Англии, отложившегося от папской Церкви.
Тут шотландский просветитель развертывает широкую программу светского воспитания в людях добродетельных качеств, служащих общему благу и счастью людей. Это отвращение от пороков и необузданных страстей путем светского воспитания. Тут и культивирование общественных чувств и склонностей с целью победы над страстями, словом укрепление истинных принципов добродетели, в том числе благочестия в отношении Бога путем честных и эффективных методов.
Такая глобальная программа номинально совпадает с платоновско-аристотелевским пониманием функции государства – воспитания добродетельных людей. Но понимание добродетели, видимо, отличается, и это доказывает хотя бы то, что Хатчесон резко критиковал проект идеального государства Платона. К срединным добродетелям Аристотеля у него более благожелательное отношение, поскольку он, как и Стагирит, акцент ставит на спокойных, т. е. умеренных, желаниях.
Но, коль скоро был поставлен вопрос о отношениях государства и религии, нельзя отворачиваться от проблемы веротерпимости в государстве. Гоббс ее начисто отрицает, для Хатчесона это одно из ценнейших завоеваний революции. Никакая власть не властна над мнениями людей. Также недопустимо препятствовать обнародованию этих мнений, какими бы ложными они не считались властями. Впрочем, оговорка «если мнения не вредят обществу» (213.В.3, 316) создает удобную возможность произвола. Шотландский моралист имел в виду исключение, которое Локк сделал для нетерпимых сект, а именно, папистов и атеистов, которые придя, к власти, покончат со всякой веротерпимостью и свободой совести и нанесут огромный урон обществу. Хатчесон приводит весьма острый пример предрассудков и бешенства религиозных распрей. В глазах ортодоксов ариане и социниане – идолопоклонники и отрицатели Бога. Ортодоксы в глазах ариан – тритеисты. Каждая из этих сект признает доброту Господню и не призывает предаваться порокам, но отстаивает право на преследование инакомыслящих.
Главной добродетелью в государстве должно быть ненасильственное благочестие. Таково последнее слово Хатчесона. Локально распространенное христианство изображается повсеместно распространенным и принятым. «Человечеству остается только изумляться и благодарить неизреченную мудрость Господню, явленную в общем и частном праве, которыми пользуются индивиды и целые народы и действительная история человечества дает нам хороший урок смирения и доверия к провидению. Будем же доверять Ему и творить добро по Его примеру…» (213.В.3, 380). Так кончается книга, написанная философом, жившим в весьма благополучные времена в пробуждающейся от спячки стране.
Творчество Ф. Хатчесона – первое теоретическое выражение опыта начавшихся в Шотландии социальных и экономических реформ, спроецированного на разработку учения о природе человека, который стал главной действующей причиной начавшихся преобразований в стране. Взяв за основу локковскую гносеологию и его политическое учение, Хатчесон развил оригинальную систему философской антропологии, сердцевиной которой являлась натуралистическая теория внутренних чувств. Сама эта теория и ее политологические аппликации послужили базой последующего оригинального развития шотландской философской мысли. Деистические отступления от натурализма в метаэтике были также учтены младшими современниками и продолжателями Хатчесона Юмом, Смитом и Фергюсоном.
В конце 1739 г. Хатчесон получил объемистую рукопись книги «О морали», завершающую «Трактат о человеческой природе». С ее молодым автором, эсквайром, завязалась переписка, после того как Хатчесон послал свой отзыв на книгу. Корреспондент профессора, совершенно не тушуясь, обсуждал замечания мэтра, например, о недостатке сердечной теплоты в рассуждении о добродетели и даже просветил профессора в вопросе о жанровых отличиях возможных подходов к изучению духа и тела. Их можно изучать в качестве анатома и художника. Тот и другой могут быть полезны друг другу, но как их совместить? Впрочем, можно признать, что метафизика может быть весьма полезна моралисту. «Теплая» моралистика представляется автору «О морали» разновидностью декламации абстрактных рассуждений. Она претит хорошему вкусу (см.: 196.I, 32).
Свое рассуждение молодой автор вставил в конец книги о морали. Но все это были только цветочки. Далее неугомонный моралист пишет: «Я не согласен с Вашим пониманием естественного (natural). Оно основано на конечной причине, что представляется мне весьма сомнительным и нефилософским. Но, помилуйте, каково предназначение человека? Создан ли он для счастья или для добродетели? Для этой жизни или для будущей, для себя или для Творца? Ваше определение естественного зависит от решения этих вопросов, которые бесконечны и совершенно не отвечают моим намерениям». Далее эсквайр обещает исправить все отмеченные Хатчесоном пассажи, сделав их более лояльными к религии. Письмо, как и последующие два, связанные с выходом в свет III книги «Трактата о человеческой природе», видимо, произвели впечатление. У Хатчесона сложилось мнение об авторе, как о не вполне благоразумном человеке. Через несколько лет теоретик благожелательности предпринял некоторые шаги, чтобы воспрепятствовать получению молодым человеком, которого звали Давид Юм, кафедры в Эдинбургском университете. Впрочем, попытка Юма получить кафедру уже в университете Глазго после смерти Хатчесона также окончилась неудачей.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ДАВИД ЮМ: УЧЕНИЕ О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА
1. Методологические установки и экспозиция
Молодой корреспондент Хатчесона был уже искушенным исследователем. Он уже успел написать и сжечь рукопись о религии, о вере и неверии. В одном из своих ранних писем Юм сообщает об открывшейся ему новой сцене мысли, что обычно толкуют как возможность применения ньютоновского, основанного на опыте метода рассуждения к моральным предметам (см.: 87; 96; 97; 252; ср. 269). В первой главе I части Книги «О морали» говорится об открытии в этике столь же значительном, что и соответствующее открытие в физике (см.: 131.I, 510), которое заключается в том, что порок и добродетель являются не качествами объектов, но перцепциями нашего духа (точнее было бы сказать оценками. (М.А.), что также можно истолковать, как характеристику новой сцены мысли. Но, видимо, Юм не считал себя первооткрывателем, поскольку упоминает некоторых предшественников – м-ра Локка, милорда Шефтсбери, д-ра Мандевиля, м-ра Хатчинсона,[13]13
Несомненная опечатка, следует читать «Хатчесон». Странно, что при цитировании сноски в «Абстракте», в издании которого Хатчесон предлагал свою помощь, опечатка сохранилась. Порядка для заметим, что был такой теолог по имени Джон Хатчинсон (1674–1737). Он учил, что Библия содержит элементы не только истинной религии, но и всей рационалистической философии. Его последователи называли себя хатчинсонианцами. Сочинения его изданы в 12 томах в 1748 г.
[Закрыть] д-ра Батлера (218) и др. (131.I, 51 прим.), которые начали основывать науку о человеке на новом фундаменте. Новый фундамент – экспериментальная наука (заложен Бэконом и Ньютоном, предвидевшим приложение своих методов к моральным наукам (3; 163; 202; 203; 217; 248; 273).
Автор «Трактата о человеческой природе» следующим образом формулирует существо своей методологии: заранее ограничить свое исследование явлениями, не строя никаких гипотез о сущности духа – она нам так же неизвестна, как и сущность внешних тел. Составлять представление о силах и качествах духа не иначе как с помощью тщательных и точных экспериментов и наблюдений над теми особыми действиями, которые являются результатами различных обстоятельств. Стремиться к установлению всеобщих принципов, насколько возможно доводя эксперименты до крайних пределов и объясняя все действия из самых простых и немногочисленных причин, вместе с тем не претендуя на открытие наиболее первичных качеств человеческой природы. Согласно этой вполне ньютонианской методологической программы снимается с обсуждения декартовский дуализм человеческой природы, как лежащий вне сферы доступного опыта и наблюдения.
Эта невозможность объяснения первых начал свойственна и всем другим наукам и искусствам. Ни одна наука не может выходить за пределы опыта, устанавливать какие-либо принципы, которые не были бы основаны на авторитете последнего (131.I, 58). И здесь Юм делает важное замечание о дополнительных трудностях, ожидающих исследователя моральной философии. Дело в том, что интроспекция не может пользоваться приемами естественных наук, изучающих, к примеру, действие одного тела на другое, что позволяет воспроизводить эксперимент требуемое число раз. В моральной же философии попытка возобновить условия опыта для разрешения сомнений, будучи связанной с рефлексией и предумышленностью, настолько нарушит действие естественных принципов, что вывести какое-либо правильное заключение из рассматриваемого явления станет невозможным (131.I, 59). Признание неустранимого воздействия субъекта на собственные интроспективные изыскания – важный момент, который впоследствии будет распространен на все познание в целом, а его воздействие на исследования самого автора будет продемонстрировано в последней части первой книги Трактата.[14]14
См. ниже 4 Философия как копье Ахиллеса.
[Закрыть]
Все же тщательным подбором опытов и прилежным наблюдением над фактами обыденной жизни, поведением людей в обществе Юм надеется учредить науку, которая не будет уступать в достоверности всякой другой науке, доступной человеческому познанию и намного превзойдет ее по полезности (там же).
Заявка очень серьезная. Юм надеется открыть униформные принципы и правила функционирования человеческого духа. Эта задача окажется еще более важной, когда выяснится, что все науки, даже математика, естественная философия и естественная религия в известной мере зависят от науки о человеке, поскольку они являются предметом познания людей и последние судят о них с помощью своих сил и способностей (131.I, 56. См.: 142; 154).
Это напоминание о «человеческом, слишком человеческом» характере нашего познания, и предваряет конкретное выяснение степени обусловленности содержания и формы наук человеческой природой, которое предстоит выяснить в ходе исследования.
Выделяя решающие направления поиска, Юм называет наиболее важные науки, в которых содержится все, что нам важно знать, равно как и то, что может способствовать усовершенствованию или украшению человеческого ума (131.I, 56). Анализ этих предметов и образует структуру Трактата. Это – Логика Книга I. Логика объясняет принципы и операции нашей способности рассуждения, а также природу наших идей (141; 183). Этика (156; 176; 184; 190; 221; 230; 239; 241; 242; 265; 273) и критицизм (эстетика) (159; 120), касающиеся наших вкусов и чувств – Книга II и 1 часть Книги III. Политика – Книга III, 2 часть – наука, рассматривающая людей, объединенных в общество и зависимых друг от друга (см.: 158; 166; 184; 273). Центром или столицей этих наук является человеческая природа, которую молодому философу предстоит взять приступом. Овладев столицей, можно будет расширить свое завоевание на все остальные области человеческого знания.
Анонсируя свое первое произведение, автор несколько полнее обозначил предметы своего исследования: познание, аффекты (психология), мораль, политика, вкус.
Юм еще раз подчеркивает, что объяснить принципы человеческой природы можно только на основе данных опыта и наблюдения.
Тут надо заметить, что в дополнение к заявленной приверженности к натуралистическим методам Юм придерживается по крайней мере двух установок, не артикулируемых до поры до времени, но без которых воссоздание целостной картины человеческой природы немыслимо.
Первая позитивная установка предполагает, что человеческая природа формально одинакова у всех разумных субъектов, операционное единообразие элементов устройства человеческого духа, так же как и тела, обеспечивается универсальным принципом детерминизма как стихийной обусловленности всех действий в физическом и ментальном мирах. Только на основе этого допущения можно рассчитывать на открытие стабильной структуры и механизмов действия физической природы и человеческого духа.
Вторая, (критическая установка требует блокировать всякие попытки мистифицировать природу человека, выдать теологию за метаантропологию, т. е. полностью секуляризировать исследование, о чем не осмеливался даже задумываться предшественник Юма Ф. Хатчесон и на чем оступился Д. Беркли, «давший нам лучшие уроки скептицизма» (131.II, 134).
Соответственно весь Трактат решает две задачи – позитивную и критическую. Причем критика, и в этом ее особенность у Юма, нацелена против объективизма рационалистов, с их претензиями доминировать в теории познания, этике политике и естественной теологии, критика, столь неожиданная в век Разума, но пробудившая от догматической дремоты не только Канта, но и Томаса Рида.
Во имя чего велась эта критическая война, в которой Юм следовал тактике выжженной земли? Думается, прав выдающийся исследователь творчества Юма Норман Кемп Смит, считавший теорию морали первородной частью Трактата. Именно этика – сердце человеческой природы. В моральных и нравственных отношениях человек проявляет свою человеческую сущность, отличающую его от животных, и именно здесь открывается самая благодатная почва для мистификации природы человека.
Уже в переписке с Хатчесоном по поводу присланной на отзыв III книги Трактата Юм объявил себя приверженцем теории морального чувства, но оставлял за собой возможность нового ее обоснования, не отягощенного задолженностью локковской схеме познания. Само это намерение проясняет подсобную, вспомогательную роль, которую играет в философии Юма «Логика», традиционно рассматриваемая критиками Юма вне контекста всего его учения о человеческой природе. Отсюда идет укоренившаяся в отечественной литературе традиция представлять Юма непосредственным продолжателем номиналистического идеализма Беркли и игнорировать тот факт, что нет ничего более противоположного, чем этические учения Беркли и Юма (см.: 76. XVIII, 92–93; 36).
Начиная Трактат, Юм сразу же предлагает новую схему познания, сводя все восприятия к впечатлениям и идеям. При этом автор заявляет, что намерен возвратить термину «идея» первоначальный смысл, неоправданно расширенный Локком. Поэтому весьма существенно различие между идеями и впечатлениями, которое заключается в той степени силы и живости, с которой они поражают наш ум. Впечатления включают в себя все наши ощущения, аффекты и эмоции при их первом появлении в душе, идеи (слабые образы впечатлений, их бледные копии. Таков первый принцип «Логики» Юма и такова его психологическая характеристика составных элементов ментальности человека.
Второй принцип состоит в утверждении дискретности восприятия психологический атомизм и номинализм. Простым, элементарным впечатлениям соответствуют простые идеи. Идеи могут выступать в качестве впечатлений рефлексии (аффекты, эмоции и т. п. феномены внутреннего чувства) и производить собственные образы в новых идеях, хотя в конечном счете сами происходят от соответствующего впечатления. Юм так описывает этот процесс: сперва какое-то впечатление поражает чувство и заставляет нас воспринимать тепло или холод, жажду или голод, удовольствие или страдание. С этого впечатления ум снимает копию, которая остается и по прекращении впечатлений и которую мы называем идеей. Эта идея удовольствия или страдания, возвращаясь в душу, производит новые впечатления – желания и отвращение, надежду и страх (131.I, 96). Им будет посвящена II Книга Трактата. Таким образом процесс восприятия имеет два уровня – первичные впечатления и идеи и вторичные впечатления и идеи рефлексии.
Первичные впечатления ощущений возникают в душе от неизвестных причин. Данный тезис находится в полном согласии с избранной методологией Юма. Тут Юм размежевывается не только с наивным реализмом, но и с рационалистической теологией, у которой на все есть окончательный ответ. В самом деле, окказионалисты считали причинами наших ощущений непосредственное воздействие божественного духа. «Поздний» Беркли также считал ощущения элементами божественного языка.
Показательно, что уже в экспозиции внутренний мир идей начинает приобретать различные ценностные оттенки, качественные отличия, производимые и фиксируемые воспринимающим субъектом. Схема этого процесса такова: неизвестные причины – впечатления ощущения – удовольствие (страдание ценностные феномены.
Предварительно кратко охарактеризовав память (деятельность, состоящая в сохранении порядка и расположения простых идей) и воображение (свобода перемещать и изменять свои идеи), Юм переходит к анализу связи или ассоциации идей, узловому пункту Трактата.
Существует некое связующее начало, ассоциирующее качество, с помощью которого одна идея естественно вызывает другую. Таких качеств Юм устанавливает три: сходство, смежность во времени и пространстве и причина и действие. Установление этих свойств Юм считал своим важнейшим открытием, сравнивая их с законом всемирного тяготения. И, как Ньютон, отказывается от исследования конечных причин этих закономерностей.
Можно заметить, что в своей экспозиции Юм избегает говорить о разуме или рассудке. Даже говоря о комбинаторике идей, он трактует ее как работу воображения, тогда как разум занимается демонстративными и вероятностными заключениями. Воображение же имеет свободу перемещать и изменять свои идеи (131.I, 70). Эта свобода является очевидным следствием деления идеи на простые и сложные, которыми воображение комбинирует совершенно произвольно. Именно здесь осуществляют свое руководство три принципа ассоциации, или ассоциирующие качества (свойства), упорядочивающие хаотическое движение идей и заставляющие способность воображения всегда и везде до некоторой степени согласовываться с самой собой (там же). Среди действий ассоциации идей наиболее интересны.
Сложные идеи возникают на основе одного из принципов соединения простых идей. Эти сложные идеи Юм разделяет на отношения, модусы и субстанции и вкратце их характеризует, ставя своей первоочередной задачей выявить их феноменологическую сущность.
Особое значение для будущей полемики с рационалистами, как и в свое время для Хатчесона, имеет категория отношения.
Первым делом Юм различает обыденное и философское значение термина «отношение». В обыденной речи это слово обозначает то качество, посредством которого две идеи связываются в воображении. Лишь в философии мы расширяем смысл этого слова, обозначая им любой предмет сравнения и при отсутствии связующего принципа. Те же отношения, которые подчиняются ассоциативным принципам связи, Юм назовет естественными. Юм насчитывает семь философских отношений. Их источники: сходство; тождество; пространство – время; количество или число; степени качества; противоположность и, наконец, причина и действие. Поскольку это последнее отношение является принципом ассоциации, то оно одновременно является естественным отношением. Позднее Юм разъяснит это «совместительство». Речь идет об отношении идей, а не реальных объектов, которые непосредственно не даны человеческому духу. В первом случае идеи соотносятся непроизвольно, «автоматически», во втором (их произвольно соотносит ум.
Обращаясь к характеристике понятий модуса и субстанции, Юм вскрывает их фиктивность, указав только, что они суть совокупность простых идей, объединяемых воображением и наделенных особым именем. Оставив на будущее конкретный разбор, Юм присоединяется к критике Беркли абстрактных идей как мнимых и заканчивает экспозицию Логики.








