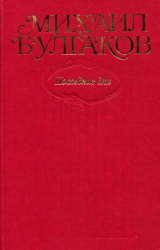
Текст книги "Том 7. Последние дни (с иллюстрациями)"
Автор книги: Михаил Булгаков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 39 страниц)
– Нет, матушка, – ответил Чичиков, усмехнувшись, – «чай, не заседатель», а так, ездим по своим делишкам.
– А, так вы покупщик! Как жаль, что я так дешево продала купцам мед, ты бы, мой отец, наверно, купил его подороже.
– Нет, мед я не купил бы.
– Что ж? Разве пеньку?
– И пеньку не купил бы. Скажите, матушка, у вас умирали крестьяне?
– Ох, батюшка, осьмнадцать человек! – сказала старуха вздохнувши. – И умер такой все славный народ, все работники.
– Уступите-ка их мне, Настасья Петровна?
– Кого, батюшка?
– А вот этих, всех, что умерли.
– Да как же уступить их?
– А просто так. Или продайте. Я вам за них деньги дам.
– Это как же, право… – произнесла старуха, выпучив на него глаза. – Я что-то в толк не возьму. Нешто ты хочешь откапывать их…
– А это уж мое дело.
– Да ведь они же мертвые.
– А кто же говорит, что живые. Ведь они в убыток вам, вы за них подать платите, а я вас избавлю от платежа, да еще заплачу вам рубликов пятнадцать. Ну, как, а?
– Право, не знаю… Я ведь мертвых еще никогда не продавала.
– Еще бы! – усмехнулся Чичиков. – Это бы скорей походило на диво! Да неужто вы думаете, что в них есть какой-нибудь прок?
101
– Нет, этого-то я не думаю, меня только затрудняет, что они мертвые.
– А платите вы за них, как за живых…
– Ох, мой отец, и не говори!.. – подхватила помещица. – Еще третью неделю внесла больше полутораста.
– Вот видите, а теперь я буду платить за них, а не вы. И даже крепость свершу на свои деньги, понимаете?
Старуха задумалась. Она видела, что дело как будто выгодное, да только слишком небывалое, а потому начала сильно побаиваться, чтобы как-нибудь не надул ее этот покупщик; приехал бог знает откуда, да еще в ночное время…
– Так что ж, матушка, по рукам, что ли? – теряя терпение, спросил Чичиков.
– А может, ты, отец мой, обманываешь меня, может, они того… больше стоят?..
– Эх, какая вы! – вскричал Чичиков. – Да что же они стоят. Ведь это прах. Просто прах! А я вам даю деньги, пятнадцать рублей. Ведь это деньги. Вы их не сыщите на улице. Вот признайтесь, почем продали мед?
– По двенадцать рублей за пуд.
– Так это же мед! Вы заботливо собирали его, может быть год, ездили, морили пчел, кормили их зимой в погребе и получили за труд, за старание двенадцать рублей. А тут вы ни за что, даром, берете пятнадцать.
После таких убеждений Чичиков почти уже не сомневался, что старуха, наконец, поддастся.
– Право, – отвечала помещица, – мое такое неопытное вдовье дело! Лучше уж я маленько повременю, авось понаедут купцы, да применюсь к ценам.
– Страм, матушка! Страм! – вконец выйдя из себя, вскричал Чичиков. – Ну что вы говорите! Кто же станет покупать их! На что они им?
– А может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся… – возразила старуха и, не кончив речи, открыла рот и уставилась на Чичикова почти со страхом, желая знать, что он скажет.
– Мертвые в хозяйстве! – рассмеялся вдруг Чичиков. – Эх, куда хватили! Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде?
– С нами крестная сила! – крестясь, испуганно проговорила старуха. – Какие страсти говоришь.
– А впрочем, ведь кости и могилы у вас останутся, перевод только на бумаге. Ну, так как же? А?
Старуха вновь задумалась.
– О чем же вы думаете, Настасья Петровна?
– Может, я вам лучше пеньку продам…
– Да на что мне ваша пенька? – опять возмутился Чичиков. – Я вас совсем о другом, а вы мне про пеньку. Так как же, Настасья Петровна? А?..
– Право, не приберу, товар такой… Совсем небывалый…
– О черт! – вскричал Чичиков и хватил в сердцах стулом об пол.
– Ох, не припоминай его, батюшка, не припоминай! – вскрикнула, вся побледнев, помещица и, вскочив, быстро закрестилась. – Еще вчера всю ночь мне он снился, окаянный. Такой гадкий привиделся, с рогами…
– Дивлюсь, как они вам десятками не снятся! Ведь вы словно какая-нибудь дворняжка, что лежит на сене и сама не ест и другим не даст. А я хотел было закупить у вас и продукты разные, потому что я и казенные подряды веду. – Здесь Чичиков прилгнул, хоть и вскользь, но неожиданно – удачно. Казенные подряды сильно подействовали на старуху.
– Да ты не сердись так горячо, отец мой. Ну, изволь, я готова отдать тебе их за пятнадцать ассигнаций. Только ты уж насчет подрядов-то, коли случится, муки ржаной, или круп каких, или скотины битой, не обидь меня.
– Как можно, матушка, – облегченно вздохнув, сказал Чичиков, стирая со лба пот платком. – Только вам надо подписать доверенное письмо на свершение крепости. Я его сейчас составлю, а вы подпишете.
Выйдя в комнатку, где он провел ночь, Чичиков тотчас же вернулся обратно со своей шкатулкой. Поставив на стол и со звоном открыв ее особым ключом, он присел к столу и, очинив перо, начал писать.
– Хорош у тебя ящичек, отец мой, – подходя к нему, сказала помещица. – Чай, в Москве купил?
– В Москве, – ответил Чичиков, продолжая писать.
– Только уж, пожалуйста, не забудьте насчет подрядов, – присаживаясь, попросила хозяйка.
– Не забуду, не забуду.
– А свиного сала не покупаете? У меня на святках свиное сало будет.
– Купим, купим, все купим, – нс отрываясь от письма, пробормотал Чичиков.
– Может быть, понадобятся птичьи перья, – продолжала помещица. – У меня к Филиппову посту и птичьи перья будут…
– И перья купим, и сало, и пеньку, все купим! – закончив письмо, весело проговорил Чичиков. – Вот, подпишитесь, матушка, – сказал, подавая помещице перо и подвигая бумагу…
Эп. 19.
И опять под звон бубенцов катила бричка по дороге. В бричке с открытым верхом сидел и мурлыкал что-то про себя довольный Чичиков.
Селифан на сей раз был суров, он только похлестывал лошадей кнутом, не обращая к ним никакой поучительной речи. Из угрюмых уст его лишь были слышны одни однообразно-неприятные восклицания. – Ну, ну, ворона, зевай! – и больше ничего…
Неожиданно из-за поворота, навстречу тройке Селифана, вылетела коляска с шестериком коней. В коляске губернаторская дочь и старая компаньонка. Экипаж налетел на чичиковскую бричку. Лошади перепутались. Губернаторская дочка испуганно взвизгнула.
– Ах ты, мошенник, ты что, пьян, что ли! – закричал Селифану губернаторский кучер.
– А ты что расскакался! – приосанясь, ответил ему Селифан.
– Да ведь я тебе кричал, ворона!
Ругаясь, они начали осаживать назад лошадей, чтобы распутаться… Но не тут-то было. Лошади несколько попятились, но потом опять сшиблись, переступив постромки.
Со страхом в лице смотрят на все это дамы. Привстав в бричке, как завороженный, Чичиков смотрит на губернаторскую дочку (шестнадцатилетнюю девушку с золотистыми волосами, ловко и мило приглаженными на небольшой головке).
Губернаторский кучер и Селифан слезли с козел и, продолжая переругиваться, начинают распутывать упряжь и коней.
– Осаживай, осаживай своих, нижегородская ворона! – кричал чужой кучер.
– А я что делаю, шаромыжник!.. – отвечал Селифан.
Между тем Чичиков, сойдя с брички, вежливо поклонился дамам, те благосклонно ответили ему. Осмелев, он двинулся было к коляске, явно намереваясь заговорить и познакомиться с этим юным и прекрасным созданием…
Но упряжь была уже распутана, кучер ударил по лошадям, и коляска, подхваченная шестеркой, полетела…
Чичиков двинулся вслед за коляской. Вышел на пригорок и, как зачарованный, уставился вдаль… Вдали, вздымая за собой пыль, со звоном, что музыка, летела, удалялась коляска.
– Славная бабешка… – задумчиво произнес Чичиков, открывая табакерку и нюхая табак. – Любопытно бы знать, чьих она. Ведь если, положим, этой девушке да придать тысчонок двести приданого, из нее бы мог выйти очень и очень лакомый кусочек…
Эп. 20.
Окно. У окна большая, неуклюжая клетка, в ней темный дрозд с белыми крапинками. Слышится знакомый звон бубенцов. В окне рядом с дроздом одновременно показались два лица: женское в чепце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдавская тыква. Выглянув и переглянувшись, оба лица и ту же минуту исчезли… «Тпрррууу», – раздулся громкий голос Селифана, и из окна стало видно, как перед крыльцом остановилась бричка и из нее с помощью подбежавшего лакея выскочил Павел Иванович Чичиков, которого на крыльце встретил сам хозяин.
Эп. 21.
Гостиная. Грубая, необыкновенных размеров мебель. На стенах портреты в больших рамках.
– Прошу… – громко произнес, распахивая двери, отрывистый голос, в тот же момент раздался нечеловеческий крик от боли… и в гостиную, держась рукой за ногу, вскочил Чичиков.
– Я, кажется, вас побеспокоил… – смущенно извиняясь, появляется следом за ним Собакевич…
– Ничего… Ничего… – прошипел Чичиков, потирая ногу…
Из противоположных дверей, степенно держа голову, как пальма, вошла весьма высокая дама, в чепце с лентами.
– Это моя Федулия Ивановна, – сказал Собакевич. – Душенька, рекомендую: Павел Иванович Чичиков.
Чичиков, хромая, подлетел к ручке Федулии, которую она почти впихнула ему в губы, затем, сделав движение головой, подобно актрисам, играющим королев, Федулия сказала:
– Прошу… – и уселась на диван. Чичиков и Собакевич сели в кресла. Наступило молчание. Стучит дрозд. Чичиков делает попытку улыбнуться Федулии Ивановне, но она недвижна и величественна. Тогда Чичиков смотрит на Собакевича.
– Маврокордато… – отрывисто вдруг изрекает тот, кивая на портрет какого-то странного военного, в красных панталонах, с толстыми ляжками и с неслыханными усами.
Чичиков уставился на портрет.
– Колокотрони… – продолжал Собакевич на точно таком же портрете другого военного.
– Канари…
– Миаули… греческие полководцы… – пояснил он.
Ознакомив Чичикова с портретами полководцев, Собакевич опять замолчал.
– А мы в прошедший четверг, – с улыбкой начинает Чичиков, – об вас вспоминали у Ивана Григорьевича…
Молчание.
– Прекрасный он человек… – продолжал Чичиков.
– Кто такой? – спросил Собакевич.
– Председатель…
– Это вам показалось. Он дурак, какого свет не производил…
Чичиков изумленно открывает рот, потом приходит в себя и, хихикнув, говорит:
– Возможно. Всякий человек не без слабостей… Но зато губернатор…
– Разбойник… – перебил его Собакевич.
Чичиков опять смущенно хихикнул.
– Однако у него такое ласковое лицо…
– Разбойничье лицо… – снова перебил Собакевич. – Дайте ему нож да выпустите на большую дорогу, зарежет. Он, да еще вице-губернатор – это Гога и Магога.
– Впрочем, что до меня… – немного подумав, начал Чичиков, – то мне, признаюсь, больше всех нравится полицмейстер…
– Мошенник! – хладнокровно сказал Собакевич. – Продаст, обманет, да еще пообедает с вами. Все мошенники, – спокойно продолжал он. – Весь город такой. Один там есть порядочный человек – прокурор, да и тот свинья.
Чичиков подавлен, вынимает платок, вытирает пот.
– Что же, душенька, пойдем обедать, – изрекла, наконец, Федулия, поднимаясь с дивана.
– Прошу… – вставая, сказал Собаквич.
Эп. 22.
Столовая. Четыре прибора. Дымятся щи. Громадное блюдо няни[4]4
Няней называется бараний желудок, начиненный гречневой кашей, мозгами и ножками…
[Закрыть]. За столом Федулия, Собакевич, Чичиков и неизвестное существо женского пола – не то родственница, не то приживалка.
Собакевич (жуя):
– Этакой няни в городе вы не будете есть. Там вам черт знает что подадут.
Чичиков (робко):
– У губернатора, однако ж, стол не дурен.
Собакевич:
– Котами кормят.
Чичиков (уронив ложку):
– Как котами?
Собакевич (жуя):
– Купит его каналья повар кота, обдерет и подаст вместо зайца.
Федулия:
– Фу… какую ты неприятность говоришь…
Собакевич:
– А что ж, душа моя, я не виноват, что у них так делается. Все, что наша Акулька в помойную лохань бросает, они это в суп, да в суп… У меня не так… – отваливая себе с блюда новый кусок няни, продолжал Собакевич, – у меня, когда свинина, всю свинью тащи на стол, баранина, всего барана подавай… Я не какой-нибудь Плюшкин. 800 душ имеет, а обедает хуже моего пастуха.
– А кто это такой? – поинтересовался Чичиков.
– Мошенник, – ответил Собакевич, – скряга. Всех людей голодом переморил.
– Взаправду с голоду умирают?.. – с участием спросил Чичиков. – И что же, в большом количестве?
– Как мухи дохнут…
– Неужто, как мухи… И далеко он живет?
– В пяти верстах.
– В пяти верстах! – взволнованно воскликнул Чичиков. – Это, если выехать из ваших ворот, будет налево или направо?
– А я вам даже не советую и дороги значь к этой собаке, – сказал Собакевич. – Извинительней сходить в какое-нибудь непристойное место, чем к нему.
– Нет, что вы… – скромно улыбнувшись, отвечал Чичиков, – я спросил только потому, что интересуюсь познанием всякого рода мест…
Эп. 23.
Гостиная. Собакевич, развалясь, сидит на диване, сбоку около него, на кресле, Чичиков. Оба без фраков, перед ними на блюдечках различное варенье…
Чичиков, только что, очевидно, кончивший говорить, вынул платок, громко высморкался, посмотрел на неподвижно сидевшего Собакевича и, наклонившись к нему, произнес:
– Итак?..
– Вам нужно мертвых душ? – просто, без тени удивления, спросил Собакевич.
– Э… Да… несуществующих… – смягчил выражение Чичиков.
– Извольте, я готов продать.
– И какая же цена?
– По сто рублей за штуку.
– По сто?! – вскричал Чичиков и, разинув рот, поглядел Собакевичу в самые глаза.
– А ваша цена? – не меняя позы, спросил Собакевич.
– Моя цена? – поднимаясь с места, криво усмехнулся Чичиков. – Моя цена… Ну… по восьми гривен за душу.
– Эк, куда хватили, – оживляясь, произнес Собакевич. – Ведь я продаю не лапти.
– Однако ж это и не люди! – возмущенно сказал Чичиков. – Извольте, по полтора рубля.
– Да чего вы скупитесь, – вставая, сказал Собакевич. – Другой мошенник обманет вас и продаст дрянь, а не души. – С этими словами он подошел к конторке, достал пачку каких-то бумаг. – У меня мужики, что ядреный орех! – И, заглянув в бумаги, заявил: – Вот, например, каретник Михеич, сам сделает, сам обобьет и сам лаком покроет…
– Но позвольте… – начал было Чичиков.
– Пробка Степан, плотник, – не слушая, продолжал Собакевич. – Ведь что за силища была! А Милушкин, кирпичник… А Максим Телятников, сапожник, что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо! А Еремей…
– Но позвольте! – перебил его, наконец, изумленный Чичиков. – Ведь это весь народ мертвый!
– Мертвый… – как бы одумавшись, произнес Собакевич. – Да, мертвый… – согласился он и тут же хмуро добавил: – А что толку с тех, что живут? Что это за люди? Мухи!
Чичиков рассмеялся.
– Но все же они существуют.
– Существуют… Эх, сказал бы я! – махнул рукой Собакевич и, кинув на конторку бумаги, направился к Чичикову. – Ну, извольте, ради вас, по полсотни за душу…
– Да ведь предмет-то, Михаил Семенович, – улыбнулся, пожимая плечами, Чичиков, – просто: фу-фу. Кому он нужен…
– Да вот вы же покупаете, – не без намека заметил Собакевич, – стало быть, нужен…
Чичиков на мгновение растерялся и, закусив губу, хладнокровно ответил:
– Я покупаю по наклонности собственных мыслей…
– Это ваше дело, – уловив его замешательство, спокойно сказал Собакевич. – Мне не нужно знать, зачем вам эти души. Давайте по тридцати и забирайте их, бог с вами.
– Нет, я вижу, вы не хотите продавать, – потеряв терпение, вскипел Чичиков и стал надевать фрак. – Два рубля – последняя моя цена, и прощайте! – категорически заявил он и двинулся к дверям.
– Позвольте! Позвольте! – кинувшись за ним, вскричал Собакевич и, задержав его у дверей, жалобно закачал головой.
– Эх, душа-то у вас… Ну, нечего с вами делать. Извольте. – Пожимая Чичикову руку, он опять наступил ему на ногу. Изогнулся, зашипел Чичиков. Смущенно разводит перед ним руками Собакевич…
Эп. 24.
Под унылый звон церковного колокола…
…Безлюдная равнина с тяжелыми облаками… Бедное, без единого деревца крестьянское кладбище… и длинный, ветхий деревянный мост на фоне деревни и белеющей сельской церкви. По мосту плетутся крестьянские дроги с большим длинным гробом. За гробом молча шагают старенький священник в темном заплатанном подряснике, худая, рослая баба и двое маленьких ребятишек, одетые в лохмотья. Навстречу похоронам по мосту едет чичиковская тройка. Остановились дроги с гробом, пропуская тройку. Крестится, проезжая мимо, Селифан, привстав в бричке, крестится его барин…
Проехала, разминулась тройка с гробом и, сделав два-три поворота – мимо полуразвалившихся крестьянских изб, мимо скирд и кладей заросшего крапивой необмолоченного хлеба, – въехала в покосившиеся ворота барской усадьбы и остановилась в большом безлюдном дворе. Обветшалые, покрытые плесенью амбары, погреба, разные повозки, телеги и сани заполняли двор. Все говорило, что здесь когда-то текло хозяйство в обширном размере, а ныне глядело все пасмурно и пустынно.
Удивленно приподнявшись в бричке, Чичиков только у одного из амбаров заметил какую-то фигуру, возившуюся около огромного замка со связкой ключей, «Наверное, ключница», – подумал Чичиков, платье на ней было неопределенное, похожее очень на женский капот, на голове колпак, который носят дворовые бабы. Фигура со своей стороны пристально глядела в сторону Чичикова, ей, казалось, в диковину появление во дворе чужого человека.
– Послушай, матушка! – крикнул Чичиков, выходя из брички. – Что барин….
– Нету дома! – прервала его сиплым голосом ключница. – А что вам нужно? – прибавила она, немного спустя.
– Есть дело!
– Идите и комнаты! – крикнула ключница и повернулась к нему спиной.
Эп. 25.
Поднявшись на полуразвалившееся крыльцо дряхлого господского дома, Чичиков вступил в темные широкие сени, из сеней он попал и комнату, чуть-чуть озаренную светом, выходившим из широкой щели находившейся здесь двери. Отворивши дверь, Чичиков очутился в свету и был поражен представшим беспорядком. Казалось, будто в доме происходило мытье полов и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял сломанный стул, рядом с ним висели часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же стоял шкаф со старинным серебром и китайским фарфором. На бюро лежало много всякой мелкой всячины. На стенах, весьма тесно и бестолково, висело несколько картин: длинная пожелтевшая гравюра какого-то сражения и рядом два почерневших портрета, писанные маслом; один – юной красивой девушки, другой – лихого гвардейского офицера. С середины потолка свисала люстра в рваном холстяном мешке. В углу комнаты была навалена куча того, что погрубее и что недостойно лежать на столах.
Пока Чичиков все это странное убранство рассматривал, отворилась боковая дверь и вошла та самая ключница, которую он встретил на дворе. Но тут он увидел, что это был скорее ключник, потому что весь подбородок его от довольно редкого бритья походил на скребницу из железной проволоки, какою чистят лошадей.
– Что ж барин? У себя, что ли? – спросил Чичиков.
– Здесь хозяин, – сказал ключник.
– Где же он?
– Да что вы, батюшка, слепы, что ли? – сердито ответил ключник; стаскивая с головы колпак. – Я ведь хозяин-то!
Чичиков, пораженный, отступил, шинель сползла с его плеч… Перед ним стоял Плюшкин, лицо его не представляло ничего особенного, только один подбородок выступал далеко вперед да маленькие глазки из-под высоко выросших бровей бегали, как мыши… Шея его была повязана чем-то таким, что нельзя было разобрать, чулок ли это или набрюшник, только никак не галстук…
– «…А ведь было время, – возникает голос автора на лице Плюшкина, – когда он был только бережливым хозяином! Был женат и семьянин. Все текло живо и размеренным ходом: двигались мельницы, работали суконные фабрики, столярные станки, прядильни: везде и во все входил зоркий взгляд хозяина. Сильные чувства не отражались в чертах лица его, но в глазах был виден ум. Опытом и познанием света была проникнута речь его, и гостю, что заезжал к нему сытно пообедать, было приятно слушать его…»
Все это время Плюшкин стоял перед Чичиковым, не говоря ни слова, этот все еще не мог придумать, как ему начать разговор. Наконец, через силу улыбнувшись, он проговорил:
– Наслышавшись о вашем редком управлении имением, счел долгом познакомиться и принести свое почтение…
На что Плюшкин что-то непонятное пробормотал и уже более внятно добавил:
– Прошу покорнейше садиться…
Оглянувшись, Чичиков осторожно присел на краешек какого-то стула.
– Я давненько не вижу у себя гостей, – продолжал скрипучим голосом Плюшкин, – да и, признаться, мало вижу в них толку. Кухня у меня такая прескверная, труба совсем развалилась, начнешь топить, еще пожару наделаешь. Да и сена хоть бы клок в хозяйстве! Землишка моя маленькая, мужик ленив, все норовит как бы в кабак… Того и гляди – пойдешь на старости по миру…
– Мне, однако ж, сказывали, – скромно заметил Чичиков, – что у вас более тысячи душ…
– А вы, батюшка, наплевали бы тому в глаза, кто это сказывал, – рассердился вдруг Плюшкин, – проклятая горячка выморила у меня мужиков.
– Скажите!.. – не то радостно, не то сочувственно произнес Чичиков. И много выморила?..
– Да, душ сто двадцать… – плаксиво ответил Плюшкин.
– Целых сто двадцать! – воскликнул Чичиков. – Не может быть!
– Стар я, батюшка, врать-то, – обиделся Плюшкин, – седьмой десяток пошел…
– Соболезную… – сделав скорбное лицо и приложив руку к сердцу, поклонился Чичиков, – душевно соболезную…
– Да ведь соболезнование в карманы не положишь, – раздраженно сказал Плюшкин. – Вот живет тут около меня капитан, черт знает откуда взялся такой, говорит родственник, а как начнет соболезновать, такой вой подымет…
Внезапно в окно раздался стук. Чичиков и Плюшкин вздрагивают. «Это он, он!» – прячась от страха за Чичикова, закричал Плюшкин. В окне действительно возникла багровая, усатая физиономия в военной фуражке.
– Дядюшка! – отдав честь, умиленно прохрипела физиономия.
– Нету, нету дома!.. – изменив голос, крикнул из– за спины Чичикова Плюшкин, и физиономия скрывается…
– Дядюшка! Дядюшка! – слышится его жалобный голос, и вдруг в дверях нараспашку возникает пьяная фигура капитана.
– Дядюшка! – плаксиво завопил он. – Дайте хоть что-нибудь поесть…
– Ах ты господи! Вот еще наказанье! – вскричал Плюшкин и, подбежав к капитану, ловко вытолкнул его за дверь, а дверь захлопнул на крючок…
– Дядюшка! – плача, вопит за дверями капитан. – Дя-дю-шка-а!
– Вот видели… – тяжело дыша, жалуется Плюшкин Чичикову, – я ему такой же дядюшка, как он мне дедушка. У меня и самому есть нечего…
– Вижу… – искренне сочувствуя, произносит Чичиков. – Вижу, как почтенный, добрый старик терпит бедствия по причине собственного добродушия.
– Ей-богу, правда, – перекрестившись, перебил его Плюшкин. – Все от добродушия.
– Вижу, вижу, почтеннейший, – ласково поддержал его Чичиков, – поэтому, соболезнуя, я даже согласен платить подати за всех ваших умерших крестьян…
Такое предложение ошеломило Плюшкина. Вытаращив глаза, он долго смотрел на Чичикова и, наконец, спросил:
– Да вы, батюшка, не служили ли в военной службе?
– Нет, – ответил Чичиков довольно лукаво, – служил по статской.
– Да ведь вам же это в убыток…
– Для вашего удовольствия – готов и на убыток!
– Ах, батюшка! Ах, благодетель! – обрадовавшись, вскричал Плюшкин. – Вот утешили! Да благословит вас бог!
Но вдруг радость его пропала, лицо вновь приняло заботливое и даже подозрительное выражение.
– Вы как же… за всякий год беретесь платить? – спросил он. – Или мне деньги будете выдавать?
– А мы вот как сделаем, – с приятностью ответил Чичиков, – мы свершим на них купчую крепость, как бы они живые… и вы мне их продадите.
– Купчую… – задумался Плюшкин. – Это ведь издержки. Приказные такие бессовестные! Прежде, бывало, полтиной отделаешься, а теперь подводу круп пошли да красненькую бумажку прибавь…
– Извольте! – перебил его Чичиков. – Из уважения к вам я готов принять все эти издержки на себя.
– Ах, господи! Ах, благодетель вы мой! – радостно затрепетал опять Плюшкин. – Пошли господь вашим деткам… Прошка! Эй! Прошка! – внезапно закричал он.
В комнате появился мальчик лет тринадцати, в огромных сапогах и грязной, оборванной одежонке.
– Вот, посмотрите, батюшка, какая рожа, – сказал Плюшкин. Чичикову, указывая пальцем на Прошку. – Глуп, как дерево, а положи что-либо – вмиг украдет. Поставь самовар, дурак, – подходя к мальчику ближе, сказал он. – Да вот возьми ключ, отдай Мавре, чтобы пошла в кладовую, там на полке есть сухарь из кулича, что привозила Александра Степановна, пусть подадут его к чаю…
Прошка двинулся к дверям.
– Постой, дурачина! – сердито остановил его Плюшкин. – Куда же ты?.. Бес у тебя в ногах, что ли? Сухарь-то сверху, чай, испортился, так пусть Мавра поскоблит его ножом, да крох не бросает, а снесет в курятник. Ну, иди, дурачина.
Прошка уходит.
– Понапрасну беспокоились, почтеннейший, – улыбнувшись, заметил Чичиков. – Я уже и ел, и пил.
– Уже пили и ели! – обрадованно удивился Плюшкин. – Да, конечно, человека хорошего общества хоть где узнаешь, он и не ест, а сыт. Я тоже, признаться, не охотник до чаю: напиток дорогой, да и цена на сахар немилосердная. Прошка! Прошка! – открыв двери, закричал он в сени. – Не нужно самовара! И сухаря не нужно! Пусть Мавра его не трогает. А ведь вам, верно, реестрик всех этих тунеядцев нужен, – обращаясь к Чичикову, спросил Плюшкин.
– Непременно-с.
Надев очки, Плюшкин стал рыться в бумагах, поднимая при этом пыль, от которой Чичиков чихнул.
– Я как знал, всех их списал на бумажку, чтобы при первой ревизии вычеркнуть… Вот, кажись, она? – протягивая Чичикову продолговатую, исписанную кругом бумажку, сказал Плюшкин.
– Она. Точно-с, – с удовольствием взглянув на многочисленный список, подтвердил Чичиков и спрятал бумажку в карман.
– Вам бы надо, любезнейший, приехать в город для свершения купчей, – заметил он при этом Плюшкину.
– В город! Как же это? – забеспокоился Плюшкин. – А дома кого оставишь? У меня народ или вор, или мошенник, обдерут, что и кафтан не на чем будет повесить.
– Так не имеете ли кого-нибудь знакомого?
– Да кого же знакомого? – задумался Плюшкин. – Все мои знакомые перемерли… Ах, батюшки! Имею! – вскрикнул он. – Знаком сам председатель! Уж не написать ли ему?
– Ну конечно, к нему.
– Такой знакомый! Однокорытники! По заборам лазили! В школе приятелями были!
По деревянному лицу Плюшкина скользнул вдруг какой-то теплый луч, на мгновение выразилось какое– то бледное отражение чувства… Затем лицо его снова стало таким же и еще пошлее… Он стал торопливо заглядывать на стол, под стол, шарить и искать чего-то, наконец, нетерпеливо закричал:
– Мавра! Мавра!
На зов явилась худая, плохо одетая женщина.
– Куда ты дела, разбойница, бумагу?
– Не видывала я, барин, ее, ей-богу, не видывала.
– Врешь! По глазам вижу, что подтибрила!
– Да на что ж бы я подтибрила. Ведь я грамоте-то не знаю.
– Пономаренку снесла. Он маракает, так ему и снесла.
– Э-ва! Не видел пономаренок вашего лоскутка.
– Вот погоди-ка: на Страшном суде черти припекут тебя за это железными рогатками.
– Да за что же припекут, коли я не брала и в руки четверки.
– Припекут, припекут тебя черти! Вот тебе, скажут, мошенница, за то, что барина обманывала!
– А я скажу: не за что. Ей-богу, не за что, не брала я… Да вон она лежит. Всегда напраслиной попрекаете!
Оглянувшись, Плюшкин увидел точно четверку бумаги и, пожевав губами, произнес:
– Ну что ж ты расходилась так: экая занозистая. Поди-ка, принеси огоньку, запечатать письмо. Да свечу не зажигай, а принеси лучинку.
Мавра ушла, а Плюшкин, севши в кресло и взявши в руки перо, стал ворочать на все стороны четверку, придумывая, нельзя ли отделить от нее еще осьмушку, убедившись наконец, что никак нельзя, всунул перо в чернильницу с какой-то заплесневевшей жидкостью и стал писать…
– А не знаете ли вы какого-нибудь вашего приятеля, которому бы понадобились беглые души?.. – прервав письмо, спросил Плюшкин.
– А у вас есть и беглые? – быстро спросил Чичиков, очнувшись.
– В том-то и дело, что есть.
– И сколько их будет?
– Да десятков до семи наберется.
– Нет?..
– Ей-богу, так! Ведь у меня, что год, то бегут. Народ-то больно прожорлив, от праздности завел привычку трескать, а у меня и самому есть нечего… А уж я бы за них что ни дай бы взял.
– Что ж, я готов их взять, коли так, – небрежно сказал Чичиков.
– А сколько бы вы дали? – спросил Плюшкин, руки его задрожали, как ртуть.
– По двадцати пяти копеек за душу.
– А как вы покупаете, за чистые?
– Да, сейчас же деньги.
– Батюшка! Благодетель вы мой, ради нищеты моей дали бы уж по сорок копеек.
– Почтеннейший! – воскликнул Чичиков, приложив руки к сердцу. – Не только по сорока копеек, по пятьсот рублей заплатил бы, но… состояния нет. По пяти копеек, извольте, готов прибавить.
– Ну хоть по две копеечки еще пристегните.
– По две копеечки пристегну, извольте. Сколько их у вас?
– Всего наберется семьдесят восемь…
– Семьдесят восемь, семьдесят восемь по тридцати за душу, это будет… – быстро подсчитал Чичиков, – это будет двадцать четыре рубля девяносто шесть копеек!
И, достав бумажник, он стал отсчитывать деньги…
Эп. 26.
«– …Неожиданно приобретя у Плюшкина около двухсот душ, – говорит автор, – герой наш в приятном расположении возвращался в город, но по дороге решил подкрепиться и завернул в придорожный трактир. Здесь должно заметить, что многие господа большой руки пожертвовали бы половину своих имений, чтобы иметь такой желудок и такой аппетит, какой изволил иметь наш Павел Иванович Чичиков…»
На этих словах: трактир. Он стоит на пригорке, почти у самой столбовой дороги. По виду своему это что-то вроде русской деревенской избы, несколько в большем размере. У трактира, около длинной коновязи, полураспряженная чичиковская тройка. Чубарый, гнедой и каурая пристяжная с удовольствием едят в деревянной кормушке овес; кучер Селифан, устроившись в бричке, закусывает луком, солью и черным хлебом, а хозяин их сидит за столом в трактире и с завидным аппетитом, о котором именно в этот момент будет говорить автор, доедает поросенка с хреном и сметаной. Стук колес подъехавшего экипажа отвлек его от поросенка, и, выглянув окно, он увидел подъехавший к трактиру старый тарантас, запряженный какой-то длинношерстной четверней с порванными хомутами и веревочной упряжкой.
Из тарантаса первым выскочил (знакомый уже нам) Ноздрев в архалуке, за ним вылез высокий белокурый господин в венгерке с трубкой…
– Водка сеть? – войдя в трактир, громко спросил Ноздрев.
– Есть, барин. Как не быть, – ответила старуха-хозяйка.
– Какая у тебя?
– Анисовая.
– Ну, давай рюмку анисовой.
– И мне рюмочку, – вежливо попросил белокурый спутник.
Вдруг Ноздрев заметил сидящего у стола Чичикова.
– Ба! Ба! Ба! – вскричал он и, расставив широко руки, двинулся к нему.
– Какими судьбами? Куда ездил? – бесцеремонно обнимая Чичикова, спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжал:
– А я, брат, с ярмарки? Поздравь! Продулся в прах! Вон на обывательских приехал. Такая дрянь, что насилу дотащился! А это зять мой, Мижуев, – обернувшись, показал Ноздрев на белокурого… Чичиков вежливо поклонился, на что Мижуев ответил тем же.








