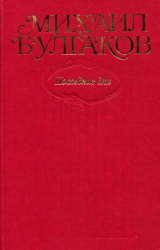
Текст книги "Том 7. Последние дни (с иллюстрациями)"
Автор книги: Михаил Булгаков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 39 страниц)
На другой же день, без всякого замедления, в ИНО была получена справка о том, что гражданину Булгакову М. А. в выдаче разрешения на право выезда за границу отказано.
После этого, чтобы не выслушивать выражений сожаления, удивления и прочего, я отправился домой, понимая только одно, что я попал в тягостное, смешное, не по возрасту положение.
2.
Обида, нанесенная мне в ИНО Мособлисполкома, тем серьезнее, что моя четырехлетняя служба в МХАТ для нее никаких оснований не дает, почему я и прошу Вас о заступничестве».
Ответа на это письмо не последовало, тем более заступничества…
Но в письме Сталину нет кое-каких деталей и подробностей, которые скорее всего повлияли на исход задуманного путешествия.
Елена Сергеевна записала в дневнике: «20 июля. Семнадцатого мы вернулись из Ленинграда, где прожили больше месяца в „Астории“.
За это время многое, конечно, произошло, но я не записывала ни там, ни здесь. Что я помню? Седьмого июня мы ждали в МХАТе вместе с другими Ивана Сергеевича, который поехал за паспортами Он вернулся с целой грудой их, раздал всем, а нам – последним – белые бумажки – отказ. Мы вышли. На улице М. А. вскоре стало плохо, я с трудом его довела до аптеки. Ему дали капель, уложили на кушетку. Я вышла на улицу – нет ли такси? Не было, и только рядом с аптекой стояла машина и около нее Безыменский. Ни за что! Пошла обратно и вызвала машину по телефону.
У М. А. очень плохое состояние – опять страх смерти, одиночества, пространства.
Дня через три (числа 10–11) М. А. написал письмо обо всем этом Сталину, я отнесла в ЦК. Ответа, конечно, не было» (Дневник, с.61).
И вот, анализируя вес известные нам по документам события, связанные с поездкой за границу, приходишь все к тому же неутешительному выводу, что поездка сорвалась случайно, из-за неблагоприятного стечения обстоятельств, а может просто из-за характера самого Михаила Афанасьевича Булгакова, любителя розыгрышей, любителя поиронизировать и пересмешничать. Елена Сергеевна по горячим следам событий записала, как они пришли в серьезное учреждение, где оформляют заграничные паспорта, заполнять анкеты. «Когда мы писали, М. А. меня страшно смешил, выдумывая разные ответы и вопросы. Мы много хихикали, не обращая внимания на то, что из соседних дверей вышли сначала мужчина, а потом дама, которые сели тоже за стол и что-то писали.
Когда мы поднялись наверх, Борисполец сказал, что уже поздно, паспортистка ушла и паспорта сегодня не будут нам выданы. „Приходите завтра“.
– Но „завтра 18-е (шестидневка)“. – „Ну, значит, 19-го“.
На обратном пути М. А. сказал:
– Слушай, а это не эти типы подвели?! Может быть, подслушивали? Решили, что мы радуемся, что уедем и не вернемся?.. Да нет, не может быть. Давай лучше мечтать, как мы поедем в Париж!
И все повторял ликующе:
– Значит, я не узник! Значит, увижу свет!
Шли пешком, возбужденные. Жаркий день, яркое солнце. Трубный бульвар. М. А. прижимает к себе руку, смеется, выдумывает первую главу книги, которую привезет из путешествия.
– Неужели не арестант?!
Это – вечная ночная тема: Я – арестант… Меня искусственно ослепили…
Дома продиктовал мне первую главу будущей книги» (Дневник, с. 59–60).
Это записано в тот же день; детали и подробности событий убийственны для Булгаковых. Мужчина и дама не только подслушивали, как хихикают заполняющие анкеты, но тут же и донесли вышестоящему начальнику, явно сгустив то, что говорили Булгаковы, извратив смысл их разговоров. И тонко чувствовавший обстановку 30-х годов Булгаков высказал именно эту догадку, а потом ее отбросил как мешающую мечтать о Париже. А так и случилось. Так что счастье, как говорил Карамзин, это судьба, характер и ум. Очень много в жизни Булгакова складывалось в зависимости от его характера, бескомпромиссного, прямодушного, язвительного, не прощающего малейших промахов.
И множество врагов следили за каждым его шагом, за каждым его высказыванием, за каждым гостем, пересекавшим порог его дома. Уверен, что и среди гостей были такие, которые добровольно доносили о разговорах, которые велись в квартире Булгаковых. Елена Сергеевна некоторых из своих посетителей подозревала в доносительстве, по крайней мере, в дневнике есть намеки на это позорное явление того времени.
Естественно, Булгаковы хотели бы сузить круг своих знакомых, бывавших в доме, но популярность Булгакова росла, к нему приходили разные люди с готовыми пьесами, с замыслами, приходили режиссеры, артисты, художники, просто читатели… Зачастили и переводчики, связанные с зарубежными агентствами, режиссеры и исполнители зарубежных постановок.
А уж за этими-то людьми нужен был особый догляд, и в их рядах тоже были добровольные доносчики. Так что жизнь Булгаковых просматривалась со всех сторон. И в этом отношении дневниковые записи Елены Сергеевны – просто бесценные свидетельства времени, к сожалению, испорченные позднейшим редактированием.
Булгаков все чаше в мыслях своих возвращается к «роману о дьяволе», делает новые наброски, новые страницы, но необходимость зарабатывать деньги снова и снова отвлекает его от своего, подлинного: после киносценария «Мертвые души» он вынужден был заключить договор с Украинфильмом на киносценарий по «Ревизору». На очереди переделка «Блаженства»; рождалась, в сущности, новая пьеса.
Все чаще у Булгакова возникала мысль написать пьесу о Пушкине. В феврале 1937 года исполнится сто лет со дня смерти великого национального гения, а Булгаков боготворил Пушкина.
В то время широко распространилась версия о косвенной виновности в гибели Пушкина его жены – Натальи Николаевны, легкомысленной светской красавицы, увлеченной лишь балами и танцами. И Булгаков поверил приводимым серьезными исследователями фактам.
Наталья Николаевна появляется в своем доме вместе с Дантесом, он проводил ее до подъезда, а через несколько минут, как только она осталась одна, он вошел с ее перчатками, забытыми ею в санях. Здесь же, в столовой, рядом с комнатой Александра Сергеевича Пушкина, происходит любовное объяснение Дантеса с Пушкиной, он предлагает ей бежать с ним в другие страны, покинуть детей, мужа, Россию. Он угрожает ей постучать в комнату Пушкина, она в страхе кричит ему: «― Не смейте! Неужели вам нужна моя гибель?
Дантес целует Пушкину…»
Работая над пьесой о Пушкине, Булгаков пошел совсем по другому пути, чем в «Мольере», избрал совсем иное композиционное решение. На сцене Пушкин, в сущности, не появляется. Два-три раза на сцене мелькнула его тень, его фигура. И все.
Это своеобразное художественное решение по-разному объясняли. Не без оснований в этом увидели проявление художественного такта. К. Федин, например, писал: «Основное желание Булгакова вполне очевидно: он хотел избежать опошления драгоценного образа великого поэта, попытался изображением общественной среды, в которой жил Пушкин, раскрыть его трагедию» (Литература и искусство, 1943, 24 апр.).
Как и Мольер, Пушкин переживает тяжелую пору. Всюду и везде его преследуют неудачи, не дают покоя кредиторы, завистники, чиновники и бюрократы в генеральских мундирах. Пока его нет, приходит некто Шишкин, ростовщик, и предъявляет денежный иск, оказывается, «в разные сроки времени господином Пушкиным взято у меня под залог турецких шалей, жемчуга и серебра двенадцать с половиной тысяч ассигнациями». Ростовщик угрожает продать вещи, «персиянина нашел подходящего». И только отданные под залог «фермуар и серебро» Александры Гончаровой временно спасают положение. Но дело не только в этом. Положение создалось критическое. Жизнь в Петербурге дорого стоит, особенно если жена – красавица. Добрый и преданный Пушкину Никита жалуется на судьбу, на страшное безденежье: «Раулю за лафит четыреста целковых, ведь это подумать страшно! Каретнику, аптекарю… В четверг Кародыгину за бюро платить надобно. А заемные письма? Да лишь бы еще письма, а то ведь молочнице задолжали, срам сказать! Что ни получим, ничего за пазухой не остается, все идет на расплату. Александра Николаевна, умолите вы его, поедем в деревню. Не будет в Питере добра, вот вспомните мое слово. Детишек бы взяли, покойно, просторно… Здесь вертеп… И все втрое, все втрое. И обратите внимание, ведь они желтые совсем стали, и бессонница…» Много смысла в этих причитаниях старого Никиты – и любовь, и забота, и сожаление, и преданность, и точное определение наметившейся трагедии. Здравый смысл Никиты подсказывает – надо бежать отсюда, добра не будет. Александра Гончарова тоже приходит к выводу, прочитав очередное анонимное письмо, что «в деревню надо ехать». Просит об этом Наталью, жену Пушкина, но та не может себя представить зимой в деревне. «Бежать из Петербурга? Прятаться в деревне? Из-за того, что какая-то свора низких людей… Презренный аноним… Он и подумает, что я виновата. Между нами ничего нет. Покинуть столицу? Ни с того ни с сего? Я вовсе не хочу сойти с ума в деревне, благодарю покорно. Натурально, чтобы жить в столице, нужно иметь достаточные средства».
В «Мольере» есть эпизод, о котором раскрывается, о сущности, авторское отношение к доносчикам. При Николае I дело уже было поставлено на широкую ногу. Там были, так сказать, кустари-одиночки, здесь уже появилась целая каста людей, которые живут доносами, сделали это своей основной профессией. На них Николай I опирается в осуществлении своей власти. Уже организовано сыскное отделение с целью выводить крамолу, выслеживать неблагонадежных, тех, кто подтачивает основы государственности. Подбирают черновики, брошенные о корзину неосторожным Пушкиным, переписывают неопубликованные его стихи с целью передачи их в жандармское управление, поручают Биткову следить за ним всюду и везде, передавать все, что он говорил, с кем говорил, что написал, кому написал, подслушивают его разговоры.
Драма построена так, что действующие лица только и говорят о Пушкине – дурно или восторженно. Он занимает умы людей своего круга. Он вселяет беспокойство в Николая, Бенкендорфа, Дубельта, Кукольника; его ненавидит Петр Долгоруков за эпиграмму, в которой Пушкин зло его высмеял. За ним пристально следит действительный статский советник Богомазов, получивший 30 червонцев от Дубельта за черновик письма к Геккерену, в котором Пушкин вызывал его на дуэль. Словом, работает хорошо налаженная машина, в которой каждый винтик действует четко и безотказно.
Николай люто ненавидит Пушкина за непокорство, за самостоятельность, за стремление быть самим собой, за стихи, разоблачающие тупость самодержавия, за все возрастающую популярность его среди мыслящей части народа. Он готов обрушить свой царский гнев на Пушкина только за то, что тот явился на бал во «фрачишке», а не в мундире камер-юнкера, присвоенном ему императором. Тяжелым взором вглядывается император в черный силуэт Пушкина. Он весь кипит от негодования. Ему нужен только повод для расправы над непокорным поэтом. И лишь Жуковский умоляет императора не гневаться и не карать Пушкина своей немилостью. Он все еще надеется, что Пушкина можно исправить, можно по-отечески внушить ему правильное поведение, заставить его соблюдать светские нормы, ссылается на ложную систему воспитания, на общество, в котором Пушкин провел юность, пытается доказать Николаю, что он совсем стал другим, стал «восторженным почитателем» императорского величества, призывает быть снисходительным к поэту, который призван составить славу отечества. Только у Жуковского, пожалуй, нет зависти к гению Пушкина. Он по-прежнему относится к своему ученику как добрый дядюшка, пытается его урезонить, направить по верному пути, а это значит – стать таким, как все, лицемерить, притворяться, говорить любезности гаденькому, но влиятельному человечку. Жуковский в канун дуэли пытается предупредить Пушкина о готовящейся расправе над ним – Дантес великолепно стреляет: туз – десять шагов, а царь раздражен, мог запретить дуэль, но не запретил. Только что ему были прочитаны новые тайные стихи Пушкина.
В России нет закона,
А – столб, и на столбе корона.
«Этот человек способен на все, исключая добра, – говорит Николай в присутствии своих верных сыщиков Бенкендорфа и Дубельта. – Ни благоволения к божеству, ни любви к отечеству… Ах, Жуковский! Все заступается… И как поворачивается у него язык!.. Семью жалко, жену жалко, хорошая женщина… Он дурно кончит… Позорной жизни человек ничем и никогда не смоет перед потомками с себя сих пятен. Но время отомстит ему за эти стихи, за то, что талант обратил не на прославление, а на поругание национальной чести. И умрет он не по-христиански».
В этих словах Николая I приговор своенравному поэту. Бенкендорфу, понимавшему с полуслова своего повелителя, все ясно. Участь поэта была решена. И хотя Николай повелел «поступить с дуэлянтами по закону», то есть арестовать их и запретить дуэль, но тут же добавил: «Примите во внимание – место могут изменить». И Дубельту после этой фразы все становится ясно: нужно только сделать вид, проявить старание, исполнительность в выполнении указания, а на самом деле дуэль должна состояться. Разговор этот совершенно лишен смысла, если не принимать во внимание интонации. Далее происходит тот же лицемерный разговор, в котором огромный смысл приобретает подтекст: Бенкендорф еще раз напоминает, «чтоб люди не ошиблись, а то поедут не туда». Дубельт хорошо понимает своего начальника и посылает своих подчиненных именно «не туда», где происходила дуэль.
Драма о Пушкине еще не завершена, а пришлось отложить ее, потому что возобновились репетиции «Мольера». Много лет уже тянулась история с постановкой «Мольера», то ярко вспыхивала, то угасала вновь. 5 марта 1935 года режиссер Н. М. Горчаков показал Станиславскому всю пьесу, кроме картины «Смерть Мольера». По воспоминаниям Н. М. Горчакова, старый мастер смотрел репетиции очень хорошо, с живейшим интересом, он сочувствовал героям, улыбался во время комедийных сцен. Потом в присутствии артистов, Н. М. Горчакова и М. А. Булгакова он высказал свои замечания. Эти замечания Станиславского записал помощник режиссера В. В. Глебов: «Считает, что спектакль и пьеса требуют доработки. Главный недостаток С. видит в односторонней обрисовке характера Мольера, в принижении образа гениального художника, беспощадного обличителя буржуа, духовенства и всех видов шарлатанов».
«Когда я смотрел, я все время чего-то ждал… Внешне все сильно, действенно… много кипучести, и все же чего-то нет. В одном месте как будто что-то наметилось и пропало. Что-то недосказано. Игра хорошая и очень сценичная пьеса, много хороших моментов, и все-таки какое-то неудовлетворение. Не вижу в Мольере человека огромной мощи и таланта. Я от него большего жду… Важно, чтобы я почувствовал этого гения, непонятого людьми, затоптанного и умирающего. Я не говорю, что нужны трескучие монологи, но если будет содержательный монолог, – я буду его слушать… Человеческая жизнь есть, а вот артистической жизни нет. Может быть, слишком ярка сценическая форма и местами убивает собой содержание».
В спектакле «много интимности, мещанской жизни, а взмахов гения нет».
С. вступает в спор с М. А. Булгаковым, который утверждает, что Мольер «не сознавал своего большого значения», своей гениальности. И Булгаков «стремился, собственно, дать жизнь простого человека» в своей пьесе.
«Это мне совершенно неинтересно, что кто-то женился на своей дочери, – возражает С. – …Если это просто интим, он меня не интересует. Если же это интим на подкладке гения мирового значения, тогда другое дело». Мольер «может быть наивным, но это не значит, что нельзя показать, в чем он гениален».
С. предлагает расставить нужные акценты («крантики, оазисы»), которые «придадут всей пьесе и спектаклю иное звучание». (цитирую по книге И. Виноградской «Жизнь и творчество К. С. Станиславского», летопись, т. 4, 1927–1938. с. 396–397).
Павел Сергеевич Попов, видимо, выражал в эти дни соболезнование Булгакову в том, что киношники затравили его, требуя от него доработки сценария «Мертвых душ». И потому Булгаков в письме от 14 марта 1935 года писал ему: «…Не одни киношники. Мною многие командуют.
Теперь накомандовал Станиславский. Прогнали для него „Мольера“ (без последней картины, нес готова), и он вместо того, чтобы разбирать постановку и игру, начал разбирать пьесу.
В присутствии актеров (на пятом году!) он стал мне рассказывать о том, что Мольер – гений и как этого гения надо описывать в пьесе.
Актеры хищно обрадовались и стали просить увеличивать им роли.
Мною овладела ярость. Опьянило желание бросить тетрадь, сказать всем: – Пишите вы сами про гениев и про негениев, а меня не учите, я все равно не сумею. Я буду лучше играть за вас. Но нельзя, нельзя это сделать. Задавил в себе это, стал защищаться.
Дня через три опять! Поглаживая по руке, говорил, что меня надо оглаживать, и опять пошло то же.
Коротко говоря, надо вписывать что-то о значении Мольера для театра, показать как-то, что он гениальный Мольер и прочее.
Все это примитивно, беспомощно, не нужно! И теперь сижу над экземпляром, и рука нес поднимается. Не вписывать нельзя – идти на войну – значит сорвать всю работу, вызвать кутерьму форменную, самой же пьесе повредить, а вписывать зеленые заплаты в черные фрачные штаны!.. Черт знает, что делать!
Что это такое, дорогие граждане?..»
Булгаков переделал картины «Ужин короля» и «Собор», внес небольшие поправки и в другие сцены, так, больше для видимости, чем по существу.
В апреле Станиславский провел несколько репетиций «Мольера», «беседует с исполнителями об образах, разбирает роли по линии физических действий, уточняет главное, наиболее существенное в каждом куске и сцене, выявляет отношение каждого действующего лица к Мольеру», «учит актеров типичным для мольеровского времени манерам, ритуалам, жестам, демонстрирует походку архиепископа, как он благословляет короля, как дамы играют своим веером, как кланяются аристократы и т. д.» (цитирую запись В. В. Глебова по книге И. Виноградской «Жизнь и творчество Станиславского», с. 403).
Переделки пьесы не удовлетворяют Станиславского, и он снова возвращается к тексту пьесы, настаивает на том, чтобы автор вновь взялся за доработку пьесы, считает, что автор обкрадывает сам себя и сам себе вредит, потому что в пьесе «много исторически неверного». Булгаков наотрез отказался вставлять в свою пьесу подлинные тексты произведений Мольера, вспоминал позднее Н. Горчаков, для того чтобы, по мнению Станиславского, показать Мольера гениальным комедиографом.
На одной из репетиций В. Я. Станицын, игравший роль Мольера, почувствовал, что Станиславский добивается от него исполнения совсем другого характера Мольера, а не того, каким он изображен у Булгакова. Станицын сказал об этом Станиславскому, но Станиславский настаивал на своем понимании Мольера, считая, что главное в его жизни, что он боролся и его задавили, а не то, что он подличал. Самое опасное, говорил Станиславский, если получится Мольерчик. Мольерчика, конечно, никто не хотел, и прежде всего сам Булгаков.
И в дальнейшем, репетируя «Мольера», Станиславский стремился вложить в игру актеров и актрис несколько другой смысл драмы, чем задумал Булгаков. Драма Мольера приобретала совсем иной характер, а Станиславский все еще надеялся, что автор «сам местами пересмотрит свою пьесу». Его не удовлетворяет текст, он фантазирует, предлагает свои варианты картин, реплик… И написанные Булгаковым картины распадаются, текст взламывается, все нужно создавать заново.
Запись репетиции 17 апреля была послана М. А. Булгакову. 22 апреля в письме Станиславскому Булгаков писал по поводу этой записи: «Ознакомившись с нею, я вынужден категорически отказаться от переделок моей пьесы „Мольер“, так как намеченные в протоколе изменения по сцене Кабалы, а также намеченные текстовые изменения по другим сценам, окончательно, как я убедился, нарушают мой художественный замысел и ведут к сочинению какой-то новой пьесы, которую я писать не могу, так как в корне с нею не согласен.
Если Художественному театру „Мольер“ не подходит в том виде, как он есть, хотя театр и принимал его именно в этом виде и репетировал в течение нескольких лет, я прошу Вас „Мольера“ снять и вернуть мне.» (цитирую по книге И. Виноградской, с. 407).
В ходе многочисленных репетиций «Мольера» возникли противоречия не только между драматургом и режиссером, но и противоречия между актерами и режиссером. Пришлось постановку «Мольера» заканчивать Немировичу-Данченко.
Булгаков во время этого конфликта со Станиславским почти совсем отошел от репетиций «Мольера», и порой ему казалось, что он возненавидел Художественный театр вообще.
Заканчивался сезон в Художественном театре, репетиции «Мольера» со Станиславским практически мало что дали: спектакль по-прежнему был не готов к представлению.
Весной и летом 1935 года М. Булгаков шлифовал пьесу «Пушкин», читал ее в присутствии своего соавтора В. В. Вересаева, спорил с ним, отстаивая, как и в споре со Станиславским, свое право на собственный художественный замысел, на собственное видение того, что предстало перед ним после изучения биографических книг о Пушкине и его времени, после изучения последних дней его жизни.
18 мая 1935 года М. А. Булгаков читал пьесу о Пушкине у себя дома в 12 часов дня, как свидетельствует Е. С. Булгакова, в присутствии В. В. Вересаева, его жены М. Г. Вересаевой, а также артистов вахтанговского театра: Л. П. Русланова, И. М. Рапопорта, Б. В. Захавы и А. О. Горюнова.
На следующий день В. В. Вересаев послал М. Булгакову письмо, с которого и началась эта переписка о пьесе «Александр Пушкин». В. В. Вересаев писал, что он ушел от Булгаковых «в очень подавленном настроении». Конечно, он понимает, что пьеса еще будет отделываться, но ему уже сейчас ясно, что ни одно из его предложений не было учтено автором: «Боюсь, что теперь только начнутся для нас подлинные тернии „соавторства“. Я до сих пор минимально вмешивался в Вашу работу, понимая, что всякая критика в процессе работы сильно подсекает творческий подъем. Однако это вовсе не значит, что я готов довольствоваться ролью смиренного поставщика материала, не смеющего иметь суждение о качестве использования этого материала…»
И действительно, как и предвидел В. В. Вересаев, начались подлинные тернии соавторства.
Наконец Булгаков предлагает Вересаеву предоставить ему полную свободу в доработке готовой пьесы, после этого Вересаев ознакомится с окончательным экземпляром и примет решение, подписывать ли ему вместе с Булгаковым эту пьесу или отказаться от собственной подписи. «Чем скорее Вы мне дадите ответ, тем более облегчите мою работу. Я, Викентий Викентьевич, очень устал».
22 августа 1935 года Вересаев писал Булгакову: «Иного ответа я от Вас и не ожидал. Мне ясен основной источник наших несогласий – органическая Ваша слепота на общественную сторону пушкинской трагедии… Мы говорим на разных языках… Я за лето измучил Вас, Вы измучили меня. Оба мы готовы друг друга ненавидеть. Дальше идти некуда. Делайте с пьесой, что хотите, отдавайте в театр в том виде, в каком находите нужным. Я же оставляю за собой право, насколько это для меня окажется возможным, бороться за устранение из Вашей прекрасной пьесы часто изумительно ненужных нарушений исторической правды и усиления ее общественного фона…»
Слухи, конечно, просочились в широкие театральные и литературные московские круги. Но пока никак не отразились на судьбе пьесы. Вахганговцы и мхатовцы твердо намеревались поставить пьесу к 100-летию со дня гибели Пушкина.
Осенью 1935 года возобновились репетиции «Мольера». Н. М. Горчаков и М. А. Булгаков чуть ли не ежедневно работали с актерами, подгоняли декорации и костюмы вместе с сотрудниками театра. Премьера приближалась… 31 декабря спектакль посмотрел В. И. Немирович-Данченко, решивший в оставшееся до премьеры время кое-что уточнить, помочь актерам в завершении созданных ими образов. 14 репетиций, проведенных Станиславским, сказал он, не так уж много дали, но за результат этого спектакля он не боялся, в целом он будет принят хорошо. Плохо только то, что работая над пьесой, все время хотели ее переделать, изменить авторский замысел. На одной из репетиций исполнитель роли Мольера Станицын спросил Немировича-Данченко: «Как до конца докопаться до основной линии Мольера?» И Немирович-Данченко указал на односторонность в раскрытии образа Мольера, у Станицына Мольер – только актер: «А нам важно, что он актер и писатель. Актер-комик – это только характерность, а главное – писатель. Я от этого и шел. Я иду диалектическим путем. Не может быть, чтобы писатель мог мириться с насилием, не может быть, чтобы писатель не насиловал свою свободу. Таких пьес не бывало, чтобы весь высказался. Цензура не допускала, чтобы гений был революционен. Возьмите, для примера, Пушкина. У писателя есть всегда чувство, что он в себе что-то давит. Вот это чувство я считаю одним из самых важных элементов в образе Мольера».
Но мало что удалось сделать и Немировичу-Данченко. Он провел всего лишь одиннадцать репетиций, изменить стиль представления оказалось невозможным, а не выпустить спектакль на публику он уже не имел права… Столько лет режиссеры и актеры, художники и автор ждали этого спектакля, столько положили сил на его постановку.
Ничто не предвещало драматического конца этого спектакля. Надеялся на благополучный исход истории с «Мольером» и Булгаков. Во всяком случае, Е. С. Булгакова 17 января 1936 года писала матери: «Живем мы чудесно. Правда, за последние два месяца очень устали, так как Миша взял перевод одной мольеровской комедии с французского и пришлось много работать. Вчера только его закончили, вернее, – я переписку, и вздохнули с облегчением. Из-за этого перевода пропустили массу чудных дней – не могли походить на лыжах… На днях генеральная „Мольера“».
В эти зимние месяцы Булгаковы часто бывали в Большом театре, познакомились с композиторами С. С. Прокофьевым и Д. Д. Шостаковичем, дирижером А. Ш. Мелик-Пашаевым, в разговорах с ними возникала идея создать оперу о Пушкине. Удар по этим замыслам был нанесен с неожиданной стороны: 28 января 1936 года появилась разгромная статья об опере Д. Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», поставленной Немировичем-Данченко в Музыкальном театре. Статья называлась «Сумбур вместо музыки». Сразу же после генеральной репетиции «Мольера», состоявшейся 5 февраля, была опубликована статья «Балетная фальшь» о балете «Светлый ручей» все того же Д. Д. Шостаковича.
15 февраля 1936 года наконец-то состоялась премьера «Мольера». Успех был несомненный, с бурными аплодисментами и вызовами автора. Одно за другим последовало семь представлений «Мольера». Появились первые рецензии, первые отзывы: чувствовалось, что общественное мнение формируют давние гонители М. А. Булгакова. О. Литовский в «Советском искусстве» 11 февраля 1936 года, за несколько дней до премьеры, писал, что фигура Мольера «получается недостаточно насыщенная, недостаточно импонирующая, образ суховат». 15 февраля, в день премьеры, в газете театра «Горьковец» были опубликованы отзывы о спектакле Вс. Иванова, Ю. Олеши. А. Афиногенова, которые во всех недостатках, спектакля обвиняли драматурга, а А. Афиногенов прямо заявил, что провал спектакля – «урок печальный и поучительный». Сдержанно высказался о своем Мольере М. А. Булгаков, напомнив, что Мольер «был велик и неудачлив», что в нем уживалось множество противоречивых черт, как и во всяком человеке, и гений в этом смысле – не исключение. Режиссер Н. Горчаков рассказал о работе над пьесой, жанр которой он с легкой руки Немировича-Данченко определил как «историческая мелодрама».
И все это говорилось до премьеры и в день премьеры, а уж потом… Шумный успех «Мольера» у зрителей порождал зависть, братья-писатели из бывших рапповцев опасались повторения такого же успеха, как получилось с «Днями Турбиных». И в газете «Правда» появилась редакционная статья под названием «Внешний блеск и фальшивое содержание», в которой полностью уничтожался спектакль, в основе которого была реакционная, дескать, негодная пьеса. Получалось, что Булгаков извратил и опошлил в своей пьесе историю жизни Мольера, а МХТ поставил своей задачей поразить зрителя блеском дорогой парчи, шелка, бархата и всякими «побрякушками». Театр упрекали в том, что он не жалел «затрат на эту шикарную внешность». Статья эта была опубликована 9 марта, а 10 марта 1936 года «Литературная газета» опубликовала статью Б. Алперса под названием «Реакционные домыслы М. Булгакова», в которой гневно говорилось не только о «Мольере», но и о «Пушкине», которого только предполагалось поставить. 10 марта объявленный «Мольер» был срочно заменен и больше не возобновлялся. А критики добивали «Мольера», и не только критики. Вс. Мейерхольд 14 марта, то есть через пять дней после статьи в «Правде», говорил: «Я сам присутствовал на этом спектакле и у молодого режиссера Горчакова в целом ряде мизансцен, красок, характеристик, биографий видел худшие времена моих загибов. Надо обязательно одернуть, ибо получается, что пышность дана потому, что Горчакову нравится пышность, а добросовестный режиссер обыкновенно очень боится пышности на сцене, так как это яд, с которым можно преподнести публике такую тухлятину, что люди задохнутся».
Казалось бы, все сводилось к тому, чтобы вновь занести меч над головой и на этот раз опустить его без всякой пощады. Но тут произошло одно событие, которое показывает, что все не так уж безнадежно. 16 марта 1936 года О. С. Бокшанская писала В. Немировичу-Данченко: «…Владимир Иванович, совсем по секрету, потому что я знаю, что М. А. Булгаков оторвал бы мне голову, если бы узнал, что я без его ведома и спроса рассказываю о нем. Сегодня утром он вызывался к Керженцеву (председатель комитета по делам искусств. – В. П.), пробыл у него полтора часа. После этого он был в театре, сказал мне об этом факте, а когда я спросила, о чем был разговор, то он ответил, что дело шло о будущей работе, что он еще весь под впечатлением множества мыслей, что он „даже еще не успел рассказать“ и т. п. Словом, впечатление у меня такое, что ему хотели дать понять, что унывать от статьи он не должен и что от него ждут дальнейшей работы. Я его спросила: что ж, это был „социальный заказ“? Но точного определения, что это было, я так и не получила. Сказал он об этом свидании случайно, потому что Керженцев просил его позвонить ему через какой-то срок, а телефона керженцевского он не знает. Вот он за ним и пришел ко мне. Возможно, что дальше Михаил Афанасьевич и не будет делать из этого секрета, но вначале он всегда „засекречивает“ свои мысли и поступки» (ГБЛ, ф. 562, к. 62, ед. хр. 8).








