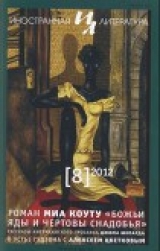
Текст книги "Божьи яды и чертовы снадобья"
Автор книги: Миа Коуту
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
– Понимаю, но надо было предупредить.
– Хотел сам убедиться, что еще не умер.
– И как, удалось?
– Любовь всегда удается.
Любовь, сказал он. Но не слишком убежденно, значит, видимо, хотел сказать другое. Как бы то ни было, традиция соблюдена. Переспал с юной девицей, или, как говорят местные, с не разогретой еще девчонкой. Теперь в услугах врача он больше не нуждается. Он чист, печенки прочистились, кровь процежена, все флюиды стерильны как чистейший самогон.
– Вам бы спать с Мундой, вашей женой.
– Это только от вас зависит, доктор.
– От меня?
– Дайте ей какое-нибудь снадобье от упрямства.
– Какое снадобье?
– Ну вы же доктор… Впарьте какую-нибудь микстуру, чтобы Мундинья ко мне снизошла. Кто знает, может, со временем она опять меня полюбит?
– Нет такого средства. Вы это прекрасно знаете…
– Средство всегда для всего найдется.
Выходя из оврага, старик опирается на плечо португальца, глубоко вздыхает и устремляет взор на облака:
– Это что, небо?
Он что, в самом деле сомневается? Врач бросает на старика косой взгляд. Решает ответить поосторожнее.
– Да, над нами небо, и еще выше небо. Все это небо.
– Стать бы птицей. Птицы не стареют.
Опираясь друг на друга, они шаткой походкой бредут обратно к дому. Однако на механике парадная рубашка, подаренная врачом, аккуратно застегнутая на все пуговицы.
– У меня день рождения не только вчера, но и сегодня, – гордо сообщает он, красуясь из последних сил, несмотря на усталость.
Они идут в гору, подниматься все тяжелее, приходится часто останавливаться.
– Доктор, у меня голова кружится.
– У вас головокружение или нарушение равновесия?
– А в чем разница?
– При нарушении равновесия мы чувствуем, что сами кружимся, а все вокруг стоит на месте. А при головокружении все вокруг кружится, а мы стоим на месте.
– У меня и то и другое, доктор. Мы с миром отплясываем на пару.
У самого дома их перехватывает запыхавшаяся женщина в лиловой мини-юбке и красной широкополой шляпе. Не успев отдышаться, она обращается к Бартоломеу:
– Дедуля, платить кто будет?
Старик окидывает ее взглядом с головы до ног и заявляет:
– Надо ввести униформу для шлюх. Так их легче было бы распознать, – и негодует: – Весь обслуживающий персонал в форме, а про шлюх забыли.
– Давай плати, дедуля, – настаивает женщина.
– Я тебе ничего не должен. Сука, фамба[6]!
Назревает громкий скандал, и врач вмешивается, опасаясь, что дона Мунда услышит. Зеваки уже опять успели столпиться.
– Мы с вами решим этот вопрос, сеньора, – говорит португалец, – приходите завтра в медпункт.
– В денежных вопросах завтра почему-то никогда не наступает. Мне бабки нужны сегодня.
– Говорите, пожалуйста, тише, – настаивает врач. – Вы так всех в доме перебудите.
– Мне бы пробудить совесть у этого типа.
– Я только провожу дедушку домой, – успокаивает ее врач, – и тут же вернусь, тогда мы и поговорим.
– Не вмешивайтесь, доктор, – орет Бартоломеу во всю глотку, – пусть Лиловая поскандалит. Я хочу, чтобы Мунда видела, какой я молодчик.
Сидониу Роза вталкивает Бартоломеу в дом и тут же возвращается, шаря по карманам, выворачивая бумажник. Женщина не сводит глаз с купюр, которые он пересчитывает. У кого живот пустой, у того глаз шустрый.
– Он с вами спал?
– Со мной? Нет, я посредник. Приехала из города, чтобы открыть тут в поселке бюро моментального счастья.
– Почему вы мне возвращаете деньги?
– С вас половина. Старик ничего не делал. Все только твердил имя какой-то другой.
– Другой? Может быть, Мунды?
– Нет, он все звал какую-то Деолинду.
То ли от избытка души, то ли от легочной недостаточности, португалец вдруг начинает хватать ртом воздух. Как рыба, которую вытащили из воды. Когда наконец он задает вопрос, его почти не слышно:
– Деолинда, вы уверены?
– Он еще попросил девушку выключить свет и говорить определенные слова… а еще просил делать странные вещи…
На Сидониу Роза обрушилась Вселенная. Влюбленный старик называл имя возлюбленной? Внезапная неизлечимая старость настигла португальца. Он снова входит в дом, с разбитым сердцем и тяжелой головой. Бартоломеу сидит на кровати, расставив ноги и в одних носках.
– Доктор, прошу вас, искупайте меня.
– Искупать?
– Мунда вечно твердит, что от меня воняет тухлятиной… Так я ей докажу, что благоухаю, как влажная салфетка…
– Я врач, а не санитарка.
– Мне сейчас ни врача, ни санитарки не нужно. Мне нужна помощь друга.
Он встает и, шатаясь, плетется к ванне. Врач видит, как он снимает одежду, видит его тощую, но неимоверно пузатую тень на стене, как в китайском театре теней.
– Если вы меня помоете, это будет не просто услуга, а законная плата.
– Не понимаю, что вы имеете в виду.
– Плата за лекарство, которое вы нашли себе в нашей семье…
– Лекарство?
– Такое снадобье по имени Деолинда.
– Я не знаком с вашей дочерью.
– Я не выхожу из дому, доктор, я заперт в этой комнате, как в тюрьме. Но у меня внутри есть улицы, и по этим улицам приходят ко мне снаружи всякие новости…
Еле удерживаясь за борта, он забирается в старую ванну. Сидониу Роза уходит, оставляя его валяться по шею в мутной воде.
В гостиной тьма, португалец никак не найдет Мунду. Машинально дрожащими руками он отдергивает занавески. Поток света врывается в комнату, мелкие клочья пыли бестолково мечутся по всей гостиной. Сидящая в кресле хозяйка заслоняет ладонью глаза.
– Дона Мунда, с вами все в порядке?
– Все, – сухо бросает она.
– Вы ни о чем не хотите меня спросить?
– Нет.
– Бартоломеу вернулся, он у себя в комнате.
– Я слышала.
– Извините, дона Мунда, но я не понимаю… вы сидите здесь молча и знать не хотите, вернулся ваш муж домой или нет.
– Да он, по-моему, никуда и не выходил.
Вялым жестом она встряхивает пыльную тряпку. Тряпка медленно и невесомо падает на пол без чувств.
– Расхотелось делать уборку.
Если где и наводить порядок, то не в доме. Убрать бы то, чего не существует, вымести бы шепот и вздохи, скопившиеся по углам. Нет, в доме вовсе не пахнет мертвечиной. Тут все запахи вымерли.
– Ну, я пойду к реке. Мне пора. Мы поговорим с вами потом, доктор.
Каждый вечер она ходит на реку плакать. Какая печаль ведет ее туда, никто не знает. Но вот уже несколько недель как она установила себе такой обычай. Там она стоит под водопадом, прислонясь спиной к отвесной черной скале. И плачет.
– Река меня баюкает, как мать младенца. Вот и все…
Врач преграждает ей дорогу. Река подождет, поплакать можно и позже. Надо срочно о многом поговорить: о муже, о том, почему он сбежал так внезапно, о его возвращении.
– У меня есть еще вопрос.
– Мне нравятся только те вопросы, на которые не надо отвечать.
– Когда именно вы перестали спать вместе?
– Ах, вот вы о чем! Зачем вам это, доктор?
– Из медицинских соображений. Когда вы перестали спать вместе?
– Когда я обо всем узнала.
– О чем обо всем?
– Когда, во время любви, он назвал ее имя.
– Чье имя?
– Ее.
– Деолинды?
Мунда кивает. Должно быть, именно тогда Бартоломеу в единственный раз ушел из дома. Ушел из дома, ушел из ее жизни, ушел из мира.
– С тех пор я не хотела, чтобы он ко мне прикасался.
– Вы говорили с ним об этом?
– Нет, мне и так все было ясно.
– Но он мог просто мечтать о Деолинде и при этом ничего…
– Женщина всегда угадает. Жена почувствует. Мать поймет.
– За это вы и хотите его убить?
Она кивает и повторяет: «Да, за это». Годами она искала дополнительные улики кровосмесительной измены. Но в глубине души не хотела никаких доказательств. Боялась, что уверенность в его вине лишит ее желания наказывать. Предпочитала не стирать окончательно пыль сомнений.
– Временами я думаю, что уже не стоит убивать его. Он разучился жить.
– Ваш муж просто болен.
– Эта болезнь не случайна. Я ее заказала.
– Снова о колдовстве. И вы туда же, дона Мунда?
– Вы, доктор, тоже колдун. Только боитесь взяться за дело как следует.
– Я вот что вам скажу: если хотите его убить, воспользуйтесь собственными средствами.
– Может, муж и прав, что я колдунья. Например, вас я предсказала…
– Меня?
– Мне приснилось, что вы приехали. И привезли снадобье. Смертельное снадобье…
Врач обеими руками отталкивает от себя воздух, отвергая не просто мысль, а нечто большее. Смерть? Все было задумано наоборот: он принес с собой Жизнь, исцеление, смерть Смерти.
– А теперь, доктор, извините, но мне надо идти. Задерните, пожалуйста, занавески.
Темнота – одежда дома и саван для зеркал. В солнечном свете жилище Одиноку выглядит почти непристойно.
– Я пошла. Вы не подождете меня здесь?
– Куда вы?
– Я же сказала, к реке. Ненадолго.
– Я подожду.
– Вот наплачусь вволю, вернусь, расскажу вам еще чего-нибудь про Деолинду. И покажу кое-что.
– Что?
– Другие ее фотографии.
Глава четырнадцатая
– Дона Мунда приходила, – сообщает медсестра, встречая португальского врача в дверях медпункта. Так мало событий происходит в поселке, что любой пустяк приобретает космические масштабы. Надувая щеки от радости, что есть о чем рассказать, сестра добавляет подробностей:
– Только что ушла. Оставила вам вот эту записку.
Прочитав несколько слов, нацарапанных на листочке, врач меняется в лице и срывает с себя только что накинутый на плечи халат.
– Куда она пошла?
– Домой, прямо домой. Взяла коробку с уколами и пошла домой.
– Коробку шприцев?
– Сказала, что вы ей велели забрать это и отнести к себе домой.
Врач выбегает на улицу. Не будь он так взволнован, заметил бы, какая лунная выдалась ночь. Лунный свет заливает пустые улицы поселка, как морской прилив. «Лунная пора», – говорят местные, будто лунный свет это такой фрукт по сезону.
В этот раз доктору чистейший лунный свет пригодился только, чтобы ускорить шаг. Надо спешить, нельзя допустить преступления. Он врывается в дом Одиноку и застает жену у изголовья распростертого на кровати мужа.
– Что вы с ним сделали?
– Не я с ним, а он со мной. Видите, что я нашла у него в ящике?
Она показывает фотографию юной красавицы, мулатки. Портрет сделан на церемонии по случаю окончания курса: на девчушке длинная черная мантия, с которой так не вяжется радостная полудетская улыбка.
– Это она! – утверждает Мунда.
Это она: юная любовница, как раз из тех, о которых старик давно мечтал. Врач рассматривает фотографию и вспоминает детей-солдат: одна и та же печальная участь ожидает малолетних наемников и девочек-проституток.
– Я всегда подозревала, доктор, всегда. Когда Деолинда пожаловалась, я приняла его сторону. Но не потому что верила ему, а из страха узнать правду.
Бартоломеу корчится и стонет, чуть не падая с кровати. Врач садится рядом с ним, выслушивает, выстукивает, оценивает жизненные показатели.
– Вы сделали мужу укол?
– Не помню, доктор.
Дыхание старика на мгновение прерывается, он замирает, но потом начинает метаться с новой силой.
– Выйдите. Я хочу остаться один на один со своим мужем.
– Не знаю, дона Мунда. Мне ведь надо следить за его состоянием. Это мой долг.
– Нет у него никакого состояния. Посмотрите на шприц: я к нему не притрагивалась. Никакого укола я ему не делала.
Врач недоверчиво разглядывает пузырек на свет. И даже после этого опасения его не покидают.
– Пожалуйста, оставьте меня одну с Бартоломеу, – настаивает она.
– Скажите, а нет ли у вас случайно еще одного шприца?
– Нет. Я не хочу делать ему ничего плохого. Хотелось его убить – да расхотелось.
Бартоломеу тем временем приходит в себя. Его мутный взгляд бродит по комнате и натыкается на фотографию, лежащую на коленях жены. Он догадывается, о чем говорят жена и доктор. Мунда встает и аккуратно кладет фотографию у самого лица мужа.
– Вот с ней и оставайся! – таков ее приговор.
Она делает несколько шагов к двери. Прежде чем выйти, оглядывается и надолго замирает, невидящим взглядом уставившись на мужа. Прощается?
– Жена! Подойди ко мне, – умоляет старик.
– Не называй меня женой. Твой грязный рот не достоин произносить это священное слово.
Он поднимается, волоча за собой постельное белье, и плетется, путаясь в простынях ногами. Фотография пляшет в его руке, он похож на безумного пророка.
– Мунда, эта девушка – Иза…
– Никаких имен! Не смей произносить имя этой женщины в моем доме!..
Лицо и имя соперницы. Нож в сердце, рукоятка которого наточена острее, чем лезвие. Хочешь вырвать его и ранишь себя еще больнее. Вот, наверное, почему внезапно, одним прыжком, оказавшись рядом с Бартоломеу, женщина выхватывает у него фотографию и рвет ее в клочья. Старик, не шевелясь, смотрит, как на его глазах портрет разлетается на кусочки. Сквозь слезы, дрожащими губами он бормочет:
– Эта девушка – моя дочь!
Комната замирает на полувздохе. Обрывки фотографии пляшут в воздухе, как мотыльки.
– Она моя дочь, – повторяет он.
Оба опускаются на стулья, будто осев под тяжестью внезапно открывшейся истины. То, что слов не слышно, вовсе не означает молчания. Бартоломеу, кажется, хочет одновременно заговорить на всех языках. Наконец, преодолев немоту, он начинает торопливо разматывать клубок бед и перипетий своего прошлого. Из-за этой девочки он терпел долгую разлуку с домом, унижения от заморских расистов, обидные обвинения Уважайму.
– Я дочь навещал.
Он навещал ее каждый раз, когда корабль отправлялся к берегам Лиссабона до тех пор, пока в апреле 1974-го, при выходе из порта Сан-Томе, на корабле не было получено известие о падении колониального режима. Корабль остановился, ждали дальнейших известий, говорили, что рейс прерван «по техническим причинам». Капитан вызвал Бартоломеу и командира машинного отделения. Инструкции были лаконичными:
– Мы стоим из-за поломки. Вам понятно?
Нет, не понятно. Не было на судне никакой поломки. Это режим господ поломался, и капитан скорбел о нем, как о покойнике. Возвращаясь в утробу судна, Бартоломеу видел, как ликуют пассажиры и матросы. На палубе – ликование, в рубке – поминки.
– Капитан – козел, фашистская морда! – изрек один из механиков.
В машинном отделении хохотали, пели и пили.
– Спляшем, Бартоломеу. У нас праздник.
– Работать надо.
– Ты что, не понял? Все это дерьмо закончилось: работа, корабль, рейсы – все в тар-тарары.
Праздновали всю ночь. Бартоломеу Одиноку, запершись в своей крошечной каюте, погружался в бездну отчаяния. Он знал, что больше не увидит дочь. Через пару дней, высадившись на берег в Лиссабоне, Бартоломеу не бросился сразу в Амадору, а прежде прошелся по улицам и площадям: повсюду толпы скандировали лозунги. На Россиу он стащил с карниза какие-то гвоздики (их было полно повсюду) и отнес их дочери в знак прощания.
Вот эту историю он держал долгие годы в тайне. Рассказ вымотал его окончательно.
– Теперь ты понимаешь, Мундинья? Понимаешь, почему я так долго болтался туда и обратно на этом проклятом судне? Я дочь навещал…
– Как ее зовут?
Он не отвечает, боится, как бы не разразилась буря. Мунда повторяет вопрос:
– Назови имя этой… ну… твоей дочери.
– Иза… Изадора.
Женщина сквозь зубы шепчет это имя. Твердит его, как будто боится забыть. Бартоломеу набирается смелости:
– Ты меня прощаешь?
– Ни за что!
– Я знаю, о чем ты думаешь, Мунда. Но той женщины, матери девочки, считай, не было.
Он объясняет: с матерью Изадоры все случилось один только раз. Она вскоре умерла. Бартоломеу узнал об этом в следующем же рейсе, когда дед Изадоры встретил его на пирсе с младенцем на руках. Он, отец, мог быть спокоен: девочка в заботливых руках, и у нее есть крыша над головой.
– Так что матери никогда и не было, – повторяет старый механик.
– Нет, не прощу, не могу простить, – упорствует Мунда.
– Я только тебя любил, одну тебя. Никакой другой женщины не было.
– Муж, да ты дурак.
– Ладно, ругай меня.
– Ты что, не понял, Бартоломеу? Мне до твоих женщин дела нет. Я не могу тебе простить, что ты украл у меня эту дочь.
Мунда задумывается, как будто не находит слов под стать чувству.
– Ты отнял у меня эту девочку.
Она удаляется величавой поступью королевы, повторяя, как молитву: Изадора, Изадора, Изадора. Завернутый в простыню, как в мантию, Бартоломеу – вылитый свергнутый монарх, гневно воздевающий длань:
– Эта женщина – ведьма!
Врач помогает ему вернуться в кровать. Старик ворочается, устраивается поудобнее, натягивает простыню до подбородка. Внезапно начинает казаться, что под белым полотном нет никакого тела. Бартоломеу так и застывает, безвидный и пустой, но вдруг одним движением скидывает простыню и зовет:
– Доктор!
Сверкающий взгляд впивается в португальца и хриплый, даже нарочито хриплый голос произносит:
– Я знаю, что вы не врач!
– Что?
– Вы не врач. Вы всех обманываете – вот так.
– Вы видели… Верните папку!
– Вы не врач, и об этом узнает весь поселок. Вас выставят отсюда, не успеете и глазом моргнуть.
– Я просто не полностью окончил курс… Осталось несколько предметов…
– Вы не врач.
– Прошу прощения, я только хотел…
– А если бы наоборот? Подумайте, что было бы с африканцем, которого в Европе поймали бы с поддельными документами?
– У меня документы не поддельные.
– Верно. В документах-то все правда. Это вы поддельный.
Врач решает, что разговор окончен. Теперь придется жить под постоянной угрозой, он бредет вон из комнаты, и от стыда у него заплетаются ноги.
– Куда же вы? – спрашивает старик, внезапно смягчившись.
– В пансион. Все ведь уже ясно.
– Вам незачем уходить.
– Мне здесь больше нечего делать.
– Забудьте, что я вам наговорил. А я забуду остальное.
– Не знаю. Я не могу.
– Все это не имеет значения: вы не настоящий врач, но и я не больной.
Здоровье ни при чем. Он умирает от тоски по Жизни. Механик разглядывает свои кулаки. На руках время должно оставлять меньше следов, чем на лице. Ведь именно руки делают нас людьми. Руки сделали его механиком. А с такими суставами будет трудно теперь сложить ему руки на груди, когда помрет. Он вновь берет слово:
– Не беспокойтесь. Все останется между нами. Для нас вы всегда останетесь доктором. Моим личным врачом.
– Не знаю, что и сказать.
– Только вот одно условие: никогда больше не спрашивайте, что у меня болит.
Как он может понять, что именно у него болит, когда он весь – сплошная боль? Когда ему больно быть человеком в мире, где человеку нет места?
– Я не умереть боюсь. Я боюсь снова родиться.
Вот потому-то ему никак не удается отправиться на тот свет. Так и живет по инерции, как ногти растут.
– То, что вы врали, будто у вас есть диплом, – полбеды. Я другого не могу вам забыть.
Бартоломеу с трудом поднимается, достает из шкафа оставленную врачом папку и с размаху вываливает все ее содержимое. Множество конвертов рассыпается по полу.
– Вы ни разу не отправили ни одного моего письма. Вот в чем главный обман!
– Я собирался отправить их, когда поеду в город.
– Но уж теперь поклянитесь мне, что это письмо вы отошлете. Я в нем прощаюсь с Изадорой.
– Обещаю.
– Это мои последние красные гвоздики.
Глава пятнадцатая
На площади сквозь толпу Мунда разглядела доктора. Он сидит в открытом кузове грузовика, мотор работает, воздух раскрашен сизой дымкой, машина вот-вот тронется. Судорожно запахивая на груди капулану, Мунда бросается на перехват португальца:
– Уезжаете, доктор?
– Еду в город. Не могу больше ждать сложа руки. Буду искать Деолинду.
Мунда завязывает, развязывает и снова завязывает концы ткани на талии, как будто пытается привязать к телу слова.
– Нашли же вы время, доктор.
– По-моему, время самое подходящее. Пора.
Время самое подходящее, повторяет он, будто пытается уговорить себя. Эпидемию менингита он одолел, вчера уже убрали палатки полевого лазарета. Что еще держит его здесь?
– Да уж, доктор, нашли вы время, – повторяет Мунда. – Именно сегодня Бартоломеу чувствует себя намного хуже.
– Ему стало хуже?
– Когда вернетесь из города, застанете труп.
– Дайте ему таблетки, которые лежат на комоде.
– Вы же знаете, что из моих рук он лекарств не берет.
– Не понимаю. Еще вчера вечером он утверждал, что ему гораздо лучше.
– Он умирает. До завтра не протянет.
– Я не могу теперь к вам приходить, дона Мунда. Он разве не сказал вам?
– О чем?
– Он не сказал, что я не врач?
– Ерунда. Вы очень даже врач, а он уж тем более больной.
Шофер нетерпеливо жмет на клаксон. Время – деньги.
Пусть проезд стоит мелочь, но в этих краях одна монетка – целое богатство. Шофер газует, дым становится гуще, женщины кашляют и машут руками, разгоняя смог.
– Дона Мунда, позаботьтесь о нем, пожалуйста, пока я не вернусь. Мне надо ехать.
– Поезжайте, доктор, поезжайте, может, он и выживет, может у бога хватит терпения.
Нога водителя опять нетерпеливо жмет на педаль, все вокруг в последний раз заволакивает облаком выхлопных газов. Дона Мунда бредет прочь похоронным шагом, думая, что врач все еще провожает ее взглядом, желая убедиться, что она как раз переходит из состояния полувдовы в состояние вдовы полноценной.
Дойдя до своей улицы, Мунда останавливается, неожиданно услышав знакомый голос:
– Ну вот, я тут…
– Доктор Сидониу! Так вы все же не уехали?
– Идемте, посмотрим вашего мужа. Если его состояние настолько ухудшилось…
Он сам распахивает двери и решительно устремляется вперед чуть ли не бегом, оправдываясь и жестикулируя для пущей убедительности: «Я всего-то на день и собирался. Завтра бы уже был здесь». Следуя за ним по пятам, Мунда вводит его в курс дела: вчера Бартоломеу внезапно стало хуже, всю ночь его рвало, как удавленника.
– Скажите мне, дона Мунда, вы вводили ему какое-нибудь… какое-нибудь лекарство?
– Вводила? Мне нравится это слово: вводила…
– Я серьезно, дона Мунда. Вы что-нибудь давали мужу?
– Да ладно вам, доктор! Разве змея от яду помрет?
На этом разговор окончен. Врач глядит в спину хозяйке, возвращающейся на кухню.
К Бартоломеу он входит без стука. Тот сидит, свесив ноги с кровати, между ступней – ночной горшок. Он смотрит на врача с усталым недоумением, как будто наконец нашел ключ, да только представления не имеет, от какой двери.
– Ну вот я и отчаливаю, – голос старика почти не слышен.
– Нет уж, друг мой, придется подождать, – успокаивает врач.
– Я крестьянский сын. Мне не привыкать: полжизни только и делаю, что жду, – и заключает: – Кто научился ждать дождя, тот и неба дождется.
«Как бы не так», – думает Сидониу. Бывает такое ожидание, которому не научишься. На дворе потоп, а ты все ждешь дождя. Потому что не той воды дожидаешься.
Врач пробует понять, есть ли у больного температура, руку – на лоб. Бартоломеу подчиняется, голову повесил, как будто его приласкали. Но через мгновение руки его – внезапные змеи – скрещиваются на животе. Колика гнет его в три погибели:
– Собственное брюхо меня же и пожирает.
– Давайте я посмотрю, в чем дело.
Руки профессиональным движением пробегают по животу. Старик сопротивляется: пытается встать, шатается и тяжело обрушивается на диван.
– Шторм сегодня… Все так и пляшет, я, видно, снова на «Инфанте Доне Генрихе».
– Вам надо пить побольше жидкости.
Ни за что! Пусть врач даже и не думает вводить в его организм что-то постороннее. Пусть лучше уберет ненужное: излишки и наросты, яды, отравляющие его печенки.
– Доктор, вы что-то давно у меня кровь не брали. Надоело вампирить?
– Кровь берут только в случае необходимости.
Старик смеется. Он знает, почему у него кровь не берут: его вены стали тверже любой иглы. Все внутренности затвердели: артерии превратились в кости, а вены – в камни. Изнутри он уже, считай, давно мертв.
– Доктор, вы уж предупредите, когда мое время придет.
– Договорились.
– Мне надо будет вам признаться кое в чем серьезном.
– Давайте прямо сейчас.
– Нет, когда уж совсем на ладанку дышать буду.
– На ладан. Дышать на ладан.
– Доктор, вы мне здоровье поправляйте, а не грамматику. Я ведь – без ложной скромности – в колониальные времена учился.
И с иронией добавляет:
– И не скажу, что мне, мол, осталось всего несколько предметов, как некоторым моим хорошим знакомым…
– Вы, кажется, хотели мне в чем-то признаться. Я жду.
Механик долго гримасничает. Видно, ждет, что перевесит, боль или решимость. Потом дрожащим голосом произносит:
– Десять лет назад Деолинду изнасиловали.
– Деолинду? Изнасиловали?
Ей было всего пятнадцать лет, она была совсем девчонка. Развитая, конечно, но ребенок совсем.
– И кто ее изнасиловал?
– Она вам никогда не говорила?
– Кто?
– Мунда.
– Я об этом в первый раз слышу.
– Я потому и боюсь, доктор. Боюсь, что она мне отомстит.
– Кто, простите? Деолинда или Мунда?
– Моя жена.
– Но при чем тут вы?
– Она думает, что это сделал я. Сколько бы я ни клялся, ни божился, у нее вечно в голове эта страшилка.
– Даже не знаю, что сказать. Боже мой, Деолинду… изнасиловали…
– Поэтому мне не нравится, когда вы вместе…
– Мы? Кого вы имеете в виду?
– Вас с Мундой.
Когда он видел, как доктор шепчется с Мундой, ему всегда казалось, что они договариваются о том, как свести с ним счеты.
– Мунда никогда со мной об этом не говорила.
– Она отомстит, я знаю.
Перепутает лекарство. Или дозу. Подсунет сладкий яд. Мало ли способов по-тихому отправить его к праотцам? Тем более что он и так уже еле жив. А она спит и видит…
Старик встает, роется в комоде, закуривает, шумно вздыхает. Кашель, которым он тут же заходится, уже не назовешь гулким: в организме старика не осталось пустот. Грудь прилипла к спине.
Врач заговаривает снова:
– Мне придется на некоторое время уехать.
– Куда вы собрались?
– В город. Сегодня же.
– Зачем?
– Срочные дела.
– Не ездите, доктор. Я вам говорю: не ездите!
– Извините, но есть вещи, которые от моего желания не зависят.
– Я вам скажу кое-что, подвиньтесь поближе: это секрет.
Португалец в недоумении подходит и склоняется навстречу кислому дыханию больного.
– Будьте осторожны, доктор.
– А в чем дело?
– А в том, что я знаю, кто вы. И другие тоже могут узнать.
– Вы угрожаете мне, Бартоломеу Одиноку?
– Знаете, что случилось с португальцем, который был здесь до вас?
– С тем, что жил в пансионе?
– К нему ворвались в комнату и, если бы не Уважайму, забили бы ногами до смерти.
Предыдущего португальца обвинили в том, что он торгует органами.
– С нас ведь тут ничего, кроме тела, не возьмешь.
Сидониу бледнеет, разом припомнив все мифы об опасном и непредсказуемом континенте.
– Только органы у нас и остались, – повторяет Бартоломеу.
– Вы думаете, меня могут принять за торговца органами?
Старик не отвечает. Врач решает уйти, но отчего-то медлит. Затворив за собой дверь, он стоит, прислонившись к стене, в коридоре. Прислушивается к глухому кашлю больного. Закрывает глаза и чувствует, как что-то касается его лица. В ужасе машет руками, опрокидывает цветочный горшок, тот разбивается, по полу рассыпается земля. Врач хватает засохший декоративный папоротник, отряхивает корни и несет его, сам не зная зачем, прочь из дому.
– Что вы делаете, доктор? – удивленно вопрошает Мунда.
– Растение погибло, дона Мунда. Мертвецам в доме не место.
– Это Деолиндин цветок.
– Я знаю, она писала о нем в письме.
– Папоротник не от темноты засох, а от тоски по Деолинде.
Опуская пожелтевшие листья на холодный камень двора, португалец думает о том, что ни разу в жизни не посадил и не посеял ни одного растения. Возможно, он единственный взрослый в поселке, кто не испытал подобной связи с землей. И это куда важней, чем какая-то там раса.
– Я в жизни ничего не посеял.
– Посеете еще.
– Что же я посею?
– Не «что», а «кого». Вы Барту посеете.
Мунда объясняет: все мы в конечном счете сеятели костей. Городские, деревенские, белые, черные: все мы сеем тех же мертвецов в ту же землю.
Потом хозяйка протягивает руку, чтобы забрать у португальца папоротник. Но пальцы врача никак не разжимаются, и Мунде едва удается освободить растение.
– Что случилось, доктор?
– Я все думаю о Деолинде. Правда, что ее изнасиловали?
– Есть вещи, о которых я не в силах помнить.
– Значит, правда.
Она снимает с корня комок песка и яростно растирает песчинки между пальцами.
– Даже корень засох, – говорит и отбрасывает поблекшее растение куда-то в сторону. Сметает землю в угол двора. Спрашивает, не переставая мести:
– Вы только о Деолинде хотите знать? Обо мне не хотите?
Смысл вопроса не доходит до Сидониу. Метла нервно шаркает по камню, как ногтями скребет землю.
– Вы как-то сказали, что я красивая.
– Сказал и готов повторить.
– Я была красивая, пока было чему радоваться. Но вот вы врач, а не заметили, что больной в этом доме – не один.
– Вы никогда не жаловались.
– Хороший врач чует боль еще до того, как больной ее почувствует.
– Что же с вами?
– Посмотрите. Иногда у меня так жмет вот здесь, между грудей. Видите, сегодня я даже лифчик не надела.
Врач то ли растерянно взволнован, то ли взволнованно растерян. Он поднимает руку, чтобы помешать ей и дальше расстегивать блузку. Женщина смотрит на него зло и решительно:
– Вот я спрашиваю себя, доктор, неужели вы не задавали себе вопроса: чем занималась молодая, красивая женщина, ожидая мужа годами, когда каждый год за сто?
– Не знаю, дона Мунда. И чем же эта женщина занималась?
Мунда осуждающе качает головой. Доктор наверняка задавал себе вопрос, и чем это занимался Бартоломеу в своих странствиях по миру. С завистью воображал себе его любовные похождения: в каждом порту привет-прощай.
– Но ведь и у меня, если, конечно, вы обратили внимание, есть тело.
– Обратил, – с трудом выдавливает он.
– Женщины не ждут так терпеливо, как вы, мужчины, воображаете.
– И с кем же вы «не ждали», дона Мунда?
– Вы не поверите.
– А вы скажите.
– Не могу.
– Теперь придется.
– Тогда признаюсь: я изменяла Бартоломеу со своим злейшим врагом.
– И кто же это?
– Алфреду Уважайму.
– С Уважайму?
– Тогда его так не распирало от важности, как сейчас. Он был совсем другим.
– И когда же вы перестали встречаться?
– Когда он в самом разгаре любви вдруг назвал ее имя.
– Чье?
– Деолинды.
– Простите, не верю. Вы же говорили, что это было с вашим мужем.
– Вы ошиблись.
– Нет, вы говорили. Вы утверждали, что ваш муж в самый интимный момент, как будто во сне, проговорился о Деолинде…
– Я никогда этого не говорила.
– Говорили. Вы говорили, что перестали спать с ним, после того как у него вырвалось ее имя.
– Я не о Бартоломеу говорила. Я говорила об Уважайму. Это он назвал имя Деолинды.
Дело было так: Мунда и Уважайму тайно встречались до того рокового дня, когда она внезапно прозрела и поняла, что спит с любовником своей дочери. И именно тогда она смогла осознать, насколько погрязла во лжи. Но вместо того чтобы винить Уважайму, она обрушила свой гнев на мужа. Ей казалось, что именно Бартоломеу заслуживает наказания.
– С тех пор я перестала спать с ним.
Врач уходит. Теперь он убежден, что вокруг него давно уже плетется густая паутина лжи. Как бы Мунда ни клялась, что все это правда, слишком уж замысловата интрига при столь малом количестве персонажей.
– Вы смотрите на Мглу, и вам кажется, что здесь полно народу. Но нас, мулатов и ассимилированных негров, по пальцам можно пересчитать.







