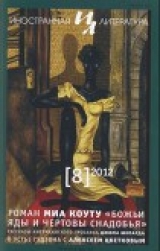
Текст книги "Божьи яды и чертовы снадобья"
Автор книги: Миа Коуту
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
– С чего это оно проклято? Разве не там похоронен твой прапрапра– (не знаю, сколько раз пра-) дедушка немец?
Бартоломеу не знал, как быть. Выбросить цветок, то есть руку, в ведро? У него не хватало смелости сделать это и не хватало сил, чтобы не делать. В конце концов он просто стал обходить кувшин стороной. Но кто ж знал, что нерешительность очень скоро выйдет ему боком? На следующий день из руки закапала кровь. И вместо воды в прозрачном кувшине появилось что-то розовое. Дона Мунда предупредила:
– Дождешься: тут целое тело вырастет.
На этом месте Бартоломеу вдруг замолк, как будто сразу забыв обо всем на свете.
– Так что же случилось с рукой? – спрашивает врач.
– С какой рукой?
– С рукой, в которую превратился цветок, вы ведь мне сейчас об этом рассказывали.
Как подвешенный в вакууме, Бартоломеу Одиноку странно смотрит врачу в глаза и бормочет:
– В другой раз расскажу. Сейчас я очень устал.
Что мы видим? Цветок себе и цветок. Но это иллюзия: цветок – это ведь часть целого растения. Цветок живет в тонком стебле, тянется в глубину корнями; цветок – это земля вокруг, это вода, которую он впитывает и превращает в свой сок. Сорвать цветок на кладбище – значит потревожить землю, приютившую мертвых. Видимо, так и случилось: кладбищенский песок оказался на лепестках, комната стала порченой, а дом – проклятым. Но ничего этого механик не вспомнил. Он отвлекся и вообще жалел, что заговорил на эту тему.
– В другой раз расскажу. Сейчас душа слишком болит.
– Так почему бы вам не прилечь? Не успеете и глазом моргнуть, как будете уже спать без задних ног.
– Без чего?
– Без задних ног. Это такое образное выражение.
– Без чего я заснуть не могу, так это без таблеток.
– Вот увидите, сегодня ночью вы уснете сном праведника.
– Кого?
– Это еще одно образное выражение.
– Знаете что? Я чувствую, что мои печенки возвращаются обратно в брюхо. И это не образное выражение.
– Хороший признак. Печенкам и положено пребывать в брюшной полости.
– Лекарство, которое вы мне дали месяц назад, подействовало.
Сидониу уже и забыл, что выписывал. Но виду не подает: нельзя подрывать веру во всемогущество врача. Надо беречь авторитет.
– Вот и хорошо, вот и славно.
– А не выпишете мне его еще раз?
По рассеянному «да, да, конечно» становится понятно, что говорить уже не о чем. Врач встает, чтобы откланяться, но вдруг вспоминает о деле, которое может задержать его еще ненадолго. Хочется оттянуть возвращение в пансион, где он часами маринует себя в тоске и тревоге, как бывает со всяким, кто не умеет ждать.
– А, так значит сегодня мне не положен очередной сон?
Годы затуманили голову Бартоломеу. Он уже не помнит недавних снов. Поэтому рассказывает только старые сны. Некоторые, как он говорит, старше, чем он сам.
– Сядьте, доктор. У меня есть для вас сон, очень хороший сон, просто первоклассный. Но вы же знаете: за сон с вас причитается.
– Договорились.
– Сигаретку?
Португалец присаживается на угол кровати, сложив руки на коленях. В глазах у него детское любопытство. Старик рассказывает:
– Мне этот сон приснился… дай бог памяти… да-да, как раз в ночь на пятое февраля 1989… нет, погодите… возможно, не тогда, а накануне… ну, в общем, если не пятого, то уж точно четвертого.
– Плюньте вы на даты, Бартоломеу, главное – о чем сон.
Врач сам удивляется своему нетерпению. Здесь, где нет других способов бегства от действительности, пересказы снов Бартоломеу заменяют дневной киносеанс. Голос больного заволакивает все светящейся дымкой, и португалец вспоминает свой город, его неясный гул, улицы, кишащие машинами и прохожими. Вспоминает он и Деолинду, их короткую и яркую встречу на фоне белизны португальской столицы.
Когда Сидониу возвращается к реальности, история Бартоломеу уже в самом разгаре: «…в ту ночь шел дождь…»
– Во сне?
– Э, доктор, да вы никак поэзией маетесь. Где это видано, чтобы во сне дождь шел?
– Я? Поэзией?
– И это не сейчас началось. Давно замечаю: поэзия из вас так и прет. Например, когда вы мне советуете урезать потребление жидкостей…
– По-вашему, это поэзия?
– А что же еще? Резать жидкость? Можно резать по дереву, резать ткань, резать не знаю что еще, но скажите мне, доктор, какой такой нож может разрезать жидкость? Только поэтический.
– Это не меня, а вас в последние дни вдохновение не оставляет, мой дорогой Бартоломеу.
– Ну точно. А вот еще: вы говорите, что я слишком много воды пью и это действует на почки. Надо быть настоящим поэтом, чтобы решить, будто те литры воды, что я выпью, заставят распуститься хоть одну почку…
Да и сам Бартоломеу Одиноку когда-то поэзией не брезговал. Вот он в сотый раз выдвигает ящик комода, чтобы перечесть в блокноте то, что написал давным-давно о времени и о мыслях. Потом выходит на середину комнаты и изображает, будто читает с невидимого листа: «Когда нам 10 лет, все говорят, что мы смышленые, но самостоятельно мыслить пока не умеем. Когда нам 20, все говорят, что мы очень даже бойкие, но чтобы не лезли со своими мыслями. В 30 нам кажется, что вокруг вообще нет мыслящих людей. В 40 нам становится очевидно, что все чужие мысли – наши собственные. В 50 нам хватает мудрости не слишком задумываться. В 60 кое-какие мысли у нас еще есть, но мы то и дело забываем, о чем думали. В 70 стоит нам начать думать, как мы тут же засыпаем. В 80 мы только во сне и думаем». От внезапной слабости рука у Бартоломеу опускается, он мотает головой, как будто сам потрясен собственным творением:
– Мунда говорит, что это не я придумал. Но я написал это на борту «Инфанта дона Генриха». Я там тоже поэзией маялся.
Португалец смотрит на старика с состраданием. Несуществующий лист бумаги, зажатый в его безвольной руке, для него неподъемный. И сам Сидониу Роза вдруг чувствует, что резко состарился. Возраст – болезнь, настигающая скоропостижно, когда меньше всего ждешь. Разочаровался, отказался от надежды – и готово. Мы – повелители Времени, но только до тех пор, пока Время не вспомнит о нас.
– Вам надо выходить, бывать на солнце. А то скоро станете того же цвета, что и я.
– Вы никакого ни цвета, доктор. У людей не бывает цвета. Или бывают такие цвета, которым не придумали названий.
Глава восьмая
– Я велел пригласить вас ко мне, дорогой мой доктор, потому что существуют вопросы, которые надо решать под сенью цивилизованного домашнего очага.
Администратор Уважайму подчеркивает слово «велел». Он – власть. Вершит судьбы и местных, и иностранцев. Иностранец, которым можно распоряжаться, правда, всего один. Сидит в гостиной, в кресле, не решаясь – из почтения к хозяину дома – класть ногу на ногу.
– Так вот, я велел позвать вас, – опять с нажимом повторяет чиновник, – чтобы поговорить о ситуации в поселке. И лучше всего сделать это тут, в уютной домашней обстановке.
Уют уютом, но в целом обстановка точно такая же, как в резиденциях администраторов по всей стране: коричневый диван искусственной кожи с вышитыми салфетками в изголовье, тяжелый шкаф темного дерева с застекленными секциями и зеркалами, на книжных полках для красоты – пустые коробки от бутылок виски. Похоже, Уважайму проследил за взглядом гостя, потому что в тот же миг отдает приказ:
– Женуля, принеси-ка виски нашему доктору.
– Спасибо, не стоит, я не пью.
– А я не пью ничего другого. Для меня, кроме виски, никакого питья не существует.
Дона Женуля приносит полную бутылку на черном пластмассовом подносе с белыми, якобы перламутровыми, инкрустациями. Налив одну рюмку, она делает легкий поклон и удаляется, протяжно шипя: «Сссс вашшшего разрешшше-ния».
– Оставь нам бутылку: время-то еще детское.
Чиновник громко прищелкивает языком, одобряя вкусовые качества напитка. Бедняки, возможно, недолюбливают богатых, но кого уж они откровенно ненавидят, так это тех, кто еще беднее. Настоятельная потребность отмежеваться от нищебродов, то есть практически ото всех остальных мглян, сквозит в каждом жесте и в каждом слове Уважайму.
– По поводу этой загадочной болезни, что тут у нас свирепствует… Вы уже приняли надлежащие меры?
– Я считаю, что это менингит.
– Эта болезнь, скажем так, заказная?
– Не понимаю.
– Я спрашиваю, не мог ли кто… скажем так, политический противник, заказать.
– Это болезнь, возникающая чаще всего там, где имеются большие скопления людей в закрытых помещениях. Именно поэтому большинство заболевших – солдаты…
– Люди думают, это сглаз.
– Люди не думают…
Уважайму предугадывает аргументы европейца и поднимает руку ладонью вперед, чтобы подкрепить свои доводы. Доктор должен его понять.
– Может, это и болезнь. Но болезнь, вызывающая судороги, здесь во Мгле – не просто болезнь.
Слухи расползлись, как огонь по сухой траве. Где это видано: взрослые люди бродят по улице, трясясь в лихорадке, грязные, оборванные. Администратор объясняет: люди во Мгле, может, и небогатые, но опрятные, носят чистое. Только сумасшедшие ходят чумазыми.
– Злые духи пачкают нас своей грязью. Я сам, хоть и не народная масса, верю, что есть… скажем так… кладбищенское проклятье.
– Как это – проклятье?
– Путешествовать – хорошее дело, но умирать люди должны там, где родились.
– Но как это связано с…
– Обратите внимание на немецкое кладбище. Покойники там в растерянности, не узнают тех мест, где сделали первый вдох.
– Мир изменился, люди в наше время и живут, и умирают вдалеке от тех мест, где родились.
– Не знаю. Что касается мира, тут, возможно, вам видней. Вернемся к эпидемии, доктор. Мне нужны результаты, чтобы я мог объявить, что ситуация под контролем.
– Я выписал из города вакцину и антибиотики. Надо начать кампанию гигиены и изоляции больных. Другими словами, вы должны распорядиться, чтобы закрыли казарму.
– Не могу.
– На время. Казарма, судя по всему, и есть центр распространения инфекции.
– Но я военными не командую.
– Я говорю как врач. Необходимо проветрить и продезинфицировать казарму.
Хозяин дома встает и зовет супругу. Признание ограниченности своих полномочий далось ему нелегко, надо снять напряжение, подзарядиться алкоголем. Врач делает попытку встать и наполнить рюмку хозяину, но тот его останавливает. Жена наверняка не спит и готова к исполнению своих домашних обязанностей.
– Я думаю, дона Женуля уже уснула…
– Ничего, проснется, – и испускает боевой клич. – Женуля!
Дом спит. Уважайму тяжело опирается ладонями на колени, с трудом встает и со стоном подходит к столу. Решительно и щедро наливает себе и еще более решительно опрокидывает рюмку и осушает ее одним глотком. Наливает снова, и тут же распускает ремень и почесывает оголившееся брюхо. Звучная отрыжка мешает ему высказаться членораздельно. Он вынужден повторить.
– Вы понимаете, что, если я прикажу, вас посадят?
– Понимаю.
– Сядете, и никто ничего не узнает. Мгла на отшибе, тут у нас ни посольств, ни консульств, ни журналистов…
Португалец молча склоняет голову. Угроза звучит так правдоподобно, что ему и ответить нечего. Уважайму, все еще поглаживая живот, продолжает уже более мирным тоном:
– Отчего это вы повадились ходить к Бартоломеу Одиноку?
– Он тяжело болен.
– У нас десятки тяжело больных, которым положен политический приоритет, как я уже довел вам до сведения. Или вас туда тянет из-за кого-то другого?
– Ради бога!..
– Зарубите себе сами знаете на чем: вы местный доктор, и, при всем моем к вам почтении, я вами командую и неповиновения не потерплю. Надеюсь, мы поняли друг друга?
– Я понял.
От очередной громоподобной отрыжки в ужасе вздрагивает тишина, задуманная как торжественная. Уважайму прикрывает глаза, как будто пораженный внезапным приступом меланхолии.
– Жизнь моя не слишком-то счастливая, знаете ли…
Похоже, хозяин перешел к жалобной фазе опьянения: он, увы, не может позволить себе напиваться прилюдно. Потому что в состоянии отравления алкоголем способен изрекать правду, только правду и ничего, кроме правды.
– И знаете, что в конце концов происходит? Я начинаю говорить гадости о собственной партии.
Очередной глоток, очередное признание. Уставившись в рюмку, он нащупывает сиденье стула:
– Люблю я вас, португальцев, и, кстати, потому, что португальцы меня спасли.
– Как спасли?
– От утонутия. Португальские рыбаки вытащили меня из воды. Бартоломеу вам не рассказывал?
– Нет.
– Он что, никогда не говорил вам об «Инфанте Доне Генрихе»?
– Говорил и не раз.
– Но спорим, ни разу не сказал правды. Мы ведь там с ним были вместе. Я вам сейчас расскажу настоящую правду.
Уважайму и Бартоломеу дружили с детства. Они оба выросли в деревне Муребве неподалеку от Порту-Амелия. В тот день, когда потребовалась помощь в ремонте «Инфанта Дона Генриха», они отправились туда на лодке вместе. По пути к кораблю оба старались не оглядываться. Им хотелось покинуть пристань, не прощаясь, чтобы уже никогда не тянуло обратно.
Капитан корабля взял шефство над обоими. Но по пути в столицу Уважайму непрерывно рвало, и до того ему было плохо, что его оставили в столице. Когда корабль от берегов Лоренсу-Маркиша отплыл к Лиссабону, Уважайму махал ему с берега тем самым платком, с которым с тех пор не расставался.
В столице он застрял надолго, а вернувшись, привез с собой героическую версию своего пребывания на борту. Будто он был изгнан с трансатлантического судна по причинам патриотического характера. Он, Уважайму, сын и внук славных Сузивейя, поднял бунт, как Энрике Галван[2] – на «Санта-Марии». Восстание провалилось, – отчасти по вине Бартоломеу, приспешника португальцев, – и Уважайму бросили в море. Спасся он только благодаря рыбакам, которые доставили его на берег.
Через несколько месяцев, когда Бартоломеу Одиноку вернулся из Лиссабона, никто уже не сомневался, что он лжец, предатель и коллаборационист. Чего бы он ни говорил о прошлом бывшего приятеля, все воспринималось как злостная клевета.
– Все он врет, этот декоративный Бартоломеу.
Виски течет мимо рюмки, капает на палас, но Уважайму слишком занят косноязычным повествованием о прошлом. Рассказ возвращается к началу, путаются мысли, слова:
– Это португальские рыбаки меня спасли…
Рыбаки были португальцами. До этого, однако, они успели побывать англичанами, итальянцами, французами и русскими. Гражданство рыбаков менялось в зависимости от конъюнктуры и личности собеседника.
– Мы тут любим португальцев.
– Это хорошо.
– И знайте, доктор, вы мне нравитесь.
– Благодарю вас. Вы мне тоже нравитесь.
– Вы не то что наш поселковый священник.
– В самом деле?
– Уж я-то этих падре навидался. Для них душа – все равно что дерево, они ее стригут. Вы – не такой. Вы, скажем так, занимаетесь духовным телом.
Пришло время прощаться. Чиновник обнимает гостя, удерживая его в объятиях дольше, чем тому бы хотелось. В какой-то миг Сидониу начинает подозревать, что гостеприимный хозяин задремал, угревшись у него на груди. А то и хуже: вдруг он находит в столь тесном контакте сексуальное удовлетворение?
В конце концов, хозяин слегка отстраняется, продолжая, впрочем, придерживать гостя за плечи, и спрашивает:
– О чем это я хотел сказать?
– Не знаю, – отвечает врач, отворачиваясь, чтобы не дышать перегаром изо рта Администратора.
– Ах, да. Не забудьте о лекарстве, доктор.
– О лекарстве?
– Чтобы не потеть. Помните?
Глава девятая
Сидониу Роза из всего лабиринта тропинок поселка Мгла знает только ту улочку, что ведет от пансиона до медпункта и сворачивает к дому семьи Одиноку. Именно по этой песчаной дорожке он идет сейчас, будто по минному полю. Сразу видно: европеец на свой страх и риск осваивает заповедные глубины Черного континента. Каждый шаг португальца продуман, он чуть ли не крадется на цыпочках, сверля взглядом землю. Все здесь подозрительно, собственная тень – и та ему не подчиняется. Проходя по рынку, он шарахается от торговцев, от попрошаек, от пьяных. «Что за жизнь! – думает он. – Кто бы ко мне ни обратился, никому как человек я не нужен. Одни хотят что-то всучить, другие – обобрать. Бескорыстного интереса не дождешься. Боже мой! До чего тяжелый крест – раса». Впрочем, когда с ним наконец здороваются, настроение его сразу меняется:
– Доброго вам дня, доктор!
Приветствие повторяется, неожиданно открытое, искреннее и дружелюбное. И вот уже душа португальца просияла, он улыбается, и Вселенная обнимает его. Тут же он чуть не натыкается на статную молодку. И не может отвести глаз, завороженный мерным покачиванием ее обширных бедер. На память приходят слова Бартоломеу:
– Податливая девица – вот лучшее лекарство и для вас, и для меня.
Старый Одиноку – приверженец народной медицины: переспать с девственницей – самое надежное средство для очистки крови. В глубине души он не очень в это верит, но процедура кажется куда приятнее тех, что прописывает доктор, рецептами которого битком набита прикроватная тумбочка.
– Раньше я получал письма, теперь мне, кроме рецептов, ничего не пишут. Раньше все смотрел в почтовый ящик, а теперь – как бы самому в ящик не сыграть.
Наконец врач подходит к дому Одиноку, и идти становится намного труднее. Рытвины, камни, препятствия, рассыпанные в явно неслучайном беспорядке.
Это старый диверсант Бартоломеу перегородил улицу. Во время первого визита Мунда говорила, словно оправдываясь:
– Это все Бартоломеу. Навыворачивал камней из мостовой, ям нарыл, лишь бы никто не мог к нам пройти.
«Если я больше не выхожу из дому, так пусть и в дом мой никто не приходит», – бормотал он, копая ямы, клонясь к земле, вонзая в нее лопату, а Мунда маячила у него за спиной, пыталась отговорить, намекая на то, что собственные кости ему жестоко отомстят.
Неповиновение таки вышло боком: кроме выговора от жены, Бартоломеу получил повестку о крупном штрафе от Администратора.
– Вандализация общественного достояния! – провозгласил Уважайму.
Бывший механик пожал плечами.
– Ну, бросим собакам эту кость… Или хозяевам тех собак… – прокомментировал он и красноречиво замолчал.
Разрушенное так и не было восстановлено, и именно по этой причине доктор притопывает ногами, отряхивая ботинки, прежде чем войти в дом, и уже в коридоре подворачивает брюки. В доме душно, от ковров тяжелый запах, зеркала завешены простынями, как лица покойников. Закрытые ставни напоминают обрубленные крылья. Да уж, не видать тем птицам неба.
Португалец, ускоряя шаг, подходит к последней двери в глубине коридора. Ручка поворачивается, и голос старика звучит свободно, без натуги.
– Как я? Жив, слава богу.
На конце зажженной сигареты – длинный, не рассыпавшийся столбик пепла. Вот точно так же Бартоломеу пытается удержать и не рассыпать уже истраченное время. Не зря же сам он сетовал: «живем, транжиря жизни». Сам он уже мало что способен растранжирить: горстку пепла, крошки печенья, которые жена выметает в тех редких случаях, когда он ее допускает в комнату.
Врач следит за струйкой дыма таким осуждающим взглядом, что слова уже излишни.
– Это не я курю, доктор Сидоню. Это сигарета меня курит.
– Тут я с вами полностью согласен. Вам не следовало бы вообще прикасаться к сигаретам.
– Вы извините, доктор, но в курении вы ничего не смыслите.
– Как это?
– Мы не табак изводим. Мы курим тоску.
– Сегодня, похоже, вам лучше. Препираетесь со мной не так желчно, а скорее – поэтично. Вот-вот стихи начнете писать, как в былые времена на борту «Инфанта Дона Генриха».
Верность прогнозов Сидониу прошла уже почти трехмесячное испытание. Раньше Бартоломеу каждый раз отвечал одинаково: пойдите-ка излечите весь мир, доктор. Потому что у него, у Бартоломеу, болит дерево, болит камень, вся земля его мучит. Вся вселенная у него разболелась. Так что врач пусть вылечит вселенную, а там и Бартоломеу полегчает.
Но сегодня окно открыто, в комнате светло, воздух свежий, и у больного как будто уже не такие синяки под глазами. Доктор удивлен переменой.
– Все из-за этой козы Мунды, доктор Сидоню. Только чтобы ей досадить, задерживаюсь на этом свете…
– Отличная шутка.
– Скажите честно, доктор, моя добренькая Мундинья у себя на кухоньке рыдает обо мне?
– Рыдает?
– Говорите смело, выкладывайте все как есть, доктор, она признавалась вам, как отчаянно меня любит?
Врач не в силах выдавить из себя ни слова. Единственное, что он в силах сделать – это неопределенно покачать головой.
– Мунда не понимает, что, если чем я ее и обидел, я этого не хотел.
– Почему вы с ней не разговариваете?
– То, что я хочу ей сказать, при жизни не скажешь.
Бартоломеу подзывает врача поближе, загораживает рот ладонью, чтобы не потревожить нездоровым дыханием, и робко просит:
– Не могли бы вы уговорить Мунду притвориться лекарством?
– Притвориться лекарством?
– Не понимаете? Скажите ей, пусть переоденется девочкой, прикинется молоденькой, и будто она пришла навестить меня. Теперь поняли, доктор?
– Не знаю, я не смогу…
– Так вы не хотите меня вылечить? Не хотите избавить от страданий?
– Тогда уж я предпочитаю сделать то, о чем вы все время меня просили. Поймаю на улице и приведу вам малолетку. Даже двух…
– Да не надо мне другой… Я хочу ее, только ее.
Врач уверен: абсурдный план будет отвергнут доной Мундой с порога. Но вот идея: можно привести проститутку, которая согласится сыграть роль жены. Старик почти слепой, он не заметит подмены, если подобрать похожий голос и духи. Да, так и надо сделать.
– Я согласен, Бартоломеу.
– Согласны?
– Да, я постараюсь уговорить дону Мунду.
Неловкое объятие – в благодарность за нежданную уступчивость. Доктор спешит освободиться от рук едва стоящего на ногах пациента: в таких объятиях передается душа, более заразная, чем самый вредоносный микроб. Прощание получается кратким, как доктору больше по вкусу.
Старик идет к окну, отодвигает занавески с усилием, как будто пытается прочистить заржавевший механизм, и с опаской подглядывает за врачом, пока тот не скрывается за вторым поворотом. Пустынная улица кажется родной, такой же одинокой, как его спальня.
Вдовьим шагом Бартоломеу плетется к комоду за пачкой сигарет, которую врач каждый раз для него оставляет. Лекарственная отрава – так его называет Сидониу. И тут механик замечает: папка Сидониу осталась на комоде, он ее забыл. Старик делает еще несколько шагов и кричит в коридор:
– Доктор! Доктор, вы забыли папку!
Дотащившись до входной двери – последнего рубежа, отделяющего его от мира – он выглядывает наружу, мгновение колеблется, потом издает вопль утопающего:
– Доктор Сидоню!
Но поздно: португалец уже затерялся где-то среди людей и улиц. Бартоломеу Одиноку каменеет в дверном проеме. Там, впереди – Вселенная, а может быть, море – мрачная пропасть, готовая навеки поглотить его следы.
– Доктор! – кричит он все тише и тише.
И вот уже, баюкая папку на груди, возвращается в убаюкивающий полумрак дома, в свою надежную спальню. И так и сидит, вертя забытую папку в руках, будто делясь с нею своей растерянностью.
Через час любопытство уже вконец изгрызло бедного отставного механика. Молния на папке не до конца застегнута, и в щелочку выглядывают какие-то бумаги. А вдруг там что-нибудь секретное о нем, о его состоянии? Вдруг там черным по белому – его приговор? Вдруг там сказано, что ему конец? Не сумев побороть поселившегося в душе беса, Бартоломеу Одиноку открывает папку и принимается ворошить ее содержимое. Он разглядывает лист за листом и все сильнее таращит глаза от удивления. И наконец взрывается:
– Ах, сукин сын!
С кривой злорадной ухмылкой прячет старик папку в ящик комода.
– Ну ты у меня попляшешь, сукин сын! Я-то уж найду для тебя снадобье, такое снадобье, которое вмиг прочищает горло мошенникам.
Глава десятая
Дона Мунда плюет на пальцы и пробует утюг на ощупь: достаточно ли горяч. Она трясет древний агрегат, и перестук углей в его утробе вторит словам врача:
– Почему вы не гладите электрическим утюгом?
– Так ведь говорят: нет дыма без огня. Я верю только огню и дыму…
Кухня буквально набита электроприборами: холодильник, электроплита, морозильная камера. Пусть старые и не в лучшем виде, но все они работают. Причины гладить утюгом на углях – другие, и врачу они известны:
– Я принес еще солярки, оставил во дворе. Перед уходом залью ее в генератор.
– Спасибо, доктор, большое спасибо. Извините за вопрос: вы случайно не из медпункта топливо носите?
– Как я могу себе такое позволить?
– Есть важные персоны, которые еще как могут.
Врач предпочитает прикусить язык. Ему ли, волонтеру, да еще иностранцу совать нос куда не следует? Он достает из кармана конверт:
– Это фотографии, которые вы мне давали посмотреть. Куда их положить?
Неделю назад дона Мунда показала ему семейный альбом. В юности она была невероятно похожа на свою дочь Деолинду. Врач не смог бы отличить одну от другой. Это сходство потрясло его настолько, что побудило нарушить в общении с доной Мундой уважительную дистанцию, которую всегда старался соблюдать. Он попросил фотографии на время. Дона Мунда реагировала с той же апатией, с какой сейчас предлагает забрать фотографии насовсем:
– Возьмите их себе, дорогой мой доктор. Фотографии превращают близких людей в мебель.
– Ну, дона Мунда…
– К тому же это не мои фотографии.
– Как? На этих фотографиях не вы?
– С той, что на этих фотографиях, у меня ничего общего. Прошлое уже умерло. И мы сами от воспоминаний становимся немного неживыми.
Уже несколько дней подряд дона Мунда приглашает врача посидеть в гостиной. Тяжелые шторы чуть раздвинуты, хозяйка и португалец подолгу перебирают семейные воспоминания, истории и фотографии Деолинды. Глаза португальца – горящие угли, слова доны Мунды – вода, несущая утоление и прохладу. Так коротают они время, оба погруженные в сладкое небытие.
Однако сегодня Мунду не узнать: она вся в домашних хлопотах, размахивает утюгом так, будто это меч, которым она отбивается от привидений, а потом обрушивает утюг на гладильную доску и массирует им рубаху тем же усталым жестом, каким прачки колотят белье о камни или о стиральную доску.
– Сегодня утром этот открыл дверь в свою комнату. И до сих пор не запер.
– Он не говорил вам, что нашел мою папку?
– Папку?
– Я вчера забыл у него папку.
– В первый раз слышу.
– А на улицу он не выходил?
– Барту никогда больше не выйдет на улицу. Пока в гробу не выволокут.
– И ни с кем не говорил?
– С кем он мог говорить? Нет, просто шлялся по дому. Сегодня у него день рождения…
– И сколько лет исполняется?
– Что считать чужие годы? От этого только сам скорее состаришься…
Внезапно из глубины коридора раздается вязкий голос:
– Кто это там?
Бартоломеу хочет знать, кто в гостиной разговаривает с его женой. Мунда равнодушно пожимает плечами:
– У тебя что-нибудь болит? А то врач здесь, давай жалуйся.
– У меня ничего не болит, и я ни на что не жалуюсь. Но раз доктор здесь, пригласи его на праздничный ужин.
Дона Мунда делает вид, что не слышит. Но утюг еще яростней налегает на доску. Муж никогда ничего не праздновал. Ни одно событие не способно было его развеселить. С какой же стати он на пороге могилы решил вдруг праздновать рожденье?
– А ты, Мундинья, – кричит он из глубины коридора, – добудь свечек для торта. Я на этот раз хочу задуть их все до одной… Семьдесят штук…
– Ты? Да у тебя дыхания и на одну свечу не хватит…
– Погашу все равно. Не дутьем, так пуканьем.
Слышен сдавленный смешок. Нервы врача на пределе.
Единственное, чего ему сейчас хочется, так это попасть как можно скорее в спальню механика и выяснить, что с документами. Наступает тишина, никто не говорит ни слова, пока наконец не слышится снова голос Бартоломеу:
– Доктор еще здесь?
– Да, я здесь, я сейчас к вам приду.
– Извините за грубость, доктор, но было бы весело: именинник гасит свечи на торте хорошим бзденом.
Люди вообще не стареют: у них только годы прибавляются. Одни бедняки стареют по-настоящему. Богачи сохраняются, кто лучше, кто хуже. Вот что бормочет Бартоломеу из глубины коридора.
– Вы пока не входите, доктор. Я сам к вам выйду, когда гостиная будет украшена и стол накрыт.
Дона Мунда не отшучивается, не огрызается. Но все больше и больше накручивает себя:
– Извини уж меня, муж мой Бартоломеу, но я палец о палец не ударю, чтобы организовать тебе этот дурацкий день рождения.
– Я ничего не слышу.
– Хочешь праздника, сам и устраивай. Мне не до пирожных и не до воздушных шариков.
– Иногда у меня в ушах так звенит, доктор. Я ведь уже вам рассказывал об этом, да? Вот, например, сейчас моя жена что-то лопочет, а у меня в голове один свист.
Бартоломеу велит обоим, чтобы немедленно подошли. Жена и гость повинуются. Мунда идет вперед, внезапно механик набрасывается на нее из темноты и бесцеремонно заключает в жесткие объятия. Он сжимает ей руки, сдавливает ее и шепчет:
– Мундинья, Мундинья, это что, народное восстание?
– Пусти меня!
– Нет, ты испечешь пирожные, и наготовишь всяких сластей, и украсишь гостиную, и разошлешь приглашения, и сделаешь все, что я пожелаю…
– Муж, ты мне делаешь больно.
– Ты сама себе делаешь больно.
Врач поеживается. К черной туче, нависшей над этой семьей, он уже привычен, но теперь-то насилие вырвалось наружу, и он не знает, как быть.
– А сейчас ты мне выложишь начистоту, с какой стати ты постоянно задергиваешь занавески.
– Это не я их задергиваю.
– Ах, не ты? Тогда кто же? Может быть, это наш милый доктор?
– Это не я, муж, клянусь. Как ни гляну – они задернуты. Не представляю, кто это делает…
– Здесь вечно так темно, что мне начинает казаться, будто я в гробу… Ты зачем устраиваешь темень? На что намекаешь?
– Пусти руку. Доктор, помогите!
– Доктор не станет вмешиваться в семейные дела… Ведь правда, доктор Сидоню?
Врач опускает глаза, и тут из гостиной просачивается спасительный дымок:
– Что-то горит!
Сидониу несется с криком на кухню, хватает с гладильной доски утюг и поднимает вместе с ним кусок опаленной сморщенной ткани.
– Ты мою рубаху сожгла! – вопит старик. Чрезмерный гнев выдает его смятение: сгорело, похоже, что-то посерьезнее рубахи. И обожгло его. А то и хуже: старика уязвил как раз тот, кто обязан чтить его беспрекословно.
Сидониу Роза возвращается в спальню, блаженной памяти рубаха висит у него на руке. В самом темном углу комнаты поверженная Мунда, душа в клочья, всхлипывает:
– Прости, муж, я виновата…
– В этой рубахе я хотел сесть за праздничный стол.
– Я достану тебе новую рубаху. Попрошу Деолиндинью привезти тебе такую, с воротничком и всеми делами.
– Деолиндинью?
Он будто зависает, внутри у него все плывет и колеблется. Жена со страхом следит за его дыханием. И повторяет успокаивающим тоном:
– Деолинда привезет тебе такую красивую рубашку, какая тебе и не снилась.
– Не знаю, жена. Я уже ничего не знаю.
В голосе его звучит болезненная нежность, прикосновение наждачного кошачьего язычка. Ярость уже улеглась. Он бродит по комнате, повторяя, как заклинание: «Деолинда, Деолинда, что же ты не возвращаешься?»







