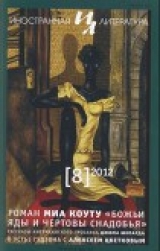
Текст книги "Божьи яды и чертовы снадобья"
Автор книги: Миа Коуту
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
Мунда как будто хочет укрыть его руками, но вдруг бросается к нему и застывает в его объятиях, опустив голову то ли от стыда, то ли в раскаянии. Чуть погодя муж освобождается от ее рук, плечи его поникли:
– Ничего этого не надо. Наша любовь одряхлела, Мунда.
– Почему ты так говоришь?
– Теперь мы, когда обнимаемся, уже не плачем.
Дона Мунда уходит неслышным ночным шагом, становясь почти невесомой. Берет у врача сожженную рубаху и волочит ее по полу, как бесславный небоевой трофей. Сидониу застывает камнем в углу спальни.
Бартоломеу Одиноку поднимает шторы и то делает вид, что смотрит в окно, то вглядывается в несуществующие часы на руке.
– Деолинда, Деолинда. Где в этот час бродит моя дочь? Вы не знаете, доктор?
– Откуда ж мне знать?
Спичка дрожит в пальцах старика. Он ждет, пока она догорит почти до конца. Только тогда прикуривает.
– Жена вам что-нибудь говорила?
– О чем?
– О прошлом, о семье… Вы же знаете: семьи – это сундуки, полные россказней, тайн и вранья.
– Нет, ваша жена никогда мне ничего особенного не рассказывала.
– И никогда не говорила о том, что произошло между мной и дочерью?
– Нет, никогда.
– В головах у детей всегда полно фантазий, вечно что-то напридумывают. И иногда обвиняют родителей в преступлениях, которых не было.
– Это дело обычное. В Португалии – то же самое.
– Я вам верю, доктор. И не на сто процентов, а на все что ни на есть проценты.
Португалец улыбается. «Должно быть, это ирония, – думает он. – Старый пройдоха уже в курсе всех моих секретов». Пару раз глубоко вздохнув для храбрости, Сидониу переходит в атаку.
– Вчера я забыл здесь, в вашей комнате, папку.
– Папку? Не может быть. Вы забыли ее где-то еще. Я сегодня делал уборку и ничего не заметил.
– Уверен, я оставил ее здесь.
– Не оставляли, я вам говорю.
Неколебимая уверенность механика развеивает последние сомнения доктора: Бартоломеу рылся в бумагах. Он проник в святая святых его прошлого.
– Лекарство! – бормочет врач.
Внезапно от страха на него нисходит неприятное озарение: лекарство, снадобье, вот что ему необходимо, срочно добыть снадобье, которое бы раз и навсегда покончило со стариковым кашлем. Португалец душит мысль в зародыше, удерживает слова, рвущиеся из глубины души: лекарство, такое лекарство, после которого все прочие лекарства уже не понадобятся.
Он всматривается в лицо Бартоломеу, но старик углубленно изучает свои дрожащие колени. Он пытается встать, но у коленок головокружение. Он трясет головой, протестуя против жестокой судьбы. И вздыхает: как бы хорошо сначала умереть, а уж потом состариться.
– Помогите мне сесть на кровать.
Повиснув на плече у гостя, старик плетется, непрерывно причитая. У него, мол, уже нет тела.
– Вы остались без работы, доктор. Я теперь – одна сплошная душа.
Сидониу смотрит на истощенного пациента и думает, что, возможно, так и есть: где угнездиться болезни в организме, в котором почти не осталось органов? Но тут же убеждается, что потеряно далеко не все: старик долго и демонстративно чешет яйца, а потом ту же руку, которой только что шуровал в штанах, подносит к носу:
– Нафталином пахнут. Мои помидоры воняют нафталином.
Будь это в другой раз, врач бы рассмеялся, но сейчас он так нервничает, что улыбка превращается в гримасу.
– Что с вами, доктор Сидоню?
– Беспокоюсь о пропавших документах.
– Найдутся, доктор. Как только перестанете искать, тут же и найдутся. Если только на улице кто-нибудь не спер…
– Воровская страна.
– Как вы сказали?
– Я ничего не говорил.
Португалец поник, его не узнать. Стоя у стены, он обшаривает глазами каждый уголок спальни. И снова – коварная мысль о снадобье, способном решить все проблемы.
– Знаете что, Бартоломеу? Думаю, вы правы. Надо выписать вам новые лекарства. Устроить, так сказать, шоковую терапию.
– Шоковая терапия? Не нравятся мне эти слова, доктор, что-то в них такое воинственное.
– Меня беспокоят эти ваши головокружения, забывчивость…
– Какая еще забывчивость?
Оба молчат. «Козел черномазый», – думает португалец. И мгновенно раскаивается. Что за расистские замашки? Как можно вообще такое помыслить? Похоже, лучше пойти пройтись, нервы проветрить. Тут он слышит, как больной цедит сквозь зубы что-то несусветное:
– Мезунга ва матудзи[3].
– Что вы сказали?
– Это я на своем языке.
– Ваш язык – португальский.
– Что-что, господин доктор? Ини нкабе пива, тайу[4].
– Извините, я не то имел в виду. Но почему вы перестали говорить со мной по-португальски?
– Потому что я не знаю, кто вы такой, доктор Сидоню.
От плотного напряженного молчания комната, кажется, становится меньше. Бартоломеу говорит, отвернувшись, не глядя в глаза иностранцу:
– Сегодня ночью вы мне снились… Вы слышите меня?
– Да, я вас слушаю.
– Мне снилось, что вы входите ко мне в комнату. В руках у вас шприц. Потом, когда вы подошли ближе к свету, я понял, что это не шприц, а пистолет.
– Пистолет?
– Фантастика, правда, доктор?
– Весьма странно.
– А может, и не так уж странно: ведь ваши предки когда-то явились сюда с пистолетами и ружьями убивать нас, африканцев.
– У меня с теми людьми не больше общего, чем у вас.
– Спокойнее, доктор, не нервничайте. Это исторический факт…
– Извините, дорогой мой, но я очень устал. Час поздний, не до исторических фактов. Пойду я, пожалуй, к себе в пансион.
Сидониу ждет, что Бартоломеу даст ему пройти, но тот и не думает отходить от двери.
– Будьте добры, выпустите меня. Мне надо идти, Бартоломеу.
– Видите? Опять всплывает прошлое. Как вы меня назвали?
– Как я вас назвал? Я назвал вас Бартоломеу. Разве не так вас зовут?
– Меня зовут Бартоломеу Аугушту Одиноку. Не просто Бартоломеу. Вы никогда не называете меня Бартоломеу Аугушту Одиноку.
– Так и вы меня зовете просто Сидониу.
– Доктор Сидониу. Я зову вас доктор Сидониу.
Обращение неполным именем – не только признак забывчивости. Это грабеж. Врач отнимает у него его корни, фамилию предков. Так поступали колонизаторы с рабами, еще дедушка рассказывал о подобных трюках.
– Боже мой, то пистолеты, то фамилия…
Врач прорывается к двери. Он хочет на волю, он задыхается и, распахивая створки, нечаянно толкает старика, тот шлепается на пол. Врач пытается помочь ему подняться. Но гордость в немощном теле Бартоломеу все та же, что прежде:
– Прочь!
– Обопритесь на меня.
– Сами же толкнули, а теперь помогать?
Португалец выходит. Он идет у самой стены под окном спальни Бартоломеу, как вдруг что-то внезапно пышет жаром ему в лицо. Это язычок пламени, мелькнувший на миллиметровую долю секунды, укус огненной змеи. Глаза у доктора чуть не вылезают из орбит, он обхватывает себя руками, как будто у самых его ног разверзлась адская бездна.
Уже рухнув на землю, он понимает: это горит, угрожающе развеваясь и меча искры, какая-то тряпка. Присмотревшись, он понимает, что это флаг Колониальной судоходной компании полыхает на своем импровизированном древке в окне. Обезумевший старик хриплым голосом орет:
– Конец дерьмовой свободе! Конец продажной нации!
Ругань еще долго разносится по мглистым улочкам поселка, отрясая с них нестойкий покой. Все знают, кто примет оскорбления на свой счет, но никому неизвестно, о какой именно свободе и о какой нации кричит Бартоломеу. Возможно, оскорбляемая нация – это крошечная спальня, в которой он добровольно сидит взаперти. А проклинаемая свобода – это возможность вернуться в прошлое и отправиться в плавание на давно проржавевших колониальных кораблях.
Глава одиннадцатая
Бартоломеу Одиноку ждет, распластавшись на диване в полумраке гостиной. Он видит, как входит жена с охапкой белья. «Красавица была, – думает он, – а теперь бока у нее стали тяжеленные, как у женщин, о которых всегда думаешь, что они – вперед задницей, даже если идут тебе навстречу». Бартоломеу вспоминает, как влюбился, о первых свиданиях, о том, как Мунда его околдовала. Они даже с Сидониу Розой, португальским врачом, тоже этот вопрос обсуждали.
Женская красота, говорил один, как те позолоченные шипы, которыми ядовитые твари парализуют жертву. И оба сходились на том, что нет такой красавицы, чья красота была бы целиком от природы. Что есть, так это ощущение красоты. Мундинья не была самой красивой на свете женщиной. Но Бартоломеу ни на кого не смотрел с таким обожанием. Он до такой степени влюбился, что ему нравились даже вспышки ненависти, которыми награждала его Мунда. А что ж еще ему было в такие моменты в ней любить?
– Это, дорогой мой Сидониу, не любовь, а любийство.
Сейчас Бартоломеу Одиноку затаился в темной гостиной, как хищник в засаде. Он подглядывает за женой, которая тяжелым шагом ходит из угла в угол. Зачем она там шарит по шкафам и комодам? Подозрение пронзает грудь старого мужа. Может, врач велел ей искать забытую папку? Может, она выполняет тайное поручение португальца?
От горьких сомнений печень подступает к горлу. Он с гримасой глотает горечь. Но тревога ложная. Мундинья всего лишь хлопочет по дому. Открывает шкафы, расставляет по пустым полкам ту пустоту, что у нее в душе. Смахивает пыль с прошлогоднего настенного календаря, протирает влажной тряпкой изображение Тайной вечери.
Муж не поймет, напевает она или плачет. На мгновение ему снова становится тревожно: она оплакивает его? Или она плачет не о нем, а о похороненном прошлом?
– Ты что ли плачешь, жена?
Мунда вздрагивает от неожиданности, прижимает руку к груди, переводит дух со смесью облегчения и злости.
– Вылез из пещеры наконец?
– Я первый спросил. Я спросил, ты плачешь?
– Я? Плачу?
– Нет, я. И правда, кто его знает, может, это я сам плачу, но по глухоте не разберу, кто плачет.
– Дед, уж если я заплачу, то мне не остановиться.
Внутри у нее накопилось столько печалей, что они вылились бы не какой-то жалкой речушкой, а целым потоком, в котором она бы вмиг захлебнулась. И он бы захлебнулся вместе с ней, и не нашлось бы корабля, чтобы бросить ему спасательный круг. Но это ложь. Потому что Мунда все-таки иногда плачет. Плачет в определенные часы в одном и том же священном месте. Бартоломеу Одиноку об этом прекрасно знает.
– Печали, печали… Ты сама виновата: сама толкала меня к другим.
– Упреки, упреки… А я еще жалуюсь, что от тебя никогда ничего не дождешься.
– Ты мало меня любила.
– Тебе всегда всего мало.
И не ему одному. Только тем всего хватает, кто не любит. Кто любит, для того мера одна – безмерность.
Муж сопит от возмущения и нетерпения, как будто курит воздух. Красноречие жены всегда его подавляло, и, когда они препирались, она всегда умудрялась уложить его на обе лопатки. Дар слова – это как духи, которыми она любит пользоваться, но которых он ей не дарил.
– Иди-ка сюда, я тебя кое о чем спрошу. Тебе этот врач никогда не казался подозрительным?
– Ты, Бартоломеу, вечно плюешь в колодец. Мы этому португальцу по гроб жизни обязаны.
Старик трясет головой: Мунда кипячо верующая – так он ее называет. Сколько бы его ни поправляли, он настаивает на «кипячо». Потому что – Мунда сама признавалась, – преклоняя колени перед крестом, она чувствует, как кровь закипает. Бартоломеу спрашивает себя: может, там, наверху, сидит на облаке какой-нибудь бесстыжий ангел? А еще он в сомнениях: о чем она все просит и просит бога? Стоя на коленях, она, должно быть, просит за двоих, за мужа и за себя, а может, сейчас и эту сволочь доктора поминает в молитвах, он уже чуть ли не член семьи.
– А я вот сомневаюсь в нем, Мундинья. И есть отчего. Нигде, даже в городах, где живут богатые, не бывает уж настолько семейных-пресемейных докторов.
– Неблагодарный ты, вот что.
– А ты не спрашивала себя, Мундинья, откуда это нам вдруг такая удача привалила, ведь мы тут на краю света и помыслить не могли, что у нас в поселке свой доктор объявится.
– Да разве ж мы не заслужили?
– Никогда ничего нам так просто не доставалось. И вдруг как с неба сваливается этот разлюбезнейший португалец. С чего бы, Мундинья? Разве что ты уломала бога, и он решил нас осчастливить?
– Бога не уламывают. А для тебя нет ничего святого.
Она знает, что спорить бесполезно. Бартоломеу никогда не соглашался читать молитвы. «С богами лучше разговаривать», – заявлял он. Простыми словами, а не готовым текстом, на ходу сочиняя диалог с божеством. «Тем более, – заявляет старик, – что, если ты читаешь молитву, ты признаешь и чувствуешь себя виноватым».
– Поначалу мы так покорно заводим песню про то, что мы, мол, его дети. Но на самом-то деле каждый из нас сам метит в боги. Вот потому молиться – это всегда просить прощения. Понимаешь, Мундинья?
– Ты где-то этого начитался, муж. Слишком это сложно, тебе не по уму…
– Я вовсе не отказываюсь молиться. Просто, чтобы времени не терять, молюсь во сне.
– Тебе все шуточки. Посмотрим, как ты запоешь на Страшном Суде.
– Да у меня тут каждый день страшный суд.
– Так принимай лекарства.
– Знаешь что? Все эти лекарства я спустил в унитаз. И ни одного больше в рот не возьму.
– С ума сошел? Смотри, когда помрешь, не жалуйся.
– А если я тебе скажу, что этот докторишка – совсем не тот, за кого ты его принимаешь.
– Мне надо идти по делам, Барту. Не забывай, что я кормлю семью.
– Никуда ты не пойдешь, пока не ответишь мне на один вопрос.
– Как, еще на один?
– Я хочу знать, кто открыл зеркала.
– Я. Хотела их протереть, а потом забыла опять завесить.
– Мунда, а Мунда, не обманываешь ли ты меня? Может, красоту наводишь для кого-нибудь?
Мунда молча уходит, хлопнув дверью. Старик возвращается в одинокую тьму спальни. Из окна он видит, как жена во дворе начинает развешивать выстиранное белье, как доктор идет к дому, учтиво огибая белые простыни. Старик задергивает занавески. Ржавое лезвие ревности на сантиметр погружается в его душу.
– Знаю, что сделаю с твоей красотой, шлюха…
Злобное бормотание смолкает: кто-то робко скребется в дверь. Лаконичное «зачем?» служит Сидониу Розе разрешением войти, сесть и пристроить рядом свои инструменты.
Мебель покрыта пылью, видно, что окно открывалось: старик Бартоломеу не удержался, подслушал разговор во дворе.
– Скажите, дорогой мой, почему вы не спрашиваете «кто там?»
– Потому что никогда никого не жду.
– И напрасно, ведь я пришел с подарком.
– Мне ничего не надо.
В вытянутых руках Сидониу Розы картонная коробка. Бартоломеу безучастен, смотрит в стену. Португалец умоляет:
– Примите, прошу вас, это как извинение за то, что я вам вчера наговорил.
Поскольку механик не проявляет ни малейшего интереса, доктор сам развязывает ленточку. Достает из коробки белую рубаху. Протягивает ее так, будто поднимает знамя победы.
– Давайте я вам помогу ее надеть. Поднимите руки.
Бартоломеу довольно скоро сдается. Разводит руки в стороны, как статуя Христа, что в Лиссабоне, покачивается от прикосновений Сидониу.
– Отлично сидит, посмотритесь в зеркало.
Бартоломеу проявляет полнейшую апатию. Он знает, что зеркала в спальне завешены, но подходит к одному из них и стоит несколько секунд. Не застегнув и не заправив рубаху, садится равнодушным нахохленным пугалом, как будто так и сидел с самого рождения.
– Вчера я видел, что Мунда поснимала простыни с остальных зеркал.
– И что?
– Как что?! Красоту наводит, коза. Для кого, спрашивается?
– Вы же знаете: женщины прихорашиваются для себя.
– Это только так говорится. На самом деле всегда есть кто-то…
– А вдруг этот кто-то – вы, дорогой мой Бартоломеу?
– Не смешите меня, а то закашляюсь.
– А вдруг Мунда готовится стать Мундиньей? А вдруг она фантазирует о том, как предстанет перед вами девочкой, маленькой Мундочкой?
Пожав плечами, старик отворачивается к окну. И сам недоумевает: почему, если он не хочет больше видеть белого света, его то и дело тянет поглядеть на улицу? Там, во дворе, жена тащит воду из колодца. Бартоломеу отводит взгляд:
– Коза. Вечно трудится, хлопочет, а я здесь вроде как отдыхаю. Все для того, чтобы мне стало совсем погано.
– Почему же вы не пойдете и не поможете ей нести ведра?
– Да эта сука меня в колодец сбросит… Нет такого колодца, который не мог бы рассказать хоть об одном преступлении, – добавляет он. В поселке Мгла не принято зарывать секреты в землю. Могилы секретов зияют, как незаживающие раны.
Глава двенадцатая
– Ты откуда? – спросила Деолинда.
– Я из Гуарды.
С наивным лукавством в глазах она шепнула на ухо Сидониу Розе:
– Значит, ты мой гвардеец.
Смех ее густел, заполняя все тело. Потом смеху перестало хватать одного тела, и она прислонилась к Сидониу. Португалец чувствовал, как воля его слабеет, как руки робко ложатся на ее плечи. Когда оба очнулись, то оказались так крепко сплетены, что непонятно было, какая часть чья. Площадь Росиу в центре Лиссабона вдруг опустела. Мужчина и женщина целовались, и город от их любви обезлюдел.
– Боишься спать со мной?
– Боюсь, – признался он.
– Потому что я черная?
– Ты не черная.
– Здесь я черная.
– Нет, не потому, что ты черная.
– Ты боишься, что я больна…
– Я умею предохраняться.
– Тогда почему?
– Боюсь не вернуться. Не вернуться к себе от тебя.
Деолинда наморщила брови. Подтолкнула португальца к стене и прижалась к нему. Сидониу так и не удалось возвратиться из этих объятий.
– Какой взгляд в твоих глазах – мой?
Той ночью они размягчились, словно в руках гончара, спасая друг друга от силы тяжести. Той ночью тело одного стало покрывалом другому. И оба были птицами, потому что в их времена твердь еще не возникла. И когда она закричала от наслаждения, мир ослеп: мельницу рук разорвало ветром. И не стало судьбы.
– Любить, – сказал он, – это все приближаться, и приближаться, и приближаться.
И вот год спустя, португалец сидит на каменной скамье посреди Мглы, но кажется ему, что он все приближается, и приближается, и приближается к ней, воскрешая воспоминания о встрече с мулаткой Деолиндой. Чего ж не хватает ему, чтобы почувствовать, что он уже прибыл на место?
Вспомнились стихи, которые он сам накропал в разлуке с Деолиндой: «Я – тот, кто бродил по пустыне, а вернувшись, признался, что искал в песках только свои следы. Я лишь затем уезжаю, чтобы затосковать в разлуке. Вот пустыня – в ней я полон надежд и мечтаний. Вот оазис – и в нем я жить не могу».
В стихах была пустыня и был оазис. А в поселке Мгла – только площадь, по которой бредет врач-иностранец, погруженный в воспоминания о возлюбленной. Посреди этой площади он наполняет легкие свежим воздухом и улыбается: в его стране сейчас осень, и в этот час он трясся бы от холода под серым небом.
Вот о чем думает Сидониу Роза, направляясь к дому четы Одиноку. Внутрь он, однако, не заходит. В такой ясный день в темноту его не тянет. Он обходит дом на цыпочках и тихо стучит в окно комнаты Бартоломеу. Сонная физиономия старика щурится на солнце, выражая немой вопрос.
– Не закрывайте окно, – предлагает врач. – Полезно подышать утренней свежестью.
– Да, уж чего-чего, а воздуха у нас в поселке с избытком. Это не атмосфера. Это, дорогой мой доктор, артмосфера.
Мимо проходит группа женщин, но здороваются они только с врачом, отводя взгляд от полуголого старика, свесившегося с подоконника.
– Недо… кормленные дамы, – ворчит Бартоломеу.
Местные женщины не любят утро. Ведь в это время мужья уходят из дому. Для доны Мунды все всегда было наоборот. Лучшей частью дня она всю жизнь считала утро. Когда Бартоломеу не было дома – как камень с души. Теперь все изменилось. Постоянное присутствие мужа – как осада или слежка, как горб, не дающий ни на секунду разогнуться.
– Люблю я поселок в такую рань, – говорит португалец. – Люблю смотреть, как он наполняется людьми.
– Ненавижу людей, – ворчит Бартоломеу.
– Скоро в каждом переулке появятся торговки.
– Они не местные. Те, которых вы видите здесь, еще не успели убраться восвояси.
– Сегодня во Мгле выдался день не мглистый, а ясный. Зачем же омрачать его, мой дорогой пациент?
– Они не убрались восвояси. Я не убрался на тот свет.
Врач смотрит на небо, раскинув руки, будто хочет обнять бесконечность. Жест красноречив: ничто не способно испортить ему настроение.
– Так вы войдете в дом, в конце-то концов, доктор?
Португалец уверяет, что зашел просто по пути, а не по долгу службы. Сегодня его единственное занятие – быть счастливым.
– Меня интересует одна очень неопределенно-личная вещь, – помолчав, говорит Бартоломеу.
– Что вы хотели узнать?
– Вы ведь приехали в Африку не только из-за Деолинды.
– А из-за чего же еще?
– Кто ж из-за одной только женщины из дому уедет? У вас была другая причина.
– Какая?
– Ну, наверное, вы не были счастливы.
Мы покидаем родину, когда она покинула нас. Уж кому-кому, а старому бродяге Бартоломеу Одиноку это известно.
– Я Португалию не покидал. Просто приехал за женщиной.
Так отвечает Сидониу, но в глубине души сам себе признается: на родной земле он счастлив не был. Мало того, не умел желать счастья. В Лиссабоне он жил среди родных, у него было полно знакомых. Он ехал в Африку и боялся, что здесь его замучит одиночество. Но теперь-то ясно: одиноким он стал давно. Одиноким среди родни и знакомых. Доктора Сидониу Розу, как говорит Бартоломеу, давным-давно уже некому было благословить.
– Мундинья говорит, что ваш отец умер здесь, в Африке. Это правда?
– Правда, – признает португалец. – Но не хотите же вы убедить меня, будто я приехал повидаться с его тенью.
– К духам в гости не ездят. Они нам являются сами.
– Да к тому же тела моего отца здесь нет. Его переправили на родину.
Отец Сидониу отправился в изгнание вскоре после того, как сын родился. Сам он верил, что бежит от фашизма. Но диктатура была только предлогом. Он пытался скрыться от пустоты. Ни один политический режим не имел к ней ни малейшего отношения. И от той же пустоты бежал спустя сорок лет Сидониу Роза.
– От демократии, скажу я вам, бежать куда обиднее.
– Чего не знаю, того не знаю: мне бы от жены сбежать – и довольно.
Хотя в придачу пенсионер был бы не прочь сбежать от всех Уважайму, кишмя кишевших в стране. От тех, у кого задница, как он говорит, шире спины.
– Вы вот тут рассердились на меня за то, что я не называю вас полным именем. Но мне известен ваш секрет.
– У меня секретов нет. Это у женщин вечные секреты.
– Ваша фамилия Цоци. Бартоломеу Цоци.
– Кто вам сказал? Небось этот козел-администратор.
Бартоломеу неохотно признается, что это и вправду его фамилия. Сначала имя ему поменяли посторонние люди, при крещении. А к тому времени, когда стало можно снова стать самим собой, он привык стыдиться африканской фамилии. Сам себе сделался колонизатором. Так Цоци превратился в Одиноку.
– Я мечтал стать механиком, отремонтировать весь мир. Но, между нами, пока нас никто не слышит, скажите, вы представляете себе механика с фамилией Цоци?
– Ини нкабе дзиуа[5].
– А, доктор, уже и их язык учите?
– Их язык? Да разве ж он не ваш?
– Не знаю. Я уже ничего не знаю…
Португалец завидует тем, кто говорит на двух языках. На одном можно распрощаться с прошлым. На другом – обманывать настоящее.
– Кстати, о языке. Знаете что, доктор Сидоню? Я постепенно размулачиваюсь.
Он зажмуривается, широко разевает рот и высовывает язык. Врач хмурит брови: слизистая покрыта грибком, от него и беловатый налет.
– Какие еще грибы! – возмущается Бартоломеу. – Я становлюсь белым на язык. Наверное, потому что говорю все время по-португальски…
Смех переходит в кашель, и португалец опасливо отстраняется от источника заразы. И чуть не натыкается на Уважайму, только что перешедшего улицу. Администратор запыхался и на бегу едва здоровается со стариком и с доктором. Но потом все же останавливается под окном, чтобы в тени тщательно вытереть вспотевшее лицо.
– А, уважаемое начальство! – произносит старик Одиноку. – С утра пораньше – и уже кур смешить.
– Что случилось, сеньор Уважайму? – спрашивает португалец, сглаживая бестактность своего пациента.
– Парни из предвыборного оркестра, – переводит дух чиновник, сдерживая приступ праведного гнева. – Парни из оркестра сбежали с инструментами.
– Да, вот так судьба играет человеком. Выходит, жулики оставили вас без ансам… бля?
Не замечая иронии, Администратор сокрушенно кивает. Это не просто рядовая кража. Тут пахнет политическими манипуляциями, кознями врагов родины.
– Рыбак рыбака… – иронизирует Одиноку.
– Отчего ты не уважаешь меня, Бартоломеу? Меня, который не жалеет сил для страны?
– Страна бы предпочла, чтобы вы поберегли свои силы.
– За что ты меня не любишь?
– Я люблю свою землю, своих близких. А кого любите вы?
Однако Администратор уже заспешил обратно, слегка припадая на одну ногу. Бартоломеу и Сидониу, провожая глазами начальство, похоже, созерцают закат его политической карьеры.
– Жаль толстяка, – сознается португалец.
– А мне на него насрать, – припечатывает Бартоломеу.
И хохочет. Тут же на него нападает такой приступ кашля, что ни охнуть, ни вздохнуть.
– Блядская жизнь, – говорит он, – жить не можем без смеха, а потом от смеха же и помираем. – И заключает, переведя дыхание: – Вы думаете, я – аномалия?
Врач глядит в окно, и его бросает в дрожь, когда он видит, до чего слаб, до чего недолговечен его единственный друг в поселке Мгла. Оконный проем кажется рамкой предсмертной фотографии упрямого отставного механика.
– Можно задать вам личный вопрос?
– Смотря какой, – отвечает португалец.
– Вы когда-нибудь теряли сознание, доктор?
– Да.
– Мне бы хотелось потерять сознание. Неохота умирать, так ни разу и не потеряв сознания.
Обморок – это смерть, поленившаяся доделать свое дело, временная кончина. Португалец – страж границы между жизнью и смертью – мог бы помочь ему устроить такой временный побег, короткую потерю сознания.
– Пропишите мне снадобье для обморока.
Португалец смеется. Он бы тоже не прочь устраивать сознанию перерывы, временно увиливать от обязанности влачить существование.
– Хороший удар молотком по голове – единственное, что приходит мне в голову.
Оба смеются. Смеяться вместе лучше, чем говорить на одном языке. А может, смех и есть язык, древний язык, который мы постепенно утратили, когда перестали владеть миром.
Глава тринадцатая
Врачу сообщают: старик Бартоломеу вышел из дома, бродит где-то по улицам, и никто не знает где. Если ноги сами тебя несут, забредешь далеко. А с головой отставной механик давно не дружит, она в плену или в заложниках, где-то отдельно от тела. Потому-то его внезапное исчезновение вызвало такую панику. Дона Мунда падает в ноги Сидониу, молит в тоске:
– Идите, доктор, найдите мужа, а то он уже, не дай бог, валяется без сил где-нибудь под забором.
Португалец берет спасательную операцию на себя и спешит по извилистым улочкам Мглы вслед за пациентом. Маршрут больного восстановить нетрудно: свидетели – на каждом углу. Старик то и дело терялся и обращался к прохожим за помощью.
– Где вы живете? – спрашивали его.
– Да разве это жизнь? – неизменно отвечал он.
Все запомнили ответ и все указывают дорогу, по которой за несколько часов до этого прошел Бартоломеу.
Во Мгле любое общественное место – оно же и личное: девушки заплетают косички, женщины стряпают, детишки какают. Тут и там мужчины подметают дворы вениками из пальмовых листьев. Родная первозданная пыль и так столбом стоит, а народ знай себе метет. Зачем? Португалец не находит ответа. В поселке двор улицей не считают, двор – это пол, это часть дома. Врач и не подозревает, сколько святынь порушил на пути и сколько раз вторгся в частную жизнь.
«Добрый день, дохтур!» – слышится с веранды, где двое портных строчат на старых швейных машинках. Приемники орут, надрывая батарейки, как на воскресной ярмарке. Музыка – божий дар, не поделиться ею грешно.
Чем дальше от привычных уголков, так хорошо знакомых доктору Сидониу, тем запутаннее и головоломнее пейзаж. Улочки превращаются в извилистые тропки, португальский язык почти не слышен. Врач погружается в неизведанное, в мир без географии, без языка. Местность утратила геометрическую форму, почва преобладает над населением.
Вскоре растерянность перерастает в страх. Здесь начинается континент, неизвестный Сидониу Розе. Вот теперь-то он понимает, до чего неполной была его Африка: одна площадь, одна улица, два-три железобетонных дома. И до чего он тут не к месту, и насколько, сам того не желая, бросается всем в глаза. По сути, португалец – не человек. Он олицетворенная раса, разгуливающая в одиночестве по закоулкам африканского поселка.
Сидониу Роза вспоминает вдруг, что ему никогда в жизни не приходилось звать на помощь. Он всегда считал, что это как-то нелепо, да и сами слова «караул!», «на помощь!» слишком длинные, слишком много слогов для случая, когда попал в беду внезапно. Английское «хелп» и то казалось уместнее. «Если на меня нападут, позову на помощь, – думает он. – Да, но кто же меня услышит? – думает он потом. – Даже если предположить, что кричать я буду достаточно громко и отчетливо».
– На помощь! – репетирует он, но так, чтобы никто не дай бог не услышал.
И только тогда понимает, что оказался на дне необитаемой низины. Здесь ни одного жилого дома – только старый цинковый сарай. Сидониу останавливается у входа на этот заброшенный склад. За его спиной скапливается небольшая толпа. Зеваки застыли в напряженном молчании. Вдруг кто-то жестом прокурора протягивает руку:
– Старик там, внутри! Заперся с малолеткой!
Португалец идет вперед один, слышит сладострастные стоны, из деликатности молча отходит в сторону и так и замирает. Что делать дальше, ему абсолютно непонятно, но этого он старается не показывать. В конце концов, он же врач, европеец, носитель знания, которое, как известно, сила. Народ столпился в отдалении и ждет. Время течет и ничего не происходит. До тех пор, пока из сарая снова не доносятся томные стенания в доказательство того, что старика еще рано списывать в тираж.
Слышно хихиканье, португалец встряхивает головой и снисходительно улыбается. На память ему приходит его собственный роман с Деолиндой. Он вспоминает свою комнату в Лиссабоне, рвущие ночь когти света, бешеный стук в груди. И нежный голос, повторяющий:
– Ты мой гвардеец.
Но воспоминание развеивается. Стоны начинают напоминать что-то другое: сначала крики боли, потом – сдавленный хрип. «Старик кончается?» – спрашивает себя Сидониу. Может, это не любовь, а агония? Португалец подходит к двери сарая, зовет Бартоломеу. Через мгновение из-за цинковой стены слышится сакраментальное «зачем?».
О том, что действительно произошло в этом бараке, не узнает никто и никогда. Если тут и была девушка для услуг, она, наверное, ушла через заднюю дверь. Никто не слышал ее шагов, никто не заметил ни следа. Врач вошел в пустующее здание, помог старику подняться с импровизированного ложа, точнее, с драной циновки.
– Я хотел услышать свое сердце, как будто я себя прослушиваю изнутри. Понимаете, доктор?







