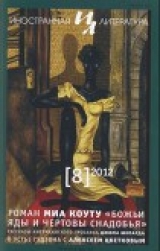
Текст книги "Божьи яды и чертовы снадобья"
Автор книги: Миа Коуту
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
– А можно спросить, почему вы стали спать врозь?
– Жизнь – река, доктор. Течение то прибьет одного к другому, то отгонит.
– Вы счастливы, дона Мунда?
– Я не несчастна. Но и не счастлива.
Она объясняет: жить без счастья и горя – больнее, чем страдать. Настоящее наказание – не прожорливое адское пламя. Настоящая казнь – вечное чистилище.
– Жизнь научила меня: горя бояться – счастья не видать.
И улыбается, ощутив, как ее нежно щекочет бог весть какое воспоминание. Потом встряхивает головой, опирается рукой о колено, чтобы встать. И оказывается с врачом лицом к лицу.
– Разговоры разговорами, доктор, но давайте к делу.
– К какому делу?
– Вы лекарство принесли?
– Какое лекарство? Вашему мужу больше ничего не нужно.
– Доктор, вы забыли? Я просила такое лекарство, от которого ему стало бы хуже, от которого ему стало бы совсем плохо… чтобы он… ну я уже говорила…
Врач-португалец срывается с места и начинает ходить из угла в угол. Разговор внезапно становится невыносимо тяжелым.
– И не думайте об этом. Не рассчитывайте на меня. Я врач, я лечу людей…
– Так вылечите меня. Бартоломеу так болен, что он уже сам не человек, а болезнь.
– Я врач…
– Болен он, а больно мне. И так всегда. Но с меня хватит.
Мунда ставит сито на пол и хватает врача за руки. Только недавно Бартоломеу Одиноку сжимал ему пальцы, как будто хотел удержать его душу. Теперь жена Бартоломеу умоляет врача подарить мужу смерть, такую безболезненную и чистую, чтобы ни царапины от нее в памяти не осталось. Чтобы и речи не было ни о каком бессмертии. Ведь на самом деле Бартоломеу давно уже умер, а лекарство нужно только для того, чтобы он наконец вспомнил, что мертв.
Сидониу вырывается из ее рук и, отскочив, задевает сито. Рис рассыпается по земле. Врач бормочет извинения и чуть ли не выбегает на улицу.
Калитка все хлопает и хлопает ему вслед, будто вторит настойчивым просьбам Мунды:
– Не забудьте, доктор Сидоню. Не забудьте о лекарстве.
Глава пятая
От доны Мунды веет нетерпением. Соломенный веер трепещет у ее лица. Но не потому, что ей жарко. Она отгоняет заразный дух медпункта, зловонный аромат болезни. С опаской идет она между больными, обходя тех, кто валяется на полу, кто стоит и сидит, подпирая стены. Никогда на ее памяти не бывало в медпункте такой толпы народу.
Эпидемия во Мгле нарастает. Все больше случаев лихорадки, бреда, конвульсий. Недавно приехавший португалец – здесь единственный врач, и ему не справиться. А может, болезнь вообще не из тех, что поддаются науке. Чтобы отогнать туман неизвестно откуда взявшейся напасти, дона Мунда нервно гоняет воздух веером. Потом заглядывает из коридора в окошко приемной и видит, что врач Сидониу Роза осматривает ребенка.
«В каждом враче есть что-то от матери», – думает она, глядя, как португалец, сложив ладонь лодочкой, поддерживает под попку больного младенца.
Ей вспоминается день, когда Сидониу приехал в поселок, и она увидела, как он вылезает из грузовика на остановке. Она пошла, держась на расстоянии, за незнакомым белым мужчиной, что-то ей подсказывало: иностранец приехал в поселок по делу, которое касается ее. У дверей медпункта взгляды Мунды и приезжего так резко пересеклись, что она с ним робко поздоровалась. Поколебавшись, португалец обратился к женщине:
– Я ищу сеньору Мунду Одиноку.
– Это я и есть.
– Я врач, командирован в поселковый медпункт.
– Ой, только не говорите, что вы от этих – как их? – от бесправительственных организаций.
– На самом деле я приехал ради вашей дочери Деолинды. Мы познакомились в прошлом году в Португалии.
Дона Мунда помолчала. Поправила платок, как будто собираясь с духом для вопроса, который она и хотела, и боялась задать:
– Так вы за моей дочерью приехали?
Глаза ее наполнились влагой, задрожали густые ресницы.
– Я приехал с ней повидаться, – ответил незнакомец. – Мы очень близки.
– Как вы сказали?
Начался роман во время конгресса, на который Деолинда приехала в Португалию. Оба думали: так, очередной эпизод. Любовный клубок ради того и замотан, чтобы его размотали. Но потом оказалось, что одним навязчивым воспоминанием дело не кончится. Переписка все длилась, множились клятвы и обещания. Пока внезапно Деолинда не перестала отвечать на письма. Врач то взвешивал свое нетерпение, то измерял тоску. И понял, что страданиям его меры нет. Он затолкал пожитки в чемодан, оформил документы, обменял деньги и отправился за море к любимой.
– Мне надо повидаться с Деолиндой, я больше не могу без нее.
– А вы разве не знаете, что Деолинды нет?
– Как нет?
– Она уехала за границу.
– Совсем?
– Что вы сказали?
– Я спросил, навсегда ли она уехала.
– Она скоро вернется. День, другой – и она тут.
Дона Мунда пошла от медпункта домой, то и дело крестясь и бормоча молитвы. С тех пор сама она ни разу в медпункт не заходила. Наоборот, доктор приходил к ней домой и, надо сказать, делал это ежедневно, с завидным прилежанием.
Прошло несколько недель, и Мунда успела понять, что некоторые вещи лучше делать подальше от дома. Потому она и стоит сейчас в коридоре медпункта, нетерпеливо заглядывая через окошко в кабинет врача.
Наконец Сидониу выходит в коридор, торопливо устремляется куда-то, по пути стаскивая с себя халат, но замирает как вкопанный, столкнувшись с посетительницей.
– Дона Мунда? Что-то стряслось с Бартоломеу?
Слишком много народу, слишком много стен, у которых есть уши. Мунда отзывает его в сторонку и, извернувшись, достает что-то из складки своей капуланы.
– Опять письмо пришло.
– От Деолинды?
– От кого же еще?
Доктор сам не свой: халат падает на пол, руки тянутся вперед в немой мольбе. Женщина тайком сует ему конверт.
– Здесь не вскрывайте… пос… после прочтете, доктор.
Она аж заикается от волнения. Спотыкаясь, карабкается по слогам, чтобы добраться до целого слова.
– Боюсь, вдруг явится Бартоломеу.
– Сюда? Да он ведь из дому не выходит.
Сидониу, развернув листок, пожирает глазами строчки, написанные любимой. В поселке нет телефонной связи, а Деолинда далеко, где – он точно не знает, на курсах повышения квалификации. Мать сама не представляет, где эти курсы и чему на них учат.
– Беда быть матерью! Хуже только совсем не иметь детей, – жалуется она, подбирая с пола разорванный конверт.
– Что она пишет, доктор? Что пишет моя дочь?
– Пишет, что, может быть, приедет пораньше.
Оба облегченно вздыхают. Приезд Деолинды все время откладывался. Сначала занятия никак не начинались, потом объявили о дополнительной стажировке, а потом неожиданно добавили тестирование.
– А о чем еще пишет Деолинда?
– Просит новый телевизор для вас, дона Мунда.
– Телевизор? Мне? Ох, ну что за дочь! Прямо неловко. У нас дома уже есть один.
– Но он ведь заперт в комнате у Бартоломеу.
Привилегия эта, правда, сомнительная: муж жалуется, что дряхлый аппарат передает репортажи из столицы с опозданием дней на пять. Доктор улыбается, он сама щедрость и бескорыстие:
– Я куплю вам телевизор… или лучше два.
– О, вы и так нам столько всего уже надарили.
К тому же Бартоломеу телевизор не нужен: он включает его и тут же отключается сам, пара секунд – и храпит.
– Да не в вещах дело. Не их ваша дочь просит. Она хочет, чтобы я позаботился о вашем благополучии и взаимной любви…
– Не может быть!
Врач цитирует Деолинду: «…я хочу, чтобы мои родители были счастливы, чтобы и дальше жили душа в душу и чтобы приехали в столицу благословить наш брак».
– Деолинда бредит. Этот, ее папаша, никогда больше не выйдет из комнаты. Я одна поеду на свадьбу. Я всегда одна о ней заботилась…
– Нет-нет. Вы оба поедете, как положено, я уж постараюсь, чтобы все так и было.
– Можно мне взглянуть на письмо, доктор?
– Конечно, ведь я его уже прочел.
– А можно мне забрать его?
Сидониу уже готов спросить зачем, но сдерживается. Вместо этого напоминает об осторожности:
– Бартоломеу ни о чем не должен знать. Бедняга, он и представить себе не может, что происходит между мной и его дочерью.
Мать проводит пальцами по бумаге, как будто причесывает строчки. Указательный палец букву за буквой расшифровывает какой-то тайный код, маршрут, проложенный по карте ее сердца.
– Почерк, доктор, почерк у нее все тот же, что и в детстве.
Она укачивает письмо на груди, словно младенца.
– Если вы отдадите мне его, я буду мысленно разговаривать с моей девочкой.
Португалец в нерешительности кусает губы. Мать пристально смотрит ему в глаза. Доктор разбирается в недугах. Ему ли не почувствовать, как болит сердце матери, когда ее дитя далеко.
– Я боюсь только, как бы это письмо не расстроило вас еще сильней.
– Не волнуйтесь, доктор. Платок у меня большой: сколько ни наплачу, все вытрет.
Он протягивает ей письмо. Она начинает притопывать и кружиться. Благодарность так велика, что ее можно выразить только всем телом. Дона Мунда танцует. Сидониу Роза не знает, что нынче же вечером, только загорятся звезды, она встанет у открытой двери веранды и будет беседовать с теми, кого нет. И надолго увязнет в сведении несводимых счетов с судьбой. Врач не знает, что во тьме во все стороны тянутся дороги. И по одной из этих дорог придет Деолинда. Придет об руку с богом, лишенным неба, и сядет на стул, на который с самого ее отъезда никто не садился.
Мунда целует и целует конверт. Потом складывает его, чтобы он поместился в лифчик.
– Вам везет, доктор. Мне моя дочь никогда не писала.
– Честно говоря, дона Мунда, мне кажется, тут что-то нечисто.
– В каком смысле нечисто?
– Деолинда не говорит мне всей правды. Приезд постоянно откладывается… И почему бы ей не написать, где она?
– Вы ничего не понимаете: дело не в вас. Дело в старике, в ее отце.
– В отце?
– Дочь откладывает приезд, боясь застать отца больным, немощным, одной ногой в могиле. Это от него она прячется.
– Не знаю, не знаю…
– Зато я знаю, я ведь ей мать. Деолинда слишком любит отца, чтобы вынести подобное зрелище…
– Так напишите, пусть возвращается: я позабочусь, чтобы к ее приезду отец стал кровь с молоком.
– Доктор, я не понимаю.
– Ну это просто такое образное выражение.
– Всякие такие выражения используют тогда, когда боятся сказать правду. Вы уж простите за откровенность, доктор Сидоню, но у меня что на уме, то и на языке.
В разговор врывается шум и крики с улицы. В первый момент всплывает мысль об уличных беспорядках. Потом становится ясно: это духовой оркестр с барабанами. Он марширует посреди улицы, за ним – колонна борцов за демократию, скандирующих лозунги и размахивающих флагами. Предвыборная агитация в разгаре.
– Опять эта свора жуликов, – ворчит Мунда.
– Бога ради, говорите потише.
Дона Мунда презрительно щелкает языком и продолжает так же громко.
– Впереди, ясное дело, патрон всех жуликов – господин Районный Администратор.
Врач кланяется проходящей процессии. Он приветствует Алфреду Уважайму, пожизненного Районного Администратора. Тот кивает ему в ответ и с улыбкой указывает на флаг, развевающийся на верхушке флагштока. Не далее как на прошлой неделе чиновник приходил к доктору на прием. Он вошел в кабинет, подволок поближе стул и сел на него, раскорячившись так сильно, как только власть имущие могут себе позволить. Не давая ни секунды передышки носовому платку, он беспрерывно елозил им то по лбу, то по шее. В тоне его неведомо как совмещались мольба и приказ:
– Мне нужно лекарство, доктор.
– Лекарство? Вы не могли бы выразиться поточнее?
Нет, он просил не афродизиака, как подумал сначала доктор. Ему требовалось средство, способное прекратить потоотделение. Не дезодорант, а абсолютный ликвидатор пота. Он хотел вообще избавиться от потовых желез.
– Потливость – недостаток, свойственный бедноте. А мы, дорогой мой доктор, боремся с бедностью, не так ли?
Так что пусть доктор освободит его от этой плебейской тенденции. А то он тут недавно по непростительному недосмотру утерся национальным флагом.
– Вы только подумайте: вытер пот со лба нашим священным знаменем!
Чиновник злоупотребляет эпитетами, как другие заикаются. Никогда не скажет «наш поселок», а только «наш утопающий в садах поселок», хотя обильной растительностью здешний пейзаж похвастаться не может. От него не услышишь простое слово «страна», а только «наша горячо любимая дивная Родина». Боясь показаться слишком лаконичным, доктор тоже стал уснащать свою речь эпитетами. Из тех же соображений он сейчас улыбается и радостно машет всем проходящим.
– Извините, доктор, – ворчит Мунда, – по-моему, вы ему слишком потакаете.
К примеру, Уважайму велит не допускать других посетителей в медпункт, когда сам прибегает к его услугам. А врач и рад стараться. Да к тому же закрывает глаза на то, что Уважайму умыкает с медицинского склада продукты, медикаменты, спирт, матрасы, простыни. Португалец признает, что действительно слишком уступчив. Но он не знает, как вести себя в мире, где у предпринимателей нет предприятий, а государственные служащие решают исключительно частные вопросы.
Но вот опять наступает покой, и поселок постепенно приходит в себя после шумного нашествия. Говорят, будто тишина внушает страх, потому что в пустоте никто ничему не хозяин. Возможно, по этой причине врач торопится вновь заговорить:
– Почему бы нам не рассказать вашему мужу?..
– О чем?
– Обо всем, о нас с Деолиндой…
– И думать нечего. Бартоломеу ни за что не согласится.
– Но почему? Потому что я белый?
– Не в этом дело. У моего мужа очень странные отношения с дочерью.
– Может быть, потому что она ваша единственная дочь?
– Все дети единственные.
Барабанщики бегом догоняют процессию. Они отстали: остановились помочиться на площади, под огромной акацией. Кивают врачу и торопятся вернуться в строй и попасть в такт.
– Знаете, доктор, я пойду, а то поздно уже.
– Я провожу вас.
– Не надо. Здесь не принято, чтобы мужчина провожал женщину, разве что виды на нее имеет.
– Я врач, да еще и иностранец.
Мунда упорно отнекивается, но врач берет ее под руку и ведет к дверям. Она делает несколько шагов, но внезапно рука ее выскальзывает из-под его руки, и она отступает в сторону.
– Только учтите: мне ничего не надо…
– Я знаю.
– Я не хочу, чтобы вы дарили мне все эти вещи, которые Деолинде все никак не надоест заказывать.
– Знаю, дона Мунда.
– Если бы моей дочери – да другие мозги, если бы жизнь ее сложилась по-другому, то я бы попросила вас, господин доктор… Ну ладно, что уж теперь говорить…
– Говорите, дона Мунда, не смущайтесь, просите о чем угодно.
– Я бы попросила вас увезти ее, доктор, увезти мою дочь подальше отсюда.
Потому что здесь, считает Мунда, – все равно что на корабле в пожар: не утонешь, так сгоришь.
– Ваша дочь не хочет уезжать из страны.
– Моя дочь сама не знает, чего хочет. Потому она и просит чего-то все время: не знает, чего хочет…
Кто все время чего-то просит, ничего по-настоящему не хочет – так думает Мунда о дочери и обо всех, кто постоянно клянчит.
– Меня еще один вопрос тревожит, дона Мунда.
– О чем вы хотите спросить, доктор?
– Что это за загадочная оказия, которая доставляет письма от Деолинды? Кто эти люди, которых никто никогда не видел?
– Все бы вам знать, доктор. Просто родственники. Вы ж понимаете: мы тут в Африке все друг другу родня.
Она отводит глаза и, видимо, судорожно пытается придумать отмазку. Сидониу понимает: больше ничего не добьешься. Они прощаются. Врач никогда не позволял себе большего, чем рукопожатие: дона Мунда – будущая теща. Поэтому он удивляется, когда она, усмехнувшись, говорит:
– Можете попрощаться со мной, как попрощались бы с Деолиндой.
Врач, не сразу опомнившись от удивления, целует ее в щеку.
– Борода у вас колючая.
Он проводит рукой по подбородку, смутившись, как будто колючая борода – это крайне неучтиво.
– А что, доктор, Деолинда тоже жалуется?
Она уходит, и врачу кажется, что бедра ее чуть заметно, но вызывающе покачиваются. Он оборачивается и зовет ее:
– Дона Мунда!
Она возвращается, зрачки ее трепещут, будто в них колотится сердце.
– Что такое, доктор?!?!
– Насчет лекарства… Положитесь на меня.
Женщина бросается было целовать врачу руки, но, не решившись, поднимает голову. Они стоят, держась за руки, в ее глазах бесконечная благодарность:
– Благослови вас боже, доктор.
– Будет, дона Мунда, на нас же смотрят…
– Разрешите отблагодарить вас за доброту. Я могла бы, например, стирать вам белье.
– Мне его стирают в пансионе.
– Тогда я могла бы помогать вам в палатках, с этими больными, ну, которые сейчас появились.
– Не стоит, Мунда, вашему мужу это не понравится.
Речь идет об импровизированном лазарете на заднем дворе медпункта. В нескольких палатках лежат солдаты – жертвы странной эпидемии, превратившей их в малохоликов. Для врача – это полевой госпиталь, царство гигиены и асептики. Для жителей поселка лазарет – обиталище злых духов, нечистое место.
Глава шестая
– Вы куда?
Уважайму встает в дверях пансиона, не давая врачу выйти. Сидониу быстро ставит на пол портфель, как будто спешит избавиться от опасной улики. Чиновник инквизиторским тоном вопрошает:
– Опять к механику?
Администратору все ясно: иностранец слишком много времени тратит на этих Одиноку. Португалец – единственный врач на весь поселок, эпидемия в разгаре, а у него, Уважайму – профессионального политика, – в разгаре предвыборная кампания.
– Вы хоть понимаете, в каком нелицеприятном виде выставляете меня, моих сторонников…
Однако спохватывается и сворачивает на более дипломатичную тропу: португалец не имеет права бросать на произвол судьбы стольких больных ради одного старика, к тому же неизлечимого.
– Этот Бартоломеу уже одной ногой в могиле стоит.
Позднее врач, пересказывая эту сцену своему пациенту Бартоломеу Одиноку, буквально будит вулкан, извергающий потоки злобы:
– Сам он одной ногой в могиле, этот ваш козел-бюро-крат!
– Спокойнее, поберегите сердце.
– Знаете, я еще устрою, что этот Уважайму захлебнется собственным дерьмом. Вот увидите, что я сделаю.
Он достает из ящика комода флаг Колониальной судоходной компании, разворачивает его и несет к окну. Цепляет бело-зеленое полотнище на телевизионную антенну, а потом отступает на несколько шагов, чтобы хорошенько рассмотреть, как оно развевается на ветру.
– У него свое государство, у меня – свое.
Этот дом – и есть страна Бартоломеу. Такая огромная, что не помещается на карте. Все знают, что свой дом только тогда и свой, когда он обширнее целого мира. А уж теперь, под сенью этого флага суверенитет страны Бартоломеу упрочен, весть о нем прогремит на весь поселок.
– И пусть этот козел только попробует сорвать флаг!
В запале он машет руками и сам похож на тряпицу, прикрепленную к древку и оставленную на волю ветров. Как вдруг – приступ головокружения, старик хватается за грудь, будто пытаясь удержать внутренности, которые рвутся наружу. Врач подхватывает его, не давая упасть, укладывает на диван, просит успокоиться, велит дышать глубоко, потом берет указательным и большим пальцами его запястье, считает удары мятежного сердца.
В какой именно момент человек засыпает? Тогда, когда теряет связь с миром, опускаясь на дно собственной души? Когда в сознании его остается одна узкая полоска света, эхо голосов, доносящихся из такого далека, что чудится, будто это шелест ангельских крыльев?
Бартоломеу не нужно, чтобы его укачивали ангелы. Руки Сидониу Розы ему вместо ангелов. Старик соскальзывает в сон, пока врач меряет ему пульс. Голова Бартоломеу покачивается, как знамя, которое вот-вот свалится с древка-шеи.
Но через пару секунд он вдруг пробуждается как от резкого толчка. Кто-то, сидящий у него внутри, выпихивает его из сна. Он смотрит растерянно, медленно вытирает, будто тряпкой, лицо ладонью. Потом вдруг содрогается всем телом:
– Какой холод!
Бесприютно озирается, снова вздрагивает весь с ног до головы.
– Мне бы накрыться, а эта блядь утащила все пледы и по-завешивала ими окна.
Все же он встает и отправляется на поиски маловероятного одеяла. Его шатает. Слова шатаются тоже. Комната потеряла очертания, он только угадывает какие-то тени и вслепую огибает знакомые предметы.
– Кому холоднее, спрашиваю я вас, мне или дому?
И снова ссыпается в постель. Сворачивается пустой скорлупкой и вкладывает всего себя в тяжелый вздох.
– Меня клонит в сон, доктор, но мне как-то странно.
– Почему?
– Не в человеческий сон меня клонит. В звериный. Боюсь засыпать.
Механик опасается забираться в глубины, где живут его внутренние чудовища. И потому просыпается всегда как от удара. Мутными со сна глазами смотрит он, как врач медленно убирает стетоскоп в портфель и понимает, что тот нарочно тянет время, чтобы как можно дольше не приступать к отчету о состоянии больного. Бедный доктор, он так заврался, что врать разучился.
– У меня к вам просьба. Только обещайте, что выполните.
– Посмотрим.
– Убейте меня, доктор.
– Извините, вы о чем?
– Я прошу вас убить меня, покончить со всем этим…
– Опомнитесь, друг мой.
– Заклинаю вас всем, что вам дорого. Бывают же такие ядовитые снадобья…
– Даже отвечать не стану.
– Ладно, если вы не можете, позвольте Мунде. Помогите Мунде исполнить наше общее с ней желание.
– Вы не понимаете, Бартоломеу…
– Пожалуйста…
Торопясь с отказом врач не сразу замечает, что старик плачет. Бартоломеу всхлипывает без слез и так неслышно, что и сам не сознает, что с ним творится.
– Вы не понимаете, Бартоломеу, что ваша супруга… Знаете, что она мне сказала?
– И слышать не хочу.
– Ваша жена попросила, чтобы, если вы умрете, я бы помог умереть и ей.
Внезапно старик поднимает глаза к потолку, пытаясь удержать слезы. Он думает, что не расслышал. Просит португальца повторить, растерянно мотает головой.
– Вранье!
– Клянусь, она меня об этом попросила.
Механик пытается соединить слова и смысл. Мундинья, вечно грубая и раздражительная, вдруг захотела разделить с ним…
– Вы это сказали, чтобы меня отговорить?
– Я просто сказал правду.
– Почему вы никогда не делаете того, о чем я прошу? Недавно я просил, чтобы вы помогли мне помыться, вы отказались. И вот я опять прошу, а вам хоть бы что.
– Я готов искупать вас с ног до головы, лишь бы вы отбросили эти дурацкие мысли о смерти. Я вас отмою, вы станете снова красавцем, пойдете на улицу, подцепите девицу…
– Когда я в прошлый раз вышел из дому, вы меня унизили.
– Я?
– Пошли меня искать, будто я вовсе беспомощный…
– Я только хотел помочь…
– И помешали, – твердо отчеканивает Бартоломеу.
– Больше не буду.
– Да вы не поняли. В тот раз я пошел не за любовными похождениями, не за малолетками.
– Тогда за чем?
– Хотел найти кого-нибудь, кто сослужил бы мне эту хренову службу.
– Какую?
– Прикончил бы меня.
Он резко подносит ладонь к горлу и, будто ножом, проводит ее ребром по адамову яблоку.
– Однако, – с иронией замечает врач, – исполнитель, похоже, попался забывчивый.
– Да нет, я никого не нанял. Вышел, все понял и вернулся обратно…
Он понял, что не может умереть как попало. Нельзя разбрасываться последним сокровищем, которое ему осталось – собственной смертью.
– Пусть меня убьет белый!
Португалец хотел было возмутиться, уличить больного в расизме, но промолчал. Нет времени спорить, надо еще зайти в лазарет, к жертвам эпидемии.
– Не делайте глупостей и не говорите чепухи.
– А знаете, зачем я хочу умереть? Чтобы узнать, чем моя жена всю жизнь занималась, изменяла ли мне. Мертвым все известно.
Голос старика звучит торжественно, но Сидониу Роза, выходя на улицу и направляясь в пансион, не перестает улыбаться. За стойкой темного дерева дремлющий портье машинально протягивает ему ключ. Не глядя, врач бросает:
– Не тот.
Портье задумывается, покачивая связкой ключей. Он оценивает сообразительность постояльца и одновременно пытается понять, не снится ли ему все это.
– Тогда это что за ключ? – спрашивает он сонным голосом.
Не дожидаясь, пока портье разберется что к чему, доктор выхватывает у него из рук всю связку и мчится вперед по коридору.
– Вы куда, доктор? Отдайте ключи.
Поздно: португалец уже проник в запретные глубины облезлого и запущенного здания. Портье, хромая, бросается следом. Португалец слышит за спиной неровные шаги и, кажется, даже мысли преследователя: «Козел, вонючий португалишка! Ведь устроился же я на такую работу, где меня не видно за стойкой, и вот – на тебе! – ковыляй теперь на покалеченных ногах за тобой, будто краб по битому стеклу…»
Но тут измышления доктора прерываются реальным жалобным воплем портье:
– Не делайте этого, доктор! Патрон, умоляю, не надо!
Доктор как раз остановился перед дверью таинственной комнаты, куда никто не осмеливается войти. Хромой, отчаянно жестикулируя, кружит около иностранца, будто ворон с перебитым крылом.
Португалец еще колеблется, но чувствует, что дверная ручка начинает поддаваться. Он замирает, повернув ее наполовину. Какой сюрприз готовит нехорошая комната? Кровавые брызги на стенах, тошнотворный запах покойника, ошметки растерзанного трупа?
Сидониу, собравшись с духом, но на всякий случай прикрыв глаза, резко толкает дверь. В комнате чисто, ничем не пахнет, ни следа насилия. Наоборот, здесь царит дух покоя и монастырского порядка: кровать аккуратно заправлена выстиранным и выглаженным бельем. Очки, браслет и блокнот ровненько разложены на прикроватной тумбочке.
– Кто здесь остановился?
– Никто.
– Как никто?
– Был жилец. Теперь нет.
– Уехал? Ушел?
– Ушел. Из жизни.
– Умер? Как это случилось?
– Не знаю. Спросите у патрона. У другого патрона, я имею в виду.
– И никто не приходил за вещами?
– Закройте дверь, доктор, и верните ключ, а то мне попадет из-за вас…
Далее беседа скатывается в метафизическое русло. Кто здесь жил? Портье, избегая прямого ответа, уводит разговор в сторону: «жил» – это неправильно. У глагола «жить» не бывает прошедшего времени.
Глава седьмая
Накануне шел дождь, и Сидониу нарушает полдневный покой сельской улочки, прыгая наподобие кенгуру через лужи в малодушном стремлении уберечь ботинки. Он обходит рынок и оставляет позади пансион, в котором остановился, как только прибыл в поселок Мгла.
Дону Мунду он обнаруживает на заднем дворе. Она развешивает белье. Врач идет, раскачиваясь и смешно пританцовывая, уворачиваясь от хлещущих на ветру простыней.
– Как вы думаете, доктор, будет еще дождь?
Доктор задирает голову, но бескрайнее небо не в его компетенции. Здешние тучи ему чужие, да и будь они даже лиссабонскими тучами, он не смог бы прочесть по ним прогноз погоды. Нет, он не из тех, кого в поселке зовут «толкователями туч».
– Каждый раз, как развешиваю простыни, – доверительно сообщает Мунда, – этот подглядывает за мной из окна. Бедняга думает, что я готовлю ложе для нашей новой брачной ночи…
– А почему бы и нет?
– Ни за что.
– Но почему?
– У меня на то свои причины.
– Но вы все еще любите его. Видно же, что любите.
– Любовь тут не ночевала.
– Подумайте как следует, дона Мунда.
– Я хочу, чтобы он помер. Вот как помрет, буду спать с ним хоть все ночи подряд.
Врач гоняется за ней между развевающимися простынями, будто в салки играет.
– Но скажите, почему вы его так ненавидите.
– Ненавижу? Много чести.
– Но убивать-то его за что? Что он вам плохого сделал?
– Не так сделал, как еще сделает.
Бартоломеу не настолько труслив, чтобы быть злодеем. С какой стати ему замышлять что-то против собственной жены?
– Бартоломеу не причинит вам зла.
– Так отчего же, спрашивается, он мне каждый день угрожает?
Мундинья спускает по бедру таз с бельем, вытирает передником пот со лба.
– Я вам скажу: он грозится пустить слух по округе, будто я колдунья.
Такая судьба у женщин: всегда они во всем виноваты. А чем старше, тем – говорят – больше у них опасных умений. Доказательств не требуется. Суд бывает скорым, ни судьи, ни статьи. Приговор вынести проще простого: женщины приговорены заранее.
Последним, что наколдовала Мунда, могла бы стать, к примеру, хворь, повредившая рассудок солдат. Не армия ли во время недавней гражданской войны бросала вызов силам небесным? Малохолики теперь расплачиваются за грехи всего войска. А наворожила – Мунда.
– Тут неподалеку вдова жила. Так ее обвинили в том, что она ведьма, и забили камнями до смерти.
Убили как бы все и никто. Тысячелетние страхи и предрассудки узаконили подобные казни. Да вот ведь и сама Мунда хотела похожего: убить и как бы не убить мужа, дать ему яду под видом лекарства. Несчастная соседка была полной вдовой, она действительно овдовела. Мунда была всего лишь полувдовой. Ее ведьминские способности дожидались только смерти супруга, чтобы развернуться во всю ширь.
– Зайдите в дом, доктор. Успокойте этого. Он уж, верно, извелся весь, гадая, о чем мы тут разговариваем.
– Тогда я пошел.
– И скажите ему, что это белье не из-под солдат. Это чистое белье, чище, чем то, которое он каждый день марает.
Иностранец пятится, не отворачиваясь, наблюдая, как Мунда то появляется, то исчезает за хлопающими на ветру простынями. Он открывает дверь, ведущую во внутренний двор, когда женщина окликает его снова:
– Бартоломеу говорил мне, что вы собрались к старому кладбищу… Прошу вас, не ходите туда.
– Казарма как раз в тех краях, как врач я обязан…
– Не ходите, доктор, пожалуйста! Поклянитесь, что не пойдете.
– Ну, во всяком случае, мне придется подождать, пока земля подсохнет.
– Не ходите! Там нечисто.
– Ваш совет я обдумаю. А сейчас пора навестить моего привилегированного пациента. Мы потом поговорим, дона Мунда.
Сидониу Роза входит на кухню, чувствуя, что Мунда провожает его взглядом аж до мрачной утробы дома. Занавески, как всегда, задернуты. Декоративный папоротник в горшке на высокой скамейке давно уже засох, но его не выбрасывают. «Он еще оживет», – твердит Мунда. Самообман: растение погибло окончательно и реанимации не подлежит.
Дверь в глубине коридора отворяется еще до того, как доктор успел постучаться, Бартоломеу спешит с вопросом:
– О чем это вы там вдвоем говорили?
Ни тебе здравствуйте, ни тебе добрый день. Веки дрожат, как листва на ветру. Лицо у Бартоломеу от болезни съежилось, а глаза увеличились до такой степени, что в них невозможно смотреть. Закон природы: даже когда тело человека дряхлеет, глаза остаются молодыми. Но у механика время и глаза сумело затуманить.
– Колдунья. Она точно колдунья, – заявляет больной.
– Не говорите так, это опасно.
– Вот-вот! Она опасна.
Что ходить за примерами! Однажды он подарил ей цветок, дикую лилию с большими белыми лепестками. Когда ее поставили в кувшин, она так светилась, что, казалось, и лампы не надо.
– Он мясом пахнет, этот твой цветок, – так она его поблагодарила. И все. Спасибо от нее не дождешься. На следующий день цветок превратился в человеческую руку. Жена напомнила:
– Я ж говорила: не рви цветов на том поле.
– При чем тут поле?
– Там цветы расти не должны. Это поле – кладбище немецких солдат. Оно проклято.







