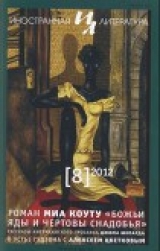
Текст книги "Божьи яды и чертовы снадобья"
Автор книги: Миа Коуту
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Миа Коуту Божьи яды и чертовы снадобья
Воображение – это обезумевшая память.
Мариу Кинтана
Глава первая
Врач Сидониу Роза втягивает голову в плечи, готовясь переступить порог с тем же трепетом, с каким склонялся бы над вскрытым чревом пациента. Он посещает на дому семью Бартоломеу Одиноку, отставного механика из поселка Мгла. Супруга больного, дона Мунда, встречая врача в дверях, не удостаивает его ни словом, ни даже улыбкой. Приходится выкручиваться самому:
– Ну что, наш Бартоломеу сегодня молодцом?
– Таким молодцом, что впору нести ему в кровать молитвенник и свечи…
Хриплый голос звучит будто издалека, кажется, она говорит через силу, тема ей в тягость. Врач не уверен, что верно понял. Он ведь португалец, в Африке без году неделя. Ну что ж, второй заход:
– Я, дона Мунда, о вашем муже спрашиваю…
– Он очень плох. Соль вся в крови разошлась.
– Какая соль? У него сахарная болезнь.
– Он не согласен. Говорит, если, мол, у него диабет, то у меня черти на обед.
– Вы все ругаетесь?
– И слава богу. Нам ведь больше заняться нечем. Думаю, доктор, ругань для нас – все равно что для других любовные признания.
Мунда останавливается посреди коридора и заправляет под платок выбившуюся прядь, будто эта жалкая кудряшка – последний знак ее остывающей чувственности.
– Скажите, доктор, а у Бартоломеу не та хворь, которая нынче ходит по поселку?
– Нет, это другая болезнь.
– Тут недавно один из таких сумасшедших пробегал: руками машет, того и гляди взлетит.
– Медпункт ими битком набит, почти все – солдаты.
– Знаете, как их народ называет? Малохоликами.
– Да, я знаю. Малохолик – забавное слово…
– Думаете, это сглаз?
– Никакого сглаза не существует, дона Мунда. Болезни возникают по объективным причинам.
Мунда стучит в дверь спальни-крепости, где заперся и чахнет уже который месяц ее старик. Она ждет, что Бартоломеу проворчит что-нибудь в ответ. Тщетно. Не жалея костяшек пальцев, она барабанит снова. Доктор Сидониу робко пытается ее остановить.
– Может, он спит. Я попозже зайду…
– Ничего, этот проснется как миленький.
Иногда она называет мужа «этот», иногда сокращает его имя до Барту. Сейчас, прижавшись щекой к доскам, она трясет щеколду. Наконец из спальни доносится:
– Зачем?
С самого приезда Сидониу Роза не устает удивляться. Вот, например, что это за вопрос вместо «кто там?». Но дона Мунда уже объясняет, что привела доктора. Муж цедит сквозь зубы: врач пусть войдет один, а то при виде жены у него пульс сбивается, черти б ее драли при всем к ней почтении.
Теперь надо ждать, пока он откроет. Дона Мунда истолковывает врачу-португальцу смысл тягучих и вязких звуков, доносящихся из-за двери. Слышно, как старый Бартоломеу медленно, как застывающая лава, сползает с кресла, слышно, как стонет, нагибаясь, чтобы надеть носки. А сейчас, говорит Мунда, сейчас он натянет чулки, чтобы они прикрывали колени.
– Ваш муж так тщательно обувается…
– Да ладно! Ему просто стыдно.
– Стыдно?
– Он говорит, что у него все ноги в коросте, а ногти отросли так, что аж землю загребают.
– Ну, дона Мунда…
– Это не я говорю, это он. А еще рассказывает, что его дед перед смертью покрылся чешуей…
Если верить Бартоломеу, это у них семейное – перед смертью превращаться в ящерицу. Вот и он постепенно ящеризируется. Тело, правда, еще кое-как держится, но душа-бедняга уже пресмыкается вовсю. Жена ворчит, а потом вздыхает:
– Остался бы дурень в больнице. Да ведь такому хоть кол на голове теши! А в городе – так ему было хорошо.
Бартоломеу не выписался, сбежал. Ему поставили капельницу от слабости, кормили через кровь. Но сам он считал, что все наоборот: это его флюиды, которые выкачивают из него через вену, кормят всю больницу. Краденая кровь бежит по жилам здания, стекает по стенам и на закате отражается в небесах. «Больница – место нездоровое», – заявил старик, дал деру и вернулся в свою берлогу: «У нас с моим домом на двоих одна болезнь – тоска по невозможному».
– А уж мне до чего было хорошо! – стонет жена. – Лучшее, что со мной в жизни случилось, – это когда дурня упекли в больницу…
Дона Мунда набирает в грудь воздуха для горестного вздоха, Но не успевает выдохнуть. Дверь наконец открывается как раз в тот момент, когда врач спрашивает:
– Анализы ему там сделали?
Вместо ответа является Бартоломеу. Бывший механик – тень, тающая в темноте. Он стоит, вцепившись обеими руками в пряжку, боится, что штаны упадут.
– А, доктор. Это точно вы… А то эта меня иногда обманывает, переодевается, чтобы я ее не узнал и впустил.
Решительный жест жене: мол, останься за дверью. Неуверенным шагом, будто проталкиваясь сквозь толщу удушливого смрада, доктор входит в темную спальню. Бартоломеу, волоча ноги, плетется впереди. Сзади, стараясь не слишком быстро догонять их, крадется дона Мунда. Шаги Бартоломеу – короткие, так ходят по тюремной камере. Ее шаги округлые – будто она идет по острову.
– Итак, друг мой, вам лучше?
– Если мне когда и станет лучше, это уже буду не я.
– Рад видеть вас, как всегда, в философском расположении духа.
– Извините, доктор Сидоню, видеть-то и я вас рад, – говорит старик, – да не рад, что я – пациент.
В поселке все, как сговорившись, зовут португальца Сидоню, и ему даже нравится, что его перекрестили: новое имя – шаг к тому, чтобы стать новым человеком. Он снисходительно улыбается больному старику:
– Стало быть, сегодня мы настроены пессимистически?
– Вот скажите, доктор, чем можно излечиться от моей болезни?
Разве что подцепить еще какую-нибудь, хочется сказать врачу, но он сдерживается и вместо этого рождает афоризм:
– Жизнь неизлечима, дорогой мой.
Старый Бартоломеу передвигает ногу за ногу, чтобы спрятать дырявый носок. Сам на краю могилы, а все думает, хорошо ли выглядит. Морщась от сигаретного дыма, он то вздохнет, то застонет.
– Видите синяки под глазами? На лице уже не умещаются. А печень? Печень вот-вот из носу полезет.
Для него печень – не орган. Печень – это такой флюид, растекающийся по внутренностям. Перед смертью человек превращается в бурдюк, полный желчи.
– И вдобавок я никак не сойду с этого проклятого корабля.
– Мутит?
– Мутит, да еще и качает, как хрен знает что, будто я до сих пор на той дерьмовой посудине.
Посудина – это трансатлантический лайнер «Инфант дон Генрих». В его машинном отделении, в мрачном, как нынешняя спальня, трюме, Бартоломеу Одиноку с десяток лет прослужил механиком. Он был единственным чернокожим членом команды, чем очень гордился. Потом всему пришел конец: колониальный режим пал, корабль сидел на мели, постепенно превращаясь в металлолом и ожидая, как и сам бывший механик, отправки на свалку.
– Вы весь в белом, как капитан корабля…
– Это всего лишь медицинский халат.
– Серьезно, я как будто еще на борту, в походе, даже плеск воды слышу…
Ностальгия и впрямь плещется в его глазах, когда он рассматривает выцветшую фотографию в рамке на стене. Там сам Бартоломеу среди курсантов и матросов с «Инфанта дона Генриха». Под фотографией – бело-зеленая эмблема Колониальной судоходной компании.
– Доктор Сидоню…
– Да, друг мой.
– Лекарство-то вы прихватили?
– Какое лекарство?
Старик грустно усмехается. Прикрывает глаза, мотает головой. Вздох размывает границу между смирением и упрямством.
– Ну то самое, доктор, длинноногое, сисястое, крутобедрое…
– Вы все еще настаиваете на этой идее, Бартоломеу?
– Сама идея на мне настаивает, доктор, только благодаря ей я еще жив.
И тут же напоминает скороговоркой, будто боясь не успеть. Ведь как было? Он перестал выходить. Сначала из дому. Потом из комнаты. Улица стала чужой, далекой, недостижимой страной. Так недолго и человеческий язык позабыть.
– Я ничего не чувствую, доктор. Я сижу сиднем.
И от постоянного сидения причиндалы его, как он сам рассказывает, свисают все ниже и ниже. Были в паху, отвисли аж до колен, висели до колен – теперь до щиколотки.
– Потому-то я носки и не снимаю. Мои интимные части волочатся по полу.
– Ладно, Бартоломеу, в конце-то концов, чего именно вы боитесь?
– Боюсь оттоптать себе помидоры…
Вместо смеха выходит кашель. Врач из солидарности тоже кашляет. Старик недоверчиво косится на него: не притворяется ли доктор? Потом жадно затягивается сигаретой, раздувая грудь, и снова принимается выталкивать слова. После каждой фразы – пауза.
– Раз уж сам я теперь не выхожу, доктор, может, вы мне вызовете на дом девчонку из таких… гладких, нарядных, пухленьких?
– Не знаю, не знаю…
– Видел по телевизору: теперь есть мулатки-блондинки, с голубыми глазами. Вот мне бы такую, доктор.
Надо, мол, растревожить сердце, растрясти тело, несчастное тело, исхудалое, но невыносимо тяжелое, переполненное печенью.
– Приведите мне малышку лет четырнадцати-пятнадцати, но чтоб не курила.
– Некурящую?
– По мне курящая женщина – тот же мужик…
– Рад, что мечты вас не покидают, пусть даже это недостижимые мечты о сисястых малолетках.
– Я мечтаю на полном и законном основании, доктор. Ведь если бы не любовь, вернее, если б не надежда на любовь…
Сдвинув колени, он созерцает свои ступни, будто смотрит за линию горизонта в тоске по временам, когда здоровья хватало на то, чтобы к телу относиться наплевательски. Теперь уверенности осталось совсем мало, жалобы – и те звучат неуверенно.
– Устаю мечтать. Мечты – это работа, собачья работа.
– Если бы вы не мечтали, давно собрали бы инструменты.
Инструменты разбросаны по полу. Бартоломеу отказывается убирать их в ящик.
– Мне с ними не так скучно, – оправдывается он. У доны Мунды для этого хаоса свое объяснение: муж все еще надеется, что его срочно вызовут что-нибудь ремонтировать.
– Вылечите меня от мечтательности, доктор.
– Мечты сами по себе лечат.
– Мечтатель бродит где-то далеко, ищет приключений, неизвестно, что творит и с кем… Есть у вас снадобье, чтобы мечты отбивало?
Врач смеется и мотает головой, достает из кармана стетоскоп, но больной, угадав его намерения, привстает, готовый удрать. Сидониу выпускает инструмент из рук, и тот падает между отверток, плоскогубцев и прочего инвентаря. Бартоломеу косится тревожно, как зверь:
– Все хвалят мечты, они, мол, дают нам то, чего не хватает в жизни. Наоборот. Приходится жить, чтобы отдохнуть от мечтаний.
– Когда вы мечтаете, вы как никогда живы.
– Зачем? Я устал быть живым. Быть живым и жить – разные вещи, доктор.
Врач осторожно проходит между инструментами, находит стетоскоп, протирает его полой халата, игнорируя пристальный взгляд пациента.
– Честно сказать, зря вы опять пришли.
– Не хотите, чтобы я приходил?
– Когда вы являетесь в мое вонючее жилье, то смахиваете скорее на могильщика, чем на спасителя. Будто кровать тронулась с места и везет меня в последний путь.
Он складывает горсти так, как будто прячет под ними живого голубя.
– И вообще, доктор, по-моему, вам нечего здесь делать. Я так одинок, что ни одна болезнь не решилась составить мне компанию.
– Мне лучше знать, больны вы или нет.
– Я помру здоровеньким. Перестану жить – и все.
Сидониу выучил наизусть привычки Бартоломеу: воскресенье – оконный день. Ближе к полудню старик, с трудом разжав тиски ревматизма, встает и плетется к свету, чтобы поглазеть на улицу. Прячась за занавесками, он мало что видит и почти ничего не слышит. Тем лучше: смазанные и размытые звуки уже никуда его не зовут. Однако он кивает и машет рукой. Зачем еще торчать в окне, как не затем, чтобы кому-нибудь помахать на прощание?
Глава вторая
В 1962 году Бартоломеу Одиноку было двадцать лет. Для него, неисправимого мечтателя, тот год был корабельным годом. Тогда он еще жил у моря. Два океана отделяли его родной город от порта, из которого трансатлантический лайнер «Инфант дон Генрих» отправился в свой первый рейс к так называемым заморским территориям.
Почти месяц спустя, прибыв в Порту-Амелия, ныне именуемый Пемба, корабль бросил якорь в отдалении от берега, ведь пристани в городе не было. Невероятная суматоха поднялась в бухте: мелкие лодчонки так и сновали туда-сюда. Португальцев на берег доставляли на закорках негры, чтобы господа не замочили ног.
Бартоломеу был подмастерьем у своего деда-механика, но в тот день так в мастерской и не появился. С утра он вызвался таскать на себе пассажиров, а остаток дня провел, любуясь судном. Ничто прежде не потрясало его так глубоко. Гигант, гибрид воды и суши, рыбы и птицы, дома и острова. Час проходил за часом, стемнело.
И только Бартоломеу собрался домой, как случилось чудо. На судне зажглись огни, и внезапно целый город, еще влажный, вынырнул из глубины. Потрясенный Бартоломеу твердил и твердил одну и ту же фразу, будто молясь какому-то еще нерожденному богу:
– Пусть корабль останется здесь насовсем.
Дома опоздавший на ужин юный Одиноку признался брату, что на закате, там на берегу, его осенило: корабль, понял он, – это длинноногая птица, сломавшая ноги о рифы, пытаясь взлететь с поверхности бухты Пемба. Брат туг же вынес вердикт:
– Знаю я, что у тебя в башке творится. Да что толку, братишка? Тебе эту палубу не топтать. Для черномазых – только каноэ.
Вмешался дед. Все не так. Тысячи негров покидали родные берега и отправлялись в долгое плавание на громадных морских судах. Сотни лет они уплывали и уплывали, и никто из них не вернулся назад. Дед повторил с нажимом, при каждом слове взмахивая трубкой:
– Не забывайте: мы были рабами.
– Вот бы мне в рабство, да на корабль, – пробормотал Бартоломеу так, чтобы его никто не слышал.
Перед сном он подошел к окну взглянуть еще раз на огни парохода. И снова взмолился:
– Ногу! Боже, пусть он сломает ногу!
На следующее утро Бартоломеу вскочил с постели, будто его подбросили: молитва подействовала. На судне паралич: авария. Вскоре к берегу подошла шлюпка: срочно нужен был хоть кто-нибудь, знакомый с техникой. Такая незадача: старший судовой механик со вчерашнего дня бредил и метался в горячке. Малярия не пощадила и его помощников. Дедушка собрал чемоданчик с материалами и инструментами и сказал внуку:
– Пошли.
Бартоломеу вступил на борт парохода с тем чувством, с каким другой, наверное, высадился бы на Луне. В глазах у него все плыло от восторга и, пока дедушка работал в машинном отделении, он бродил туда-сюда по палубе, не чуя под собой ног.
Ему так и не удалось разглядеть на берегу собственный дом: скопище домишек с корабля казалось ульем, в котором не разберешь, где чья ячейка, и от этого почему-то потянуло прочь, чем дальше, тем лучше. Жара поднимала над землей воздушные волны, все струилось и плавилось, будто мираж, Порту-Амелия вдруг показался погруженным в воду, география – вывернутой наизнанку: океаны стали континентами, а континенты – океанами.
Море – мастер разлук. Корабль покачивался, навевая сон, и юный Бартоломеу прикорнул в уголке палубы. Снилось ему, что его родной поселок превратился в корабль и устремился в открытое море. Он стоял на носу и выкрикивал: «Внимание всем! Черный континент отныне – океанское судно, бороздящее безграничные водные просторы!»
Встревоженные голоса из трюма разбудили юного мечтателя. С дедушкой в машинном отделении стряслась беда: видно, перестарался, пытаясь превзойти самого себя, и покалечил руку. Судовой врач оказал ему первую помощь; было решено, что Колониальная судоходная компания возьмет на себя все хлопоты и расходы на лечение. Дедушку доставили в Лоренсу-Маркиш. Внук отправился с ним. Капитан корабля по дороге проникся к парнишке симпатией, обещал ему крышу над головой, образование, жизнь в метрополии. Так все и началось.
В следующий рейс Бартоломеу Одиноку отправился помощником механика. Он ходил рейс за рейсом вплоть до падения колониального режима. И каждое плавание уносило его все дальше от самого себя.
Когда он отдыхал от очередной изматывающей морской страды на своей веранде, соседи спрашивали:
– А море, оно большое, Бартоломеу?
– Да не такое уж и большое. Континенты только очень уж далеко друг от друга расположены, – отвечал он.
После первого рейса родные признались ему, что, получив такой жирный куш за дедушкино увечье, молились теперь, чтобы и Бартоломеу тоже покалечился. Именно тогда он решил переехать. И выбрал для жительства поселок, напоминавший ему затянутый маревом берег, каким он увидел его с палубы. Он выбрал Мглу.
Глава третья
– Смотрю на улицу, а перед глазами – море.
Бартоломеу вяло машет пустоте, прежде чем задернуть занавески и вернуться в полумрак спальни.
– Вам стоит только захотеть, и вы увидите настоящее море.
– Я болен.
– Мне лучше знать, больны вы или нет. Мы могли бы съездить к морю вместе…
– Я не выхожу из дому доктор, вы же знаете…
– Знаю, но не понимаю.
– Если я куда поеду, то только вместе с домом.
Прожив на одном месте столько лет, мы уже не живем в доме, а сами становимся домом, в котором живем.
– Напялив стены на голую душу, – говорит старик, распределяя оставшийся в груди воздух между словами и усилием, с которым садится на край кровати.
Там он и остается сидеть в прострации, мусоля воспоминания. «Слушает, наверное, шум моря», – думает португалец, храня благоговейное молчание, пока Бартоломеу постукивает указательным пальцем правой руки по всем пальцам левой поочередно. И под конец бормочет еле слышно:
– Семь.
– Как вы сказали? – спрашивает врач.
– Семь походов…
– И осталось совершить восьмой, совсем коротенький поход, увидеть море. Как там поется? Добро пожаловать в мой дом у моря…
– Семь рейсов, если не считать тех, когда я удирал из дому.
– Вы убегали из дому?
– Да, но на других кораблях…
– Как это?
– Убегал с женщинами. Кажется, тоже раз семь…
Он опять считает на пальцах, останавливаясь на каждом, отвлекаясь на воспоминания. Потом прерывает счет, поднимает вверх свои корявые пятерни.
– Мои руки решили, что уже зима. Смотрите, какие холодные…
Врач трогает его ладонь. Оба так и замирают на некоторое время, взявшись за руки. Не потому, что расчувствовались: врач пользуется случаем, чтобы пощупать пульс. Старик дремлет. Как он сам говорит: «Старость – такое дело, ночь наступает, когда ей заблагорассудится».
Настоящей ночью механика мучает бессонница, жаркий озноб, ледяная лихорадка. Он боится закрыть глаза, выключить телевизор, на экран которого переносит свои тяжелые сновидения, непосильные мечты.
– Охренненный аппарат, доктор, за меня мечтает и сны видит, освобождает меня от этой собачьей работы.
– Мне бы хотелось вас прослушать, Бартоломеу. Знаю, что вы этого не любите, но…
– Мне не нравится, когда вы велите мне дышать, не дышать. Такие вещи по приказу не делаются.
– Но надо ж узнать, как ваши легкие, как сердце…
– Я держусь не сердцем. У меня другой якорь.
– Готов поспорить, что мечты.
– Память. Моя жена еще помнит обо мне. Мы уходим из жизни, когда нас забывают, а не тогда, когда умираем.
– Жена о вас помнит. И дочь тоже.
– А, Деолинда. Она-то точно помнит.
Он поправляет покрывало так, чтобы оно свисало до пола. Он знает: под кроватью дремлют привидения. Привидения и ящик из-под инструментов.
– Не люблю я дышать, когда вы тычете мне в спину этой вашей штукенцией. Последний вздох мой забирайте, так и быть, но это уж после смерти.
Под конец случается то же, что и всегда: больной сует врачу в папку пачку почтовых конвертов. Очередные письма, которые он просит отнести на почту. Сидониу пытается по буквам разобрать кое-как накарябанные адреса.
– Зря вы тут что-то высматриваете, доктор. Я пишу, как осьминог, пользуюсь чернилами, чтобы меня не было видно.
– Я не высматриваю. Я просто обратил внимание, что одно из этих писем адресовано Колониальной судоходной компании. Но разве она не закрылась?
– Должна же на ее месте быть какая-нибудь другая компания. Да хоть Неоколониальная судоходная… Кто его знает…
– Ну хорошо, я письмо отправлю, оно придет по этому адресу, остальное не в моей власти.
– Но я вас прошу, будьте осторожны… не показывайте письма и не рассказывайте о них нашему Администратору.
– На этот счет не беспокойтесь.
– Боюсь я этого Алфреду Уважайму.
– Но почему?
– Этот сукин сын ненавидит мое прошлое, говорит, что у меня ностальгия по колониализму…
Районный Администратор озабочен развенчанием культа Бартоломеу. Когда механик сходил на берег с борта «Инфанта дона Генриха», на него смотрели, как на героя – покорителя морей. Уважайму, чтобы развеять героический ореол вокруг деяний Бартоломеу, твердит: «Колонизаторам для показухи нужен был на судне один декоративный негр». Чернокожего держали на корабле не за его личные заслуги, а как оправдание бессовестной лжи о том, что расизма в португальской колониальной империи не существует.
– Сам он, мать его, декоративный негр.
– Спокойно, Бартоломеу. Не стоит так кипятиться: Администратор вас отсюда все равно не услышит.
– Да его просто зависть гложет… Погодите, я сейчас вам кое-что покажу…
Он с трудом выдвигает ящик гардероба и, наполняя комнату нафталиновым духом, вытаскивает зеленый флаг в белую полоску.
– Уважайму на коленях выпрашивал у меня этот флаг.
– На коленях?
– Думал, что это флаг «Спортинга».
– А это не он?
– Это флаг Колониальной судоходной компании. Сам он «Спортинг», этот чертов Администратор.
Уважайму снедает тайная зависть к чужому прошлому, куда двери перед ним захлопнулись навсегда. Сам он живет в настоящем, где ничем, кроме мундира, похвастаться не может.
– И не тоскую я по колониализму! Я тоскую по себе самому, по дочери моей, Деолинде… Скажите-ка, доктор, вы знакомы с моей дочерью Деолиндой?
– Не знаком, – лжет Сидониу.
– Вот я, отец, – и то не всегда был уверен, что знаю ее.
Он видел, как дочь растет, поражался тому, как она постепенно становится женщиной, после каждого рейса – все менее девочка, все менее дочь, все менее его. С каждой очередной побывкой – новые чувства, после каждой разлуки – новые неожиданности. И так без конца.
– Корабельная жизнь сделала из меня перелетную птицу, в голове у которой все перевернулось. Забывал, туда плыву или оттуда.
Столько раз уходя в море и возвращаясь, он стал путать уход с возвращением. Живя на море, он уже не чувствовал, что его родина – суша. Стал человеком ниоткуда, владельцем одной лишь волны, разлетающейся в соленые брызги.
– Не забудьте отправить письма, доктор.
– Не забуду, не беспокойтесь.
– Письма – мой единственный и последний пароход.
– А вот я, хоть и далеко от дома, даже не жду писем из Португалии.
У механика все иначе: жизнь будто выведена на бумаге, строчка за строчкой. Даже с женой, с ныне законной и наделенной всеми полномочиями Мундой, все было зарегистрировано и запротоколировано: официальное предложение, задаток за невесту[1], помолвка. До сих пор всякий раз, глядя на исписанный лист бумаги, он ощущает на губах вкус страсти, чует сладкий запах влюбленности. Даже рецепт врача, оставленный в изголовье кровати, кажется ему любовным посланием. Только поэтому он не рвет в клочья предписания доктора, которым все равно не следует.
Врач убирает стетоскоп и прочие инструменты. Он ими так и не воспользовался. Важно не спутать свои с обреченными на вечный отдых железяками Бартоломеу. Доктор уже в дверях, но старик останавливает его:
– Кстати, доктор, я плачу или плачу?
– Не понимаю.
– Я об оплате консультаций и визитов. Жена говорит, что они все оплачены. А я ничего толком не знаю…
Доктор смущен. Притворяется, что разглядывает что-то в коридоре. Кажется, на улице дождь. Так ли, нет ли, но мир перед ним сейчас – сплошная влажная пелена.
Глава четвертая
Супруга больного, дона Мунда, ждет в коридоре, согбенной спиной демонстрируя покорность судьбе. Но в голосе сквозит горький привкус нетерпения:
– Ну что я вам говорила!
– Не дал себя даже выслушать…
– Вы изучали болезни, доктор. А меня болезнь выучила.
– Страдания учат жизни лучше всякой школы.
– Я не о том. Я об этом человеке. Он – моя болезнь, доктор Сидоню.
В юности, слушая жалобы других женщин на судьбу, она не понимала, чего им-то не хватает, таким цветущим. Как же терзала ее тогда черная зависть! Для нее ни один возраст не стал порой расцвета. Когда-то мечтала быть не то что цветком – лепестком цветка, воспоминанием об аромате. Где теперь, осенью жизни, эти мечты?
– Видите, до чего меня довел? Кончилось мое время. Аж душа вся в морщинах.
– Да вы еще красавица, дона Мунда.
– Такие слова приберегите для моей дочери Деолинды.
Доне Мунде пятьдесят лет. Про возраст она помнит. Но, похоже, не уверена, что жива. Зато заранее чувствует себя овдовевшей. «Полувдова», прозвали ее в поселке. Потому и в доме все время темно. Когда вы заранее в трауре, врасплох вас горе не застанет: все уже готово к развязке. Сколько врач ни пытается ее переубедить, она-то знает: мужу скоро конец.
– Бартоломеу упоминал об оплате. Он что-то знает?
– Этот никогда ничего не знает. А чем меньше знаешь, тем больше подозрений.
– Я уже говорил, дона Мунда: то, что я делаю для вас – не работа. Ни о какой оплате речи быть не может.
– Теперь этому втемяшилось, что хватит мне стирать.
Мунда давно уже зарабатывает на жизнь, стирая белье для местной больницы. Но теперь, когда вспыхнула эпидемия, муж не хочет, чтобы заразное белье малохоликов попадало во двор его дома. Не важно, что простыни уже продезинфицированы.
– Ты сама знаешь, Мундинья, – убеждал Бартоломеу. – Микробов дезинфекция убивает, а духам хоть бы что…
Тем не менее приказ супруга не был выполнен беспрекословно, а, напротив, подвергся обсуждению. Порешили на том, что жена механика будет стирать белье, не стелившееся в изоляторе для малохоликов.
– Посмотрите на мои руки, доктор Сидоню. Вы тоже считаете, что руки у меня больные?
Врач смотрит на женщину, мысленно сравнивая ее с дочерью, Деолиндой. Дона Мунда – мулатка. В округе не слышали ни об одной другой мулатке, которая вышла бы замуж за негра. С ее стороны это был смелый шаг. Пришлось порвать с семьей, обвинившей ее в том, что она «портит породу». Бартоломеу Одиноку тоже вынужден был порвать со своими. Привести мулатку в семью – дерзкий поступок, более того: предательство. «Но она почти негритянка», – убеждал он. «Мулаты считают себя черными, только когда им это выгодно», – ответили ему.
В тот день, когда Бартоломеу Одиноку, в лучшем костюме лучшего друга, явился к родителям невесты, он торжественно заявил:
– Я не негр.
– А кто же ты тогда?
– Я мулат крайней степени мулатства.
Несмотря ни на что хваленая порода вопреки предсказаниям не «испортилась». Деолинда родилась светленькой, кожа у нее была еще светлее, чем у матери, ну а кожа в потаенных местах – и говорить нечего.
– Да, она действительно везде очень светленькая, – подтверждает Сидониу.
– А вы откуда знаете?
– Я врач, не забывайте, дона Мунда, – отвечает он, не моргнув глазом.
Но от греха подальше быстро переводит разговор на другую тему:
– Кстати, мне показалось, что наш Бартоломеу сегодня выглядит веселее и бодрее.
– Этот, – так она называет мужа, – этот все еще глазеет, как дурак, в окно на девушек…
В глубине души ей жаль его. Уже несколько лет у него слюнки текут, стоит ему увидеть на улице смазливую девчонку. Но появись в один прекрасный день в дверях пышная красотка, он бы остолбенел и не двинулся с места.
– Слюнявый пес не кусается.
Поражение, которое она ему предрекает, имеет для нее вкус победы. Чутье подсказывает доктору, что своими пророчествами она утоляет давно лелеемую жажду мести.
Сидониу ставит в угол зонтик и идет за хозяйкой на кухню. Предмет, обычный для него, в этой обстановке выглядит странно. Здесь никто не ходит в дождь под зонтиком. Просто пережидают дождь. Поселок Мгла знает только зонтики от солнца. В ясные дни можно прятаться от гнева царственного светила. Вот в пасмурные утра не стоит дожидаться, когда рассеется туман. Мгла, морось, вредоносная роса, давшая поселку имя, это пепел облаков. А облака здесь такие горючие, как нигде в мире.
– Правда, что ваш муж семь раз уходил из дома?
– Я не считаю, сколько раз он уходил, считаю, сколько раз возвращался…
– Так вернее.
– Говорю вам, доктор: я в выигрыше. Потому что возвращался он чаще, чем уходил.
– Однако странная бывает арифметика…
– Хотите верьте, хотите нет, я получала мужа назад с лихвой.
Она сыплет рис в решето. Перебирает рисинки так медленно, будто ласкает каждую. Грохочет гром, и вмиг смолкают стрекозы. Тишина на секунду становится шире саванны. Но проходит мгновение, и снова вступает пронзительный насекомий оркестр.
– Извините за неуместное любопытство, но я спрашиваю исключительно из профессиональных соображений. Во время этих семи побегов не подхватил ли он каких-нибудь болезней?
– Он бежал уже больным. Побег – это и есть его болезнь.
– Но с теми другими женщинами…
– С другими женщинами? Кто вам сказал, что были другие женщины?
– Так он не уходил из дома?
– Уходил, но не поэтому. Не все же в мире происходит из-за женщин, в конце-то концов…
– Извините, дона Мунда, мне не следует вмешиваться в вашу личную жизнь. Но я врач и должен знать, какие заболевания перенес мой пациент. В том числе, как ни прискорбно, и венерические.
– Мой муж всегда был мне верен. Он спал с другими, но мне не изменял никогда.
– Простите, не понимаю.
– Когда он изменял мне, я изменяла вместе с ним.
– Все равно не понимаю.
Вот какую стратегию изобрела она, чтобы направлять в нужное русло мужнино стремление налево. Ночью, пока он спал, она нашептывала ему на ухо непристойности, изменив голос, притворяясь другими женщинами. И подбивала его на что-нибудь остренькое, на игры, от которых щекотало нервы и мороз пробегал по коже. Она навевала ему сны, где он видел себя с самыми разнообразными любовницами. И так, во сне, удовлетворялся по самое немогу. Наяву муж принадлежал только ей.
– Он изменял мне. Но женщин, с которыми он изменял, никогда не было на свете.
– Теперь понятно.
– Всеми его шлюхами была я.
– Снимаю шляпу перед вашей изобретательностью, дона Мунда.
Слабая улыбка на ее лице – как редкие скромные цветочки в траве. Ни гордости, ни тщеславия.
– Сколько ж я с ним блядовала, доктор, – повторяет она. Но это не жалоба. Простая констатация. И под конец вздыхает: – В постели у женщины два счастливых мгновения: первое, когда мужчина на нее взгромождается, второе – когда мужчина наконец слезает с нее.
Она потряхивает рис в сите, чтобы выбрать мусор. Потом, преодолев себя, признается:
– Могу я вам сказать по секрету, доктор? Только во время того блядства мне было по-настоящему хорошо.
Но это время тоже прошло. Теперь она – ни жена, ни шлюха. Уже несколько лет, как они не спят вместе: у каждого своя комната, у каждого свои сны.
– Теперь мы – как кольцо и палец. Не нужны друг другу, но и врозь не живем.
Она и не думает спорить с судьбой. Стыд – единственный трофей тех бесславных битв. В остальном Мундинья разделяет судьбу всех женщин поселка: ей совестно, что родилась, она боится жить и жалеет, что до сих пор не умерла.







