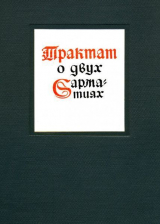
Текст книги "Трактат о двух Сарматиях"
Автор книги: Матвей Меховский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Ни о каких недостатках Ивана III, упорного и опасного врага Литвы и Польши, не упоминается.
Возьмем другую, еще более выразительную характеристику – Стефана, воеводы валашского. Это уже настоящий панегирик. «Он был, говорит наш автор, от природы одарен счастьем, хитростью и славен многими победами. Он одолел на войне короля венгерского Матвея в городе Банье и изгнал его из Молдавии, раненного в спину тремя стрелами, но не смертельно. Он с небольшим отрядом, как это ни удивительно, разбил и с позором прогнал Магомета, императора турок, со стодвадцатитысячным войском. Наконец, когда король польский, Иоанн Альберт, по заключении с ним договора и мира, полагаясь на слово, вел свое войско из Валахии в области его королевства, он вооруженной рукой преследовал его до крайних пределов своей страны[64]64
Разрядка наша – С. А.
[Закрыть]. Он часто разбивал и удачно отражал заволжских и перекопских татар. О, муж триумфа и победы, славно торжествовавший надо всеми соседними королями! О, удачливый человек, владевший полным рогом всех многочисленных даров судьбы! Что другим природа давала лишь частью: кому – благоразумие и хитрость, кому – героические доблести и славнейшую из доблестей – справедливость, кому – победы над врагами, всем этим он был щедро одарен сразу: он был вместе и справедлив и дальновиден, и хитер и победоносен против всякого нападения. По заслугам следует считать его в числе героев нашего века»[65]65
Хроника, IV, LXXXIV, стр. 375.
[Закрыть].
По-видимому, это и есть образец государя с точки зрения Меховского. Замечательно, что вероломство, позорящее неудачника Александра, в данном случае оказывается как будто одним из достоинств побеждавшего им Стефана, несмотря даже на то, что направлено это вероломство против Польши[66]66
Ср. А. Боржемский, о. с., стр. 155.
[Закрыть].
В оценках польских государей интересны относящиеся к Яну Ольбрахту и Казимиру III.
Характеризуя первого, не столь антипатичного ему, как Александр, и подчеркивая разные достоинства его ума и культурности, Меховский вменяет Яну Ольбрахту в вину то, что «хотя он умел и в советах и в ответах весьма кстати и умно рассуждать.., он не умел привести в исполнение хорошо намеченное дело и не добивался исполнения».
Наконец, описывая (по Длугошу) царствование Казимира III, как известно, не отличавшегося уступчивостью в борьбе с духовенством и за это постоянно и яростно осуждаемого Длугошем, Меховский, как и всегда, сокращает красноречивые длинноты своего источника, но тут сокращает таким образом, что непрерывная цепь обвиняющих короля фактов оказывается чрезвычайно краткой, а заимствуемому придается или нейтральная форма или даже некоторый оттенок сочувствия антиклерикальной группе[67]67
Достаточно проследить, как мало и в каком тоне отражены Хроникой враждебные описания борьбы Казимира с капитулами и папой за право назначения епископов (Длугош, о. с., XII [XIII], стр. 103, 131, 142, 309, 312, 314. 324, 332, 336, 360, 363, 368, 376, и др.) или столь же злобные сообщения об изъятии церковных ценностей и о назначении сборов с духовенства на военные нужды (ibidem, стр. 209, 214, 349), или, наконец, отметить совершенно спокойный (не в пользу духовенства) тон Меховского в рассказе о казни двух клириков краковскими городскими властями (ibid., стр. 220) с умолчанием об упоминаемой Длугошем инициативе короля в этом деле.
[Закрыть]. Король, при котором Польша достигла небывалого дотоле объема, король, умевший побеждать и добиваться своего, не мог быть осужден Меховским, хотя бы и вопреки сведениям главного его источника.
Какие же выводы можно сделать изо всех этих сопоставлений, помня при том, что в Трактате Меховский выступает в роли пропагандиста великой и победоносной Польши, горячо отстаивающего права нации на «генеалогическое первородство»?
Одно, по крайней мере, кажется нам совершенно ясным: сложившейся и цельной политической программы здесь, по-видимому, еще нет, но основной тезис ее, новый действенный политический лозунг звучит уже вполне определенно.
Если, по словам А. Брюкнера[68]68
A. Brueckner, Dzieje kultury Polskej, t. II, Krakow, 1930, стр. 20.
[Закрыть], «имя Макиавелли стало (для феодальной Польши – С. А.) пугалом, хоть «Государя» и мало читали», то для Меховского, учившегося в Италии как раз в то время, когда государственная практика Сфорца, Эсте, Медичи и прочих была как бы отражением (а в сущности, прототипом и источником) теорий Макиавелли, имя автора II Principe не было ни чуждым, ни пугающим. Уже А. Боржемский[69]69
О. с., стр. 155.
[Закрыть] заметил, что некоторые детали в отзыве Хроники о Стефане валашском «напоминают нам теории Макиавелли». Это не только меткое, но и весьма важное замечание подтверждается, мы полагаем, приведенными выше выписками. Меховский, по-видимому, если не ученик, то сторонник Макиавелли. Он ищет, ждет и требует от государя победоносных политических действий, твердости и настойчивости. Победоносный результат в его глазах оправдывает многие грехи. Можно быть уверенным, что если бы Меховский слышал, например, приветствие Стефану Баторию[70]70
Не желавшему быть rex fictus nec pictus, ср. А. Брюкнер, о. с., стр. 24 и 26.
[Закрыть], сказанное краковским ректором Яковом Горским, полное автократических намеков, он не только не осудил бы оратора, а скорее поддержал бы как поклонника сильной власти.
Такая точка зрения, как сказано, резко противоречила современной автору политической программе идеологов феодализма, отстаивавших, в конечном итоге, libertatem магнатов pro voluntate королей[71]71
С. Кутшеба, Очерк истории общественно-государственного строя Польши, СПб., 1907, стр. 60-66, 69-76, 80-83; Н. Любович, История реформации в Польше, Варшава, 1883, стр. 1-45; Jan Rutkowski, Histoire economique de la Pologne avant les partages, Paris, 1927, стр. 96 и сл.
[Закрыть].
Что он вообще не был сторонником аристократии, родовой и придворной, это видно по его оценкам корыстных побуждений можновладства (хотя бы при избрании Александра королем), по его нелестным отзывам о военных доблестях некоторых представителей знати, по его отношению к кругу Яна Лаского, по тому, наконец, что самое запрещение Хроники исходило из сфер правящей аристократии, обнаружившей таким образом открытую враждебность и к книге и к автору.
Таково же, примерно, отношение Меховского и к другой феодально-консервативной силе тогдашней Польши – к духовенству, хотя в этом случае официальное положение в церковной иерархии сильно вуалирует его подлинные взгляды.
И по тому, что нам известно из его биографии, и по свидетельству некоторых мест из его сочинений, Меховский в жизни резко отличался от обычного в его время типа духовного сановника – честолюбивого, корыстного, беспринципного интригана[72]72
Ср. А. Брюкнер, о. с., стр. 107, 116-117 и сл.
[Закрыть]. Поговорки, в роде clericus pluralis (имеющий много пребенд) est haeres infernalis, omnis ksiadz avaritia, zyje jak kanonik (т. e. распущенно) – к нему никак не относятся. Стоит отметить, с каким отвращением описывает он пьянство и обжорство знати (говоря о Литве, Тр. II.II.3 – в рассказе о росомахе) или, в каких выражениях характеризует умершего краковского профессора Иоанна де Канти, отдававшего нищим последние башмаки и ездившего в Рим не ради какой-нибудь тяжбы, как большинство, не для хлопот о канонии, епископии или пребенде, а из благочестия[73]73
Хроника, IV, LXIX, стр. 337-338.
[Закрыть]; стоит, наконец, еще раз вспомнить, с каким хладнокровием сокращает он филиппики Длугоша о королевских покушениях на деньги церкви, чтобы умозаключить, что бытовые и экономические устремления польского духовенства XVI в. были нашему автору чужды.
Так же обстоит дело и с политическими притязаниями клерикалов или клерикально-аристократического блока. В передаче Меховского настолько сглажены острые углы церковно-шляхетских отношений, отчетливо видные у Длугоша, что можно предположить только одно: автору Хроники были чужды политические домогательства духовенства.
Чьим же сторонником был этот враг феодалов и поклонник автократии?
А. Боржемский говорит: «Zajety wylacznie akademija i medycyna Miechowita nie nalezal do zadnego z istniejacych wowczas w Polsce stronnictw, w imie i dla pozytku ktorego pisalby swa kronika... Odbily sie w kronice jego przymioty i wlasciwosci».
С этим мнением мы никак не можем согласиться. «Партийность» Меховского нам кажется достаточно определенной.
Уже Длугош, рассказывая о назначении Казимиром III сборов с духовенства на военные нужды (1455 г.– в борьбе против Ордена), с ненавистью подчеркивает, что для проведения этой меры король, вместо «старых баронов и сановников», избрал «некоторых молодых людей из общей (шляхетской – С. А.) массы» и добился своего, так как эти новые сотрудники оказались верными слугами.
На такие же силы менее удачно желал опереться Ян Ольбрахт, делая «попытку усилить королевскую власть в духе гуманистических идей»[74]74
Ю. Мархлевский, Очерки истории Польши, М.–Л., 1931, стр. 87.
[Закрыть]. У Сигизмунда, говорит Ю. Мархлевский, «советчиками были люди, охваченные духом гуманизма и стремившиеся к усилению власти государя, что в те времена означало усиление центральной власти государства»[75]75
Ю. Мархлевский, о. с., стр. 94. Ср. Ф. Энгельс, О разложении феодализма и развитии буржуазии («Пролетарская революция», М., 1935, кн. 6, стр. 158). Сравним цензурную вставку Лаского в главу Хроники, где инициатива позорного буковинского похода Яна Ольбрахта тенденциозно приписывается советам гуманиста Филиппа Каллимаха (Буонаккорси).
[Закрыть].
Нам представляется очень вероятным, что к такой группе идеологически и принадлежал Меховский.
Это был сравнительно немногочисленный, но с начала XVI в. быстро расширявшийся круг высшей городской «интеллигенции», смешанного (шляхетско-бюргерского) состава по происхождению, но объединенной общностью политической установки и общностью мировоззрения. Процветание слагающейся нации, прогресс и величие государства люди этого круга ставили в неразрывную связь с укреплением королевской автократии, а в гуманистическом образовании, чуждом церковно-феодальных традиций и враждебном феодальному авторитету, они находили для себя и основы политического поведения. Из этого круга гуманистов немного позднее вышли деятели польской реформации; не чужды, вероятно, были ему и сатирические тенденции Рея или Кохановского.
Поскольку в XV веке (да и в течение всего долгого времени борьбы с феодализмом) «королевская власть (das Koenigtum) была прогрессивным элементом» (Энгельс, о. с., стр. 157), поскольку «все революционные элементы, которые образовывались под поверхностью феодализма, тяготели к королевской власти, точно так же как королевская власть тяготела к ним» (Энгельс, ibid.), политические тенденции польских гуманистов, в роде Меховского, были, бесспорно, наиболее передовыми для своего времени.
Сам по себе наш автор, конечно, не политический деятель.
В реальной политике он иногда просто наивен, ибо чем, кроме крайней наивности, можно объяснить, например, подробное изложение в Хронике скандального процесса четвертой жены Ягелло – Софии, при чем, помимо соображений и оговорок автора, ставится под сомнение законность рождения Казимира III, а следовательно и династическая правомочность царствующего в то время сына его Сигизмунда? Или, взяв другой пример, разве не свидетельствует об исключительной наивности указание в Хронике, что люэс впервые принесен в Краков одной женщиной из паломничества в Рим?
При всем том, нужно признать, что этот кабинетный ученый и такой наивный временами политик был все-таки одним из первых в Польше выразителей новой и прогрессивной политической идеи. Польша тогда, по выражению Энгельса (о. с. стр., 160), «шла навстречу периоду своего блеска». Сознание величия и значения ее свойственно было и аристократически-клерикальному Длугошу и рядовому шляхтичу, но лишь меньшинство (как сказано, часть шляхты и бюргерства) считало опорой этого «блеска» сильную королевскую власть.
В Хронике, как мы видели, налицо и это последнее убеждение (личное убеждение автора и его группы), в Трактате же находим только первую обще-шляхетскую точку зрения.
Отсюда – и упор Трактата на автохтонность поляков, и стремление (в связи с нею) опровергнуть обычную (Иордановскую) концепцию переселения народов, и тенденция всяческого возвеличения своей страны.
Что касается различий Трактата и Хроники в смысле субъективности, то тут возможно, кажется, лишь одно объяснение. Трактат писался не столько для Польши, сколько для Европы, он адресован urbi et orbi и в этом качестве особенно строго подчинен тому принципу, о котором Меховский говорит в письме к Андрею Кржицкому, предшествующем тексту Хроники: не писать дурного о своей родине[76]76
«Родная земля сладко влечет к себе всякого и не дает забыть о себе. Поэтому ни один здравомыслящий человек не станет оскорблять или порочить свою родину, марая, как грязная птица упупа, гнездо свое поношениями, клеветой или несогласными с правдой писаниями, а будет биться за нее, стараясь раскрыть и осветить чужим то, что служит к чести ее и справедливости» (перев. наш – С. А.).
[Закрыть]. Между тем Хроника имела главным образом педагогические цели, при том скорее местного, чем общего значения, предназначалась для «своих» и для поучения. Этим, вероятно, и объясняется ее относительная «партийность» и наличие в ней субъективного морализирующего элемента.
Научно-философские взгляды Меховского, в некоторой части, как мы видели, непосредственно обусловленные его общественно-политической позицией, вообще говоря, весьма противоречивы. Здесь сливаются воедино привычные архаические воззрения и новые критические тенденции, традиция и новаторство, вера и эксперимент.
Как верный сын католической церкви, автор Трактата верит в чудеса и с полным спокойствием рассказывает о море, отступающем перед церковью св. Клемента, о драконе и Хаджи-Гирее, о ледяной статуе, не растаявшей в огне и т. д. Он, по-видимому, искренно верит в то, что у литовцев, нарушавших святыню леса, «демонской силой» уродовались руки и ноги, а у лишенных языка жертв Гонорика сохранялся дар речи. Опровергая ложные измышления древних о севере, он сам тут же рассказывает такие вещи о духах и дьяволах, каким, наверное, не поверили бы ни Плиний, ни Аристотель.
Его историческое мировоззрение во многом архаично даже для его эпохи.
Он повторяет старую выдумку средневековых хронографов о потомстве Ноя и строит генеалогию вандалов-поляков методом формальной силлогистики: из небольшого числа книжных фактов, принимаемых за реальные, чисто логическим путем выводит следствия, которым склонен придавать значение фактов[77]77
Над подобными ложными генеалогиями издевался уже Эней Сильвий (De Bohemorum origine... Wolfferbyti, 1620, стр. 9-10; первое издание 1475 г. Перевод наш): «Те, кто хотели бы подражать богемцам, ища знатности рода в древности, легко могут вести его начало даже уже не от вавилонской башни, а от Ноева ковчега, от рая с его блаженством, от прародителей и чрева Евы, откуда все вышли. Все это, как старческое безумие, мы оставляем в стороне».
[Закрыть].
Совершенно очевидны астрологические увлечения нашего автора: он ими даже несколько щеголяет, тщательно отмечая явления комет-предвестниц, цитируя Птолемея, его арабского комментатора и Пьетро д’Абано.
С астрологией, однако, дело обстоит или вернее – обстояло в XV-XVI вв. не совсем так, как с церковной верой в чудеса. Для нас то и другое – отзвуки средневековья. Во время Меховского астрология считалась наукой, при том наукой, основанной на эксперименте, такой же, примерно, как нынешняя физика или астрономия. Между нею и церковной верой есть несомненное противоречие, сказавшееся, например, в судьбе Пьетро д’Абано. Он был таким же астрологом, как Меховский, попал за это в руки инквизиции с обвинением в занятиях магией, и только смерть избавила его от осуждения, а может быть и от костра.
Противоречия старой традиции и нового реалистического опыта – характернейшая черта научного мировоззрения Меховского, и астрология стоит как раз на грани между ними.
Натуралист и медик[78]78
Характерны мелочи в определении болезни Аттилы, как апоплексии, а болезни Витовта, как карбункула.
[Закрыть], автор Трактата постоянно ссылается на критерий опыта, «этого всеобщего учителя». Он противополагает факты, взятые из опыта, сведениям из книг. Судя по его фармацевтическим изобретениям, по его умению уже в то время понять значение гигиены и профилактики, по сопровождавшей его и оставшейся по нем славе великого врача, «польского Гиппократа», Меховский отнюдь не походил на учеников Аристотеля и Галена из комедий Мольера.
Во многом оставаясь еще человеком средневековья, в главных чертах своего мировоззрения он, наверное, сознавал себя и был уже ученым Ренессанса, реалистом и экспериментатором.
Его выступление против традиционных представлений о географии и населении Севера характерно для эпохи: книге и вековому авторитету противоставляется жизнь, опыт и наблюдение.
VII
О причинах успеха Трактата писалось уже не раз[79]79
Б. Дитмар, о. с., стр. 64; М. П. Алексеев, о. с., стр. 76-77 и др.
[Закрыть]. Позволим себе привести несколько новых соображений по этому вопросу.
Сочинение Меховского во многих отношениях оказалось созвучным эпохе, во многом отвечало ожиданиям и затронуло немало самых актуальных тем.
Трудно сказать, намеренно или случайно, но уже самое начало Трактата, несколько неожиданное, выбрано чрезвычайно удачно.
Почему, в самом деле, рассказывая о Сарматиях, автор начинает с Батыева нашествия, подробно и долго говорит о нем, касаясь и Руси, и Польши, и Венгрии, останавливаясь на деталях, именах и датах? Нам кажется, ответ и на этот вопрос и на целый ряд смежных с ним – в международно-политической обстановке конца XV – нач. XVI в. в Зап. Европе.
Тема о нашествии с востока в это время – одна из самых грозных. Турецкая опасность закрывает почти весь политический горизонт в восточных окраинах центральной и южной Европы. Не надо забывать, что гибель Константинополя для Меховского и его современников была не более давним событием, чем для нас, например, франко-прусская война; что последовавшие затем завоевания османов продолжались вплоть до смерти Мухаммеда II (1481 г.) и, если ослабели к концу века, то не перестали быть угрозой ближайшего будущего. В литературе конца XV в. еще звучат патетические призывы Энея Сильвия (Пия II) к крестовому походу против турок; донесения дипломатов, особенно итальянских, больше всего говорят именно о турках; необходимостью борьбы с ними мотивируются и диктуются политические союзы недавних врагов, объединения государств и искания средств обороны. Как мало обманчивы были эти опасения, видно уже из того, что не более, чем через 10-11 лет после выхода в свет Трактата, Сулейман Великолепный стоял под стенами Вены. Типично для эпохи и то, что сам автор Трактата, во время путешествия в Рим в 1499 г., едва не попал в плен и рабство к туркам, разорявшим тогда северную Италию.
В такое время книжка, повествующая о нашествиях диких орд гуннов или татар с востока, должна была читаться с интересом: говоря о далеком прошлом, она была актуальна и близка; читая о гуннах, помнили о турках[80]80
Все это относится к европейскому читателю. Что же касается Польши, то для нее именно татары были в это время, может быть, менее грозной, чем турки, но гораздо более непосредственной и близкой опасностью.
[Закрыть].
Главное, однако, было не в этом. Углубляясь дальше в книжку, читатель находил в ней живое описание Московии, а эта тема с конца XV века возбуждала пристальное внимание на Западе, занимая «дипломатов и ученых, торговых людей, художников, ремесленников и, наконец, просто авантюристов всякого рода, которых так много было в ту беспокойную эпоху». С одной стороны, тут действовали расчеты на московского князя, как возможного союзника или орудие в борьбе против османов; недаром в дипломатической переписке европейских дворов с конца XV в. регулярно сообщается о московских делах, и даже теоретики соединения церквей, в роде Альберто Кампензе, или духовные сановники, в роде Яна Лаского или Иоганна Фабри, рассуждая о церковных делах, прекрасно понимают, а иногда и не скрывают подлинный смысл унии и очень охотно сообщают не о количестве церквей или священников, а о силе московских войск. С другой стороны, основная тема Трактата задевала и торговые интересы, давая материал надеждам на приобретение либо нового рынка в самой Московии[81]81
И Меховский, и Иовий, и Герберштейн, и позднейшие говорят об отсутствии металлов в Московии, о привозном вине, о прекрасных мехах в стране, лекарственных и красящих растениях, воске и т. п.
[Закрыть], либо новых путей, путей транзитной торговли через нее с дальним Востоком в противовес установившейся португальской монополии в торговле с Индией[82]82
Ср. проект Паоло Чентурионе в передаче Иовия.
[Закрыть] и османскому господству на путях ближнего Востока.
Нельзя, наконец, упускать из вида и жажду новизны, новых открытий, научного прогресса, столь присущую Ренессансу. Весьма характерно в самом деле, что такой безразличный для политики и экономики вопрос, как вопрос об истоках Дона и о существовании Рифейских гор, не только вызывает внимание ученых[83]83
Ульрих фон-Гуттен пишет нюренбергскому гуманисту Пиркгеймеру о потрясающем впечатлении, произведенном на него известием о том, что Рифейских гор нет, и восклицает: «О что за время! как движутся умы, как цветет наука!» Ср. Epistolae Hutteni, изд. Буркхарда, стр. 54 и сл.
[Закрыть], но оказывается одним из предметов, поручаемых специальному изучению едущего в Москву имперского посла[84]84
О да Колло см. тщательную справку у М. П. Алексеева, о. с., стр. 83-86. Впервые – у Л. Н. Майкова, см. Летопись занятий Археогр. ком., вып. XII, 1901, стр. 334-135.
[Закрыть].
Трактат Меховского, таким образом, отвечал самым разнообразным вкусам и интересам, ожиданиям и запросам читателя XVI в.
Что еще должно было действовать убеждающе, это – самая форма выступления краковского ученого. В год написания Трактата Меховскому было уже 60 лет. Между тем его сочинение дышит свежестью и задором молодости. Один из внимательнейших ценителей Трактата[85]85
Отеч. зап., о. с., стр. 151.
[Закрыть] находит, «что все рассказы его носят на себе печать какого-то особенного незлобивого добродушия». Может быть, в некоторой части это и верно, но верно и то, что в Трактате не раз сказывается страстный полемический темперамент автора. Он сам верит в то, что открывает новый мир, и убеждает своей верой читателя. Его Трактат в высшей степени типичен, как новое слово в науке, вызывающее резкий сдвиг установившихся точек зрения и поворот на иной путь. Меховский решительно порывает со старыми авторитетами античных писателей. О живом и современном он говорит современным и живым языком: называет народы, места и вещи современными именами; без всякой торжественности и немецкой серьезности Герберштейна он просто и незаметно вводит даже точную транскрипцию географических и личных имен, стараясь приблизить ее к произношению; он приводит много слов на местных языках и т. д. Короче говоря – изображает живое живым, а не через призму мертвых известий давно истлевших свидетелей.
Маленькая книжка (и в этом тоже ее достоинство!), написанная таким образом, первая печатная книга о Московии, не могла не иметь успеха.
Как и часто бывает с такими боевыми произведениями, открывающими новый путь в науке, Трактат не миновал кое в чем и ошибок, именно в результате новаторских увлечений автора. Однако, если даже это и ошибки, они вполне извинительны и естественны.
В чем, строго говоря, поправляли Меховского его критики[86]86
Не говоря о собственных ошибках оппонентов в самом процессе «правки» Меховского.
[Закрыть], да Колло и Герберштейн, или колеблющиеся последователи в роде Павла Иовия? В вопросе о Рифейских горах. Меховский так горячо и упорно отрицал существование Рифейских и Гиперборейских гор и даже всяких вообще гор в Московии, что, хотя при этом мимоходом и признал существование гор в Югре и по берегу Северного Океана, его читатели просто не заметили этого и, каждый по своему, стали подтверждать наличие Рифейских гор, разумея под ними те, что Герберштейн назвал Поясом мира, то есть Урал. В излишнем заострении своего тезиса наш автор формально делал ошибку, но это была одна из тех плодотворных ошибок, без которых нет движения в науке и нет ее развития.
VIII
Каково же значение книжки Меховского для нас и для современной науки?
Первый по этому предмету высказался К. Мейнерс[87]87
Этот известный ученый, «гофрат короля Великобритании и ординарный преподаватель мироведения в Геттингене», а впоследствии сотрудник русского м-ва нар. просв. при Александре I, мог бы быть, между прочим, недурным авторитетом для сторонников «расовой теории»: доказывая, что негры – низшая раса, он давал оружие «науки» в руки рабовладельцев.
[Закрыть] (о. с., стр. 4), и как ни мало основательно местами его суждение, обойти его нельзя. Прочитавши Трактат в итальянском переводе в сборнике Рамузио, Мейнерс прежде всего впал в недоумение перед вопросом, когда впервые он был напечатан (!), и предположил, что первое издание давно утрачено. Он стал было даже теоретически высчитывать возможное время написания Трактата и, исходя из того что, по словам Меховского (II.II.2), крещение Югры произошло «около двадцати лет назад», а по другим источникам (Герберштейн), Югра покорена в 1518 г.[88]88
На самом деле последний московский поход в Югру был в 1499 г., и в завещании Ивана III уже перечислены Югра, Печера, Пермь Великая. Ср. Соловьев, История, I, стб. 1422-1423, 1498.
[Закрыть], пришел к заключению, что написан Трактат в 1538 г. (!), и лишь по письму Ульриха фон-Гуттена к Пиркгеймеру убедился в своей ошибке. В дальнейшем, полагая (будто бы на основании сказанного в Трактате), что Меховский был в России и своими глазами видел истоки Днепра, Дона и Волги, Мейнерс удивляется его ошибке с местом впадения Волги.
Общая оценка Трактата у него такова: «Большую часть книжечки – говорит он – занимают ложные или полудостоверные сказки о происхождении, нашествиях и местожительстве татар, о родине готов, вандалов, аланов, свевов, турок и венгров, при чем последних он называет юграми. Он различает Россию и Московию, как совершенно разные страны, причисляет к России не только Украину, но даже Литву, которой придает столь широкие границы, что туда входят и Новгород, Псков и т. д. Его известия о Московии и о зависимых от нее странах, Перми, Башкирии, Черемисе, Югре, Кореле заполняют только три листа in f°. Описание Московии не только весьма неполно и сбивчиво, но и полно ошибок, так как он вводит туда много областей или княжеств с именами, которых никто никогда не слышал. При всех своих недостатках, он был отличным проводником для Пиркгеймера, поскольку последний в своем Explicatio Germaniae касался Европейской Сарматии, а также для Себастиана Мюнстера». Вместе с тем Мейнерс признает, что «книга этого человека о двух Сарматиях была первой, которая, так сказать, открыла Россию и пограничные с ней татарские страны остальной Европе».
Из всего сказанного немецким ученым бесспорны лишь два последние замечания. Все остальное – либо результат очень небрежного ознакомления с текстом Трактата (при том и не в подлиннике), либо – отсутствия должной исторической перспективы. В частности, «сказки о нашествиях и происхождении татар» по проверке оказываются в достаточной (для XVI в.) степени достоверными, а, может быть, даже содержат кое-какой новый материал в дополнение к нумизматической, актовой и летописной документации. Княжеств с «неслыханными именами» у Меховского вообще нет, как нет и названия Украины, а разделение Руси и Московии или включение Новгорода и Пскова в Литву – только отражает номенклатуру, реально существовавшую в политической географии XVI в., или (о Новгороде и Пскове) – ложные политические претензии на господство, также (как претензии) имевшие место. Известия собственно о Московии действительно занимают в Трактате сравнительно немного страниц, но это не единственная тема, интересная для современного читателя, а с присоединением к ней известий о южной Руси, Литве и Татарии, она охватывает большую часть Трактата.
После оценки Мейнерса следующая по времени принадлежит автору уже упоминавшейся статьи в Отеч. Записках[89]89
Это был, по мнению М. П. Алексеева, М. Корф.
[Закрыть]. Отметив, впрочем, довольно мягко, неосновательность выше приведенных упреков Мейнерса, автор статьи говорит о Меховском (о. с., стр. 151-153): «Есть, конечно, много неверностей в его книге, но прочитавший ее всю со вниманием, обвинит скорее некоторых из тогдашних соплеменников наших, не хотевших или не умевших оценить благородной его пытливости касательно всего, что относится к нашему отечеству, и сообщивших ему вещи небывалые. Зато некоторые из показаний Меховского имеют, видимо, характер достоверности и могут служить подтверждением и частью дополнением местным источникам». Упрекать Меховского в дефектах мировоззрения значило бы, по мнению того же автора «требовать от человека XVI века понятий и взгляда XIX и, вдобавок, забывать, подобно Мейнерсу, о многих светлых сторонах его сочинения».
Позднее Меховским, как говорилось уже, много занимался Е. Замысловский; в своих исследованиях о Герберштейне и Себастиане Мюнстере он неоднократно с большой похвалой отзывается об авторе Трактата, но общей оценки его не дает.
В. О. Ключевский в «Сказаниях иностранцев», делая ссылки на Трактат, видимо, несколько недооценивал его взаимоотношения с некоторыми его подражателями: он ставит наравне с данными Меховского, а иногда и впереди их, показания Альберто Кампензе, только копирующие Меховского.
В последние годы Трактатом интересовались два исследователя – Б. Дитмар, посвятивший ему в 1928 г. статью в журнале «Землеведение», и М. П. Алексеев, собравший богатый библиографический материал о Меховском в специальном экскурсе в книге «Сибирь в известиях иностранных путешественников и писателей» (Иркутск, 1932). Оба исследователя дают положительную оценку Трактату. Б. Дитмар отмечает, что автор «обстоятельно знал географическую литературу: он ссылается на Птолемея, Аристотеля, Плиния, К. Тацита ...», «отнесся к своей работе вдумчиво и добросовестно»; Б. Дитмар находит, «что вместе с К. Мейнерсом можно по справедливости сказать, что Меховский впервые открыл Европе Россию» (о. с., стр. 74-75).
М. П. Алексеев, включая в общую характеристику эпохи суждение о Трактате, отмечает новаторские тенденции автора и его смелость в разрыве с авторитетами прошлого, а в общей оценке поддерживает отзыв Б. Дитмара.
Из этого краткого обзора видно, что Трактат еще не получил ни полной, ни должной оценки. Между тем он стоит ее.
Прежде всего – это одно и самых ранних для нового времени известий о странах и народах СССР[90]90
Известия Иозафы Барбаро и Амброждо Контарини, напечатанные ранее Трактата, во-первых, были сравнительно мало известны, а во-вторых, гораздо менее содержательны.
[Закрыть], при том одно из своеобразнейших по непосредственности изложения. Следовавшие за ним более подробные или более точные сочинения о России уже к началу XVII в. отодвинули Трактат на задний план: он потерял значение важнейшего (сначала чуть ли не единственного) источника осведомления, но и после этого отнюдь не утратил определенной собственной ценности.
Произведение, в исторической части по преимуществу компилятивное, Трактат даже и там – в оригинальных местах – сохраняет интерес первоисточника; в части же географии и этнографии он почти всегда самостоятелен и почти целиком является первоисточником.
С другой стороны, Трактат представляет собой любопытнейшее явление в истории науки: он стоит на водоразделе традиционно-схоластических течений средневековья и научно-критического метода нового времени, отражает острую (в конечном итоге все ту же классовую) борьбу прошлого с надвигающимся новым, церковно-феодального авторитета с революционным сознанием новой буржуазной науки, а в некоторых взглядах автора (чем бы они ни диктовались) удивительно совпадает с выводами или конъектурами наиболее передовых исследований нашего времени. Мы имеем в виду своеобразную трактовку Меховским готского вопроса в противовес Иордану (и, следовательно, нынешней фашистской историографии) и его положение об автохтонности славян на территории Восточной Европы.
Наконец, бесспорно значение Трактата в истории изучения территорий и народов нашего Союза.
Это первое появившееся в печати описание Украины, РСФСР, Татарии, Крыма и др. в полной мере заслуживает внимания советского читателя.
С. Аннинский.








